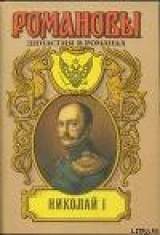
Текст книги "Николай I"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 58 страниц)
Надежда Фёдоровна, младшая Львова, с которой он должен был выступить на празднике в каком-то характерном танце, уже вторую зиму выезжала в свет. Но тем не менее ни в лице её, ни в манерах не было даже отдалённого намёка на то, что так решительно и быстро спешит усвоить себе любая барышня её возраста. В том обильном и разнообразном арсенале, который природой и светским мнением предоставлен для лёгких бальных флиртов, для почти обязательного кокетства, как будто для неё не нашлось никакого оружия. Она и с кавалерами разговаривала, как с товарищами детских и невинных шалостей, и улыбалась она так, будто её совершенно не интересует – к лицу или не к лицу ей эта улыбка. Евгений Петрович заметил, что она очень осторожно сторонится людей с установившейся репутацией волокит и повес, без преувеличенного лицемерия или зависти отзывается об успехах подруг, и это-то, вероятно, и вызвало в нём нечто похожее на почтительное восхищение.
«Да, да. Вот такая, именно такая может быть по-настоящему преданной, – думал он не раз, возвращаясь от Львовых. – Такой бы я не побоялся открыть и себя, если бы…»
До конца он не решался выговорить даже и себе.
Праздник открылся торжественной кантатой, специально написанной к этому дню Алексеем Львовым, тогда уже прославленным автором русского гимна. Кантату исполняли певчие придворной капеллы, их мастерское исполнение сразу придало холодок официальности празднику. Той беспечности и дружественной простоты, с которой проходили для Евгения Петровича часы репетиций, не осталось и следа. Уже костюмированный, стоял он у дверей боковой комнаты, ожидая своего выхода. Зал, превращённый на этот раз в концертный, сверкал сотнями свечей. В рядах блестели почтенные лысины, играли бриллианты и горели золотом мундиры. В первом ряду между Бенкендорфом и хозяином сидел Михаил Павлович. У великого князя был рассеянный, скучающий вид. Играя лорнеткой, он чуть склонил набок голову, снисходительно слушал, что говорил ему на ухо хозяин. Едва прогремела последняя нота кантаты, он поднялся с места. Тотчас же встал и весь зал. Старик Львов, изогнувшись, засеменил вслед за ним. В дверях великий князь сделал общий поклон и вышел из зала.
– Сейчас наш выход, – шепнула Надежда Фёдоровна.
– Хорошо-с.
Самсонов смотрел не отрываясь на то место, где только что сидел великий князь.
– Пожалуйте. Ваш выход, молодые друзья, – шепнул, слегка подталкивая их к двери, Алексей Львов, распоряжавшийся концертом.
В школе, в юнкерском мундирчике, выступая перед высокими посетителями, переживал Евгений Петрович нечто подобное.
Зал с эстрады показался изменённым и незнакомым. Десятки устремлённых на него взглядов мешали найти и увидеть тот, который он так старательно ловил. Как на экзамене, казалось, только в нём одном можно было прочесть свою судьбу.
У Бенкендорфа шея не держала больше головы. Серо-пепельная от седины грива, казалось, росла прямо из золотого шитья эполет. Рядом лысый череп старика Львова отражал игру свечей. Сложные и медлительные па какого-то необыкновенного восточного танца, выдуманного для этого вечера домашним балетмейстером, всё же позволили Самсонову заметить кое-что из происходившего в зале.
Перенося через своё плечо руку Надежды Фёдоровны, он незаметно и мгновенно прикоснулся губами к кончикам её пальцев. Её глаза были почти рядом, голубые, по-детски удивлённые, сейчас они – или это только показалось – подёрнулись тёмной пеленой.
После, часто вспоминая это мгновение, Евгений Петрович был почти убеждён, что его судьба только потому и решилась тогда, что ответом на этот поцелуй было безмолвное короткое пожатье.
Разгримированной и сменившей на обычный бальный наряд свой маскарадный костюм Надежды Фёдоровны он не узнал. Она показалась совсем другой, сразу похорошевшей и выросшей.
– Вы все танцуете со мной, – шепнул он торопливо не сказанное перед концертом приглашение.
Ответом была нежная и благодарная улыбка. В вальсе, проходя по внешнему кругу зала, Евгений Петрович почувствовал, что на него смотрят пристально и насмешливо.
– Кто этот маленький гусар в углу за нами? – настораживаясь, спросил он у своей дамы.
Надежда Фёдоровна засмеялась.
– Ах, я не знаю, зачем только его принимают у нас. Этот кривоногий уродец, вероятно, потому и мнящий себя лордом Байроном, всем говорит ужасные дерзости. Кажется, он пишет стихи. Наверное, жалкий вздор.
Маленький гусар не танцевал весь вечер. Проводил он Самсонова всё тем же насмешливым и ленивым взглядом. Потом, подавляя зевок и только придерживая рукой не прицепленный на крючок, как это делали все светские кавалеристы, свой громыхающий палаш, он неровным, припадающим шагом, по-английски, ни с кем не прощаясь, прошёл к выходу.
Лакей в передней накинул ему на плечи серую с капюшоном шинель, и он сразу стал ещё более сутулым и неуклюжим. Белый султан затрепетал в дверях от струи морозного воздуха. Непридерживаемые полы шинели хлюпали на шагу.
– Сани корнета Лермонтова! – гаркнул жандарм у подъезда.
С противоположной стороны, от массы стоявших там экипажей, отделились и поплыли на свет две серые конские головы. Полозья с раската ударились о каменный тротуар.
– Домой прикажете, Михаил Юрьевич? – откидывая полсть, спросил кучер.
– Нет… А впрочем, пошёл домой, – махнул рукой Лермонтов и, запахивая шинель, стал садиться в сани.
На Мойке, в доме Ланского, занимаемом «гвардии поручицей Елизаветой Алексеевной Арсеньевой»[138]138
Арсеньева (урожд. Столыпина) Елизавета Алексеевна (1773 – 1845) – бабушка Лермонтова со стороны матери, сестра деда реформатора Петра Аркадьевича Столыпина – Дмитрия Алексеевича.
[Закрыть], в верхних окнах был свет.
Лермонтов осторожно, стараясь не шуметь, сбросил в передней шинель, отстегнул палаш, спросил вполголоса: «Легла ли бабушка?» – и, стараясь ступать возможно неслышно, поднялся по лестнице наверх.
За дверью, из-под которой узкой полоской проникал свет, слышалось монотонное бормотанье. Лермонтов толкнул дверь.
– Аким, ты почему дома?
Белокурый юноша в юнкерском мундире артиллерийской школы отбросил от себя книжку, вскочил с дивана.
– Мишель! – воскликнул он радостно. – Какой ты чудак, где же мне быть? Ведь сегодня суббота, а в понедельник у нас репетиция из химии.
– А!
Лермонтов, по-видимому, был занят своими мыслями. Не глядя на юношу, он подошёл к столу, тронул лежавшую книжку.
– Что это? Химия? Тебе не надоело? Хочешь, перед сном одну партию в шахматы?
Юнкер с поспешностью кивнул головой. Он сдвинул на столе в одну кучу карандаши, перья, бумагу, стал расставлять на доске фигуры.
– А ты где пропадал до сих пор? – спросил он с лёгким упрёком. – Бабушка долго не хотела ложиться, всё ждала тебя.
По лицу Лермонтова пробежала печальная и жалкая улыбка.
– Бабушка очень огорчалась? – выговорил он глухо, словно с трудом. – Это очень нехорошо, Аким, с моей стороны доставлять ей огорченья. Ну что же поделаешь, видно, такой уж я потерянный человек.
И тяжело вздохнул.
– Ну, давай. Твои чёрные?
Он отстегнул и сбросил с плеча ментик, опускаясь на диван, расстегнул шнуры доломана.
Дверь осторожно приоткрылась. Рослый лакей в денщичьей форме лейб-гусарского полка появился на пороге.
Лермонтов посмотрел на него строго.
– Вас нешто укараулишь, Михаил Юрьевич, – ухмыльнулся лакей, видимо, ни капли не смущаясь строгого взгляда своего барина. – Вы вон как кошка по дому ходите.
Лермонтов погрозил ему пальцем.
– А это что у тебя? Письмо? Чего ж держишь?Он почти выхватил из рук лакея письмо, поспешно разорвал конверт.
– Ну, ну, Аким, можешь думать сколько тебе угодно, – бросил юнкеру, принимаясь за чтение.
– Шах вашему королю, – торжествуя, воскликнул Аким и вдруг осёкся.
Лицо его партнёра вдруг страшно переменилось. С татарских выдающихся скул слетел весь румянец, побелевшие губы непрестанно подёргивались.
– Миша! Что с тобой, милый?!
– На вот, прочти, – задыхаясь, выкрикнул Лермонтов и бросил на стол письмо.
Затем он с шумом отодвинул, вскакивая с дивана, стол и выбежал из комнаты.
На доске зашатались и попадали фигуры. Белый король, откатившись, секунду держался, словно в нерешительности, на краю стола и с одиноким пустым звуком упал на пол.
Аким не успел дочитать и до половины, когда в комнату с встревоженным видом вбежал бледный молодой человек в синем чиновничьем фраке.
– Что тут случилось? – воскликнул он взволнованно. – Мишель приехал?
Юнкер вместо ответа с грустным выражением протянул ему письмо.
– И знаешь что, Святослав, – сказал он, волнуясь, – я и сам потрясён не меньше Мишеля. Это одна его знакомая пишет, что Варенька Лопухина выходит замуж[139]139
Лопухина Варвара Александровна (1815 – 1851) – предмет увлечения Лермонтова с 1831г., в 1835 г. вышла замуж за чиновника Бахметева.
[Закрыть]. Едва он прочёл это письмо, как вскочил из-за стола с таким видом, как будто ему сообщали о смерти самого близкого человека. А ты помнишь, мы ещё недавно поссорились из-за неё с ним. Я думал, юнкерская фанфаронада заставляет его презирать, называть ребячеством всё чистое и хорошее. Нет, нет, теперь-то я вижу, что всё это только напускное. Чувство его к Вареньке неизменно, оно велико и серьёзно.
Святослав молча покачал головой.
В доме старухи Арсеньевой Мишель был кумиром не только одной бабушки. Его решительно боготворили и все живущие там. Но между детским восторгом и обожаньем младшего его кузена, Акима Шан-Гирея[140]140
Шан-Гирей Аким Павлович (1818 – 1833) – троюродный брат Лермонтова, артиллерийский офицер.
[Закрыть], и безграничной, какой-то фанатической преданностью Святослава Афанасьевича Раевского[141]141
Раевский Святослав Афанасьевич (1808 – 1876) – чиновник министерства финансов, литератор, этнограф, друг Лермонтова. За распространение стихотворения «На смерть поэта» сослан в Олонецкую губернию.
[Закрыть] лежала непроходимая пропасть.
Внешне Раевский как бы стыдился этого своего преклонения. Втайне он почти с болью не раз спрашивал себя, может ли он хоть в чём-нибудь отказать, чего-либо не сделать ради Мишеля?
Откуда-то из самых глубин его сердца поднималось, как вздох: «Нет, не могу».
Это был не по годам серьёзный и молчаливый молодой человек. Он был беден, вместе с матерью, дальней родственницей Арсеньевой, проживал в её доме чуть ли не из милости. Юношеское самолюбие жестоко страдало, подвергаясь постоянным испытаниям. К богатым и беззаботным привилась прочная, ничем не вытравляемая ненависть, а вместе с тем в Мишеле его восхищала даже его гусарская бравада, даже любая скабрёзная шутка. Любой жест, любой поступок Мишеля имел для Раевского какую-то особую значительность. Он легко забывал любую обиду, в любую минуту готов был прийти на помощь и с дружбой к этому беспрестанному обидчику.
И сейчас, ничего не ответив Шан-Гирею, только сокрушённо покачав головой, он пошёл к Мишелю. Ему казалось, что тот должен сейчас очень страдать, ему нужен друг и утешитель. Умилительное чувство жалости и сочувствия переполняло сердце.
За дверьми раздавались мерные настойчивые шаги, мягко по ковру звенели шпоры.
Раевский открыл дверь.
– А, Святослав! – останавливаясь посреди комнаты, воскликнул Лермонтов. – Входи, входи.
Он смотрел на Раевского весёлыми, смеющимися глазами. Потом, словно вспомнив что-то, с отчаянным смехом бросился на оттоманку.
– Слушай! – катаясь по ней и задыхаясь от хохота, кричал Лермонтов. – Я сейчас представил себе, как ты будешь выглядеть, если влюбишься. Это будет нестерпимо глупо, уверяю тебя. Я сегодня был на одном вечере… Нет, это я должен тебе рассказать. Представь себе пехотного адъютанта, который не может оторваться взглядом от своего аксельбанта. Ну вот, у этого адъютанта морда такая, будто он подходит к причастию. Погоди, погоди, Святослав… Он танцевал, у его дамы такой вид, будто с ней сейчас произойдёт какой-нибудь флотский казус. Это значит, – ты знаешь, что это значит? Это значит, что они только что объяснились. Вероятно, это очень тяжёлое состояние – пробыть весь вечер с такой мордой. Впрочем, я убеждён, что адъютант прямо с бала поедет на Васильевский или к Московской заставе, если только у него дома не пристроено для этой цели какого-нибудь громоотвода. А его предмет – нет, это замечательно! – я могу тебе рассказать, что будет с ней. Это очень добропорядочный дом, живут по старинке, следовательно, горничная у девицы должна быть рябой и толстой, платье на ней домашнее, с четырёхугольной тальей, внизу уже, чем сверху, ноги хлопают в грубых башмаках без ленточек. Вот такая-то горничная, с сонными глазами и зевая, придёт раздевать свою барышню. Когда она будет снимать с неё туфли, та наконец не выдержит – нужно же кому-нибудь излиться в чувствах! – и начнёт воспевать пехотного адъютанта. Горничная, конечно, икнёт, скажет при этом «простите, барышня», барышня на неё разгневается, у ней пропадёт её мечтательное настроение, но сны, уверяю тебя, Святослав, она будет видеть в эту ночь такие приятные сны, каких до сих пор ещё не видала. Никогда не влюбляйся, Святослав.
– Чем ты так раздражён? – тихо спросил Раевский.
– Я? Ты смеёшься: я весел как никогда. А впрочем… – лицо Лермонтова сразу перестало смеяться, сделалось грустным и беспокойным. – Я сейчас пытался сесть за своего «Оршу», и вот ничего решительно ничего не выходит. Нет, нужно заболеть хоть на месяц, иначе от этих порханий я совсем разучусь писать.
– Да, правда, ты за этой светской жизнью совсем бросил стихи, – живо подхватил Раевский.
– Ну, ты уж обрадовался! Не стихи, Святослав, важны, даже и не стихи. Важно чувствование. А впрочем, чёрт знает что важно! Я и сам не могу понять этого.
XIIИмелось постановление, вынесенное кабинетом министров ещё при Александре, что «партии уголовные в Сибирь надлежит направлять с таким расчётом, чтобы большая часть пути протекала во время летнее».
Но «у казённого гвоздя и шляпка – денежка, сумей только выколотить».
В зимние короткие дни переходы должны быть по крайней мере вполовину короче летних.
Как ни скуден арестантский рацион, но и с него, как с гвоздя шляпка, быть неминуемо доходу. Арестантские партии всегда норовили составить к отправке зимой либо осенью.
Мутное, в тумане и морозной пыли, утро никак не могло разодрать глаз. Словно сквозь слипшиеся от тяжкого сна веки смотрело оно на белую унылую землю.
За заставой Московский тракт оглашался глухим непрестанным звоном. Под сотней давивших его ног скрипел снег. Скрип с каждого шага подхватывало бряцанье кандалов.
Закованными шли только приговорённые к каторжным работам и арестантским ротам. Таких в партии было человек тридцать. Впереди них в ямских санях шагом ехал конвойный офицер, за ним, окружённые цепью солдат, гремели бряцающим шагом кандальные; дальше конвой редел, шли ссыльные, тянулись обывательские пошевни[142]142
Пошевни – широкие сани.
[Закрыть] со скарбом, детьми, слабосильными и «вольноследующими». За ними расплывчатым серым силуэтом, как разминувшийся прохожий, отходил и отставал город.
За заставой в шесть троек укатанный тракт по раннему часу был ещё пустынен. Изредка, заглушаемое звоном кандалов, летело: «Пади!»
В последних в обозе пошевнях, среди груды арестантского скарба, сидели три женщины. У двух на руках были дети, третья, занимавшая самое удобное место, держала на коленях только связанный в ковровый платок узел. Первые две, старообрядки, целой семьёй отправляемые в ссылку, поглядывали на неё порой не то с робостью, не то с завистью. Только седой как лунь старик, сидевший рядом с возницей, смотрел на неё неодобрительно и сурово.
Конвойный унтер-офицер, притулившийся с краю саней потянуть трубочку, говорил, ни к кому не обращаясь:
– Наше дело служивое. Был, служил. В отставку стал выходить, языком что-то не так наработал.
Он помолчал, улыбаясь благодушно и незлобиво. Потом заговорил опять всё с той же улыбочкой:
– Тридцать два года в службе из меня шкуру барабанную делали, а тут напослед отодрали по-гвардейскому, по-настоящему, да в гарнизон. Спасибо хоть лычки оставили. Промеж мужиков и бурмистр барин. Вот так-то.
Он в горсти высек огня, стал раскуривать трубку, а раскурив, продолжал, не меняя тона:
– Жаловаться ещё пока что нечего: хуже бывало, только вот в чём обида и несправедливость страшная…
Лицо у него вдруг нахмурилось. Обращаясь к сидевшему в санях старику, заговорил по-другому, обиженно и резко:
– Вот, вот, это самое. Крест, за кровь собственную данный крест Егорьевский с грудей сорвал и ногой затоптал. Лычек не лишил – иди, мол, на выслугу – это тоже неправильно: разжаловать полагается, если на выслугу. А вот крест, крест как, если даже и не разжаловали? Этого и царь не может.
Старик посмотрел на него сурово, скороговоркой, как про себя, заговорил:
– Пустое, пустое. Он дал, он и взял. Всё в его власти, и крест этот твой без значения, нестоящий. Тут вот какая печаль; кабы он сам то был настоящий…
Мгновенно взметнулся на него унтерский взор по-начальнически.
– Старик, лишнего не болтай, а то знаешь: дружба дружбой, а табачок врозь.
Старик снова смолк, отвернулся и, бормоча себе под нос, только сплюнул.
Унтер замолчал тоже, попыхивая трубкой. Потом опять с весёлой улыбкой обратился к закутанной в шаль женщине:
– Нам что: рубашку сменишь – постирать подумаешь, а жизнь и того проще. Лучше только на том свете станется. А вот вы – величать как, не знаю, – как на такое дело решились, этого и в толк не возьму.
Женщина, лениво играя глазами, улыбнулась.
– Звать Дарьей, а по батюшке Антоновна, – проговорила она, растягивая слова.
– Вы-то как, Дарья Антоновна, от хорошей жизни на этакую подлость идёте? Аль не гвардейской солдаткой были, что с арестантом пошли?
Женщина посмотрела на него насмешливо. Помолчав, сказала. Слова у неё выходили мягкими, тягучими, как будто она резала тесто.
– Говорите, тридцать два года в службе пробыли, а ума, как посмотрю, не нажили. В людях разобраться не умеете.
Чуть ускоряя речь, она обернулась к сидевшим рядом старообрядкам:
– Вы, бабочки, может, и впрямь что подумаете, – при этом она улыбнулась, под красными влажными губами блестели белые, как снег, и ровные зубы. – Ни Боже мой, этого со мной не бывало. Я с барином с одним долго жила, а от Михаила Ивановича моего такую привязанность имею, что за ним не то что на каторгу, в самый ад пойду. Очень это редко случается, чтобы человек такое правильное понятие о жизни имел, как Михаил Иванович. За это и любовь промеж нас такая вышла.
В это время впереди раздалась команда. Забил барабан. Унтер проворно соскочил с саней, оправляя на ходу шинель, побежал вперёд. Старик, приподнявшись с места и шаря подслеповатыми глазами, прошамкал:
– Ай уже привал? Больно скоро-то.
Но барабан впереди трещал неумолчно, ряды арестантов расстроились, одни за другими останавливались сани. Вдалеке, в ранних зимних сумерках, чернели мутные очертания жилья.
Подводы по команде свернули влево, объезжая толпу арестантов, направились к деревне.
Худой, высокий, как жердь, офицер суетился перед фронтом, рассчитывая и разделяя партию на отдельные группы. На морозе хриплыми голосами перекликались, считаясь, арестанты.
Дарья Антоновна вышла из саней, дождалась, пока офицер окончил разбивку, и подошла к нему.
– Ваше благородие, – густые ресницы опустились, закрывая чёрные и блестевшие глаза. – Ваше благородие, дозвольте к вам с просьбой.
У офицера беспокойно заметался взгляд, лицо словно помутнело.
– Ну, в чём дело? Вольноследующая? С арестантом переночевать дозволить?
Голос у офицера, глухой и хриплый, скрипнул над самым ухом. От винного дыхания замутило. Медленный румянец стал заливать лицо Дарьи Антоновны. Ещё ниже опустила ресницы.
– Так, значит, дозволите? – не поднимая глаз, тихо сказала она…
Батурину отвели ночлег вместе с конвойными, отдельно от прочих арестантов.
Около штофа вина, поставленного Дарьей Антоновной, хлопотал и разглагольствовал весёлый унтер.
– Ты что ж, друг? Али доля ещё не горька кажется?
Батурин отодвинул от себя стакан.
– Не буду, – сказал он твёрдо и снова потупился.
– Не будешь, нам больше останется. Пей, ребята, хозяйка придёт, другой поставит.
Но хозяйка не приходила долго. Уже и штоф давно был выпит, растянувшись под лавкой, храпели конвойные. Дремал, сидя за столом, говорливый унтер.
Под окном заскрипели на снегу шаги. В замёрзшее стекло часто и дробно застучали. Унтер встрепенулся, протирая кулаками глаза, и, потягиваясь, пошёл открывать.
Накинутый на голову полушалок закрывал почти всё лицо Дарьи Антоновны, только глаза, чёрные и большие, блестели беспокойно и горячо. На щеках горел яркий – не от мороза – румянец.
– Не спишь, Михаил Иванович? – спросила она, задыхаясь и скоро. – Мне сказать тебе кое-что надо. Чай, дяденька не запретит.
В углу глухо звякнули кандалы. Батурин медленно поднялся с лавки.
– Господин взводный, – выкрикнул он, вытягиваясь по форме перед унтером, – разрешите ночевать с товарищами! Как по закону полагается.
И, подступая вплотную, почти прохрипел:
– Отведи, тебе говорю, отведи. Не то беда будет.
Подвыпивший унтер попятился в испуге. Дарья Антоновна бросилась к Батурину.
– Михаил Иванович, аль рехнулся?! Тут хлопочешь, стараешься, легко, думаешь, устроить! – прерывисто зашептала она.
У Батурина потемнело лицо, глаза налились кровью. Тяжело звякнули коротким обрывающимся звуком кандалы. Дарья Антоновна проворно отскочила.
Из угла, с улыбкой презрительной и насмешливой, покачивая головой, проговорила:
– Жисть правильную загадал? Со мной, говоришь, и в Сибири не пропадёшь? А характер-то куда денешь? С таким-то характером жизнь правильную как раз сделаешь! Эх, Михаил Иванович, заела тебя гордость, от ей и погибнешь.
Ещё через два перехода, когда партия пристала на ночлег в большом проезжем селе, Дарью Антоновну видели пьющей чай на станции с каким-то усатым офицером.
Наутро, перед самым выходом, замызганный лакей пришёл и взял из саней её укладку и узлы. Дальше она уже не следовала за партией.








