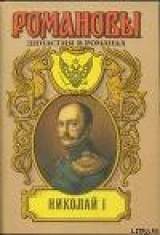
Текст книги "Николай I"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 58 страниц)
С 27 ноября, когда узнали о кончине императора Александра I, в Петербурге наступила тишина необычайна. Всё умолкло и замерло, как бы затаило дыхание. Театры были закрыты; музыке запрещено играть на разводах; дамы оделись в траур; в церквах служили панихиды, трезвон колоколов унылый с утра до вечера носился над городом.
Россия присягнула Константину I. Указы подписывались именем его; на Монетном дворе чеканили рубли с его изображением; в церквах возглашалось ему многолетие. Со дня на день ждали его самого, но он не приезжал, и по городу ходили слухи. Одни говорили, что отрёкся от престола, другие – что согласился, а правда была неизвестна.
Для успокоения столицы объявили, что государыня мать получила письмо, в коем его величество обещал вскоре прибыть; потом что великий князь Михаил Павлович к нему навстречу выехал. Но оба известия оказались ложными.
Курьеры скакали из Петербурга в Варшаву, из Варшавы в Петербург; братья обменивались письмами, но толку не было.
– Пора бы кончать эти любезности, – ворчали сановники.
– Когда же наконец мы узнаем, кто у нас государь? – выходила из терпения императрица Мария Фёдоровна.
– На троне лежит у нас гроб, – шептались верноподданные в тихом ужасе.
На другой день, после присяги, в окнах магазинов на Невском выставлены были портреты нового императора. Прохожие толпились перед окнами. На портрете он был дурень, а в действительности – ещё хуже. Курнос, как Павел I; большие мутно-голубые глаза навыкате; насупленные брови, торчащие густыми пучками белобрысых волос; такие же волосы на переносице; в минуту гнева вздымались они, щетинились; руки длинные, ниже колен, как обезьяньи лапы: казалось, мог ходить на четвереньках. И весь был похож на обезьяну, огромную, человекоподобную. Вспоминали, как жаловалась бабушка, императрица Екатерина Великая, на бесчинное и бесчестное поведение внучка: «Везде, даже и по улицам, обращается с такой непристойностью, что я того и смотрю, что его где ни есть прибьют. Не понимаю, откудова в нём вселился такой подлый санкюлотизм, пред всеми унижающий».
Письма свои к учителю, французу Лагарпу, подписывал: «L'ane Constantin»[7]7
Осёл Константин.
[Закрыть]. Но был не глуп, а только нарочно валял дурака, чтобы оставили его в покое, не лезли с короною. «Деспотический вихрь» – называли его приближённые. Однажды на смотру лошадь его испугалась, шарахнулась. Выхватив палаш, он избил её так, что она едва не издохла. Лошадью будет Россия, а Константин – бешеным всадником. Надеялись, впрочем, что не захочет царствовать, по «отвращению природному».
– Меня задушат, как задушили отца, – говаривал. – Знаю вас, канальи, знаю! – злобно усмехался. – Теперь кричите «ура», а если потащат меня на Лобное место и спросят: «Любо ли?» – вы так же закричите: «Любо! Любо!»
Рассказывали, что, когда прочёл манифест о вступлении своём на престол, с ним сделалось дурно, велел пустить себе кровь.
– Что они, дурачьё, вербовать, что ли, вздумали в цари! – кричал в бешенстве. – Не пойду! Сами кашу заварили, сами и расхлёбывайте!
Когда в Петербурге узнали об этом, все возмутились.
– Нельзя играть законным наследием престола, как частною собственностью, – говорили одни.
– Почему нельзя? – возражали другие. – В России всё можно. Мы трусы. Погрози нам только гауптвахтою – и смиримся.
– Кому бараны достанутся? – держали заклад шутники.
– Какие бараны?
– Мы. Разве нас не гонят от одной присяги к другой, как стадо баранов?
Решали, кто лучше – Константин или Николай?
Император Павел I назначил пятимесячного младенца Николая шефом лейб-гвардии Конного полка в чине генерал-лейтенанта. Мальчик, прежде чем научился ходить, бил в барабан и махал игрушечной сабелькой. А когда подрос, вскакивал с постели по ночам, чтобы постоять с ружьём. Никогда ничего не хотел знать, кроме солдатиков. Воспитатель великих князей, дядька Ламсдорф[8]8
Ламсдорф Матвей Иванович (Густав Матиас) (1745 – 1828) – генерал-адъютант, воспитатель великих князей Николая и Михаила.
[Закрыть], бил мальчиков по голове ружейным шомполом так, что они почти лишались чувств. «Бог ему судья за бедное образование, нами полученное», – говаривал впоследствии сам Николай.
Никогда не готовился быть наследником; лет до двадцати не имел никаких служебных занятий, и всё его знакомство с светом было в дворцовых передних и в секретарской комнате. «Бешен, как Павел, и злопамятен, как Александр». Правда, умён; но ума-то его и боялись пуще всего: чем умнее, тем злее.
В совершенстве усвоил прусский военный устав и вообще был немец. Предсказывали, что со вступлением его на престол немцы наводнят Россию, которая и без того уже кажется «почти завоёванной».
Константин – зверь, а Николай – машина. Что лучше, машина или зверь?
В зале Государственного совета, в Зимнем дворце, между генерал-адъютантской комнатою и временными покоями великого князя Николая Павловича, в восемь часов утра всё ещё было темно, как ночью. Высокие окна, выходящие на двор, зияли чернотой непроницаемой. Чёрно-жёлтый туман, казалось, проникал, как дым удушливо-едкий, сквозь окна и стены. Восковые свечи в тяжёлых канделябрах на длинном, крытом зелёным сукном столе, тускло горевшие, освещали только середину залы, а углы тонули во мраке; и там два больших портрета, висевших друг против друга, Екатерины II и Александра I, выступали таинственно-призрачно, как будто Внучек и Бабушка переглядывались и перемигивались с одной и той же улыбкой лукаво-насмешливой.
Старые сановники, в пудре, в шёлковых чулках и башмаках, в мундирах, шитых золотом, блуждали, как дряхлые тени, сходились, шептались, шушукались. А в самом тёмном углу сидели молча, не двигаясь, как три изваяния безжизненные, три вставшие из гроба покойника, – семидесятилетний министр внутренних дел Ланской, восьмидесятилетний министр просвещения Шишков и генерал Аракчеев, казавшийся вечным, без возраста. После убийства Настасьи Минкиной в первый раз появился он во дворце.
«Смерть девки отняла у него способность заниматься делами, а кончина государя возвратила ему оную», – говорили о нём.
Все уже знали, что из Варшавы прибыл курьер окончательный с отказом цесаревича и сегодня должен быть подписан манифест о восшествии на престол императора Николая I. С минуты на минуту ждали князя Александра Николаевича Голицына с манифестом, переписанным набело. Когда открывалась дверь, оглядывались: не он ли?
Высокого роста, благообразный, милый и важный старик с полуседыми волосами, зачёсанными наверх плешивой головы, с продолговатым, тонким и бледным лицом, с двумя болезненными морщинами около рта – в них меланхолия и чувствительность, – весь тихий, тишайший, осенний, вечерний, Николай Михайлович Карамзин, стоя у камина, грелся. Все эти дни был болен. «Нервы мои в сильном трепетании. Слабею, как младенец, от всего», – жаловался. Поражён был смертью государя, как смертью друга, брата любимого; и ещё больше – равнодушием всех к этой смерти. «Все думают только о себе, а о России – никто». Всё оскорбляло его, мучило, ранило; хотелось плакать без всякой причины. Чувствовал себя старою Бедною Лизою.
Николай поручил ему составить манифест о своём восшествии на престол. Составил, но не угодил. «Да благоденствует Россия мирною свободою гражданскою и спокойствием сердец невинных» – эти слова не понравились; велели переделать. Переделал – опять не понравилось. Манифест поручили Сперанскому.
Карамзин огорчился, но продолжал бывать во дворце, говорил о причинах общего неудовольствия и о мерах, какие надо принять для блага отечества.
Никто не слушал его, и он замолчал, отошёл. «Кончена, кончена жизнь! Умирать пора», – плакал и смеялся над старою Бедною Лизою.
Стоя теперь у камина, поглядывал издали на всё с грустью задумчивой. «Гляжу на всё как на бегущую тень», – говаривал.
Рядом шептались два старичка сановника.
– Надеюсь, мы вас не лишимся? – спрашивал один.
– Бог знает что с нами будет! – пожимал плечами другой. – Намедни, за ужином, Пётр Петрович шампанским угащивал: «Выпьем, – говорит, – неизвестно, будем ли завтра живы».
– Всё грустить изволите, ваше превосходительство? – сказал, подойдя к Карамзину, обер-камергер Александр Львович Нарышкин[9]9
Скорее всего имеется в виду Нарышкин Александр Львович (1760 – 1826) – обер-камергер, канцлер орденов.
[Закрыть], весь залитый золотом и бриллиантами, с лицом величаво-приветливым и незначительным, с жеманно-любезной улыбкой старых вельмож екатерининских. Весельчак, забавник, шутивший даже тогда, когда другим было не до шуток.
– Не я один, а вся Россия… – начал было Карамзин.
– Ну Россию лучше оставим, – усмехнулся Нарышкин тонкою усмешкою. – Давеча, во время панихиды, на Дворцовой площади расшалились извозчики. Послали унять, стыдно-де смеяться, когда все плачут о покойнике. «А чего, – говорят, – о нём плакать? Пора и честь знать, вишь, сколько процарствовал!» Вот вам и Россия!
Бледное лицо Карамзина вспыхнуло:
– Смею думать, ваше превосходительство, что в России найдутся люди, которые заплатят долг благодарности…
– Ну полно, мой милый, кто нынче долги платит? Что до меня, я только на одре смерти скажу: Cest la premiere dette, que je paye a la nature[10]10
Это первый долг, который я плачу природе (фр.).
[Закрыть], – рассмеялся Нарышкин.
– Разве так дела делают? Все бумаги перепутали! У вас, сударь, нет царя в голове! – кричал злой карлик с калмыцкой рожицей, министр юстиции Лобанов-Ростовский, на исполняющего должность государственного секретаря, старую седую крысу, Оленина.
– Что это он говорит: нет царя? – не понял князь Лопухин, председатель Государственного совета и Комитета министров, кавалер Большого Мальтийского Креста, старик высокий, стройный и представительный, набелённый, нарумяненный, с вставной челюстью и улыбкой сатира. Он страдал глухотой, а в последние дни от расстройства мыслей глухота усилилась.
– Говорит, что нет царя в голове у Оленина, – прокричал ему Нарышкин на ухо – А вы думали что?
– Я думал, нет царя в России.
– Да, пожалуй, и в России, – опять усмехнулся Нарышкин своей тонкой усмешкой. – И вот ведь что, господа, удивительно: уже почти месяц, как мы без царя, а всё идёт так же ладно или так же неладно, как прежде.
– Всё вздор делают! В мячик играют! – продолжал кричать Лобанов.
– Какой мячик? – опять не понял Лопухин[11]11
Лопухин Иван Владимирович (1756 – 1826) – князь, председатель Государственного совета.
[Закрыть].
– Ну об этом нельзя кричать на ухо, – отмахнулся Нарышкин и шепнул Карамзину: –А вы о мячике слышали?
– Нет, не слыхал.
– «Pendant quinze jours on joue la couronne de Russie; au ballon en se la renvoyant mutuellement»[12]12
«Вот уже две недели, как российской короной играют как в мячик, посылая её друг другу» (фр.)
[Закрыть] – это Лаферокнэ[13]13
Ла Фероннэ Пьер-Луи-Август (1777 – 1842) – граф, французский посол в С. –Петербурге в 1817 – 1828 гг.
[Закрыть], французский посол, намедни пошутить изволил. Шуточка отменная, только едва ли войдёт в историю государства Российского!
Лопухин подставил ухо и, должно быть услышав имя Лафероннэ, понял, в чём дело, тоже рассмеялся, обнажая ровные, белые зубы искусственной челюсти, и тленом пахнуло изо рта его, как от покойника.
– Ну, как ваши рюматизмы, Николай Михайлович? – проговорил приятно-сиповатым голосом старик лет шестидесяти в довольно поношенном фраке с двумя звёздами, с венчиком седых завитков вокруг лысого черепа, с лицом белизны удивительной, почти как молоко, с голубыми глазами, вращавшимися медленно, подёрнутыми влажностью, – «глаза умирающего телёнка», – сказал о них кто-то. Это был Михаил Михайлович Сперанский. – А меня геморроиды замучили, – прибавил, не дождавшись ответа, и, вынув из табакерки щепоточку лаферма двумя длинными тонкими пальцами руки изящнейшей, засунул табак в нос, утёрся шёлковым красным платком сомнительной чистоты – на тонкое бельё был скупенек – и проговорил с самодовольной улыбкой: – Эх, был бы я молодец, если бы табаку не нюхал!
– Ну, что, ваше превосходительство, готов манифест? – спросил Карамзин, нарочно давая понять, что не сердится и не завидует.
Сперанский обратил на него свои медленные глаза с едва уловимой усмешкой на тонких губах:
– Ох уж не говорите! Этот манифест мне вот где! – указал на шею. – Как объяснить необъяснимое, растолковать народу эти сделки домашние? Николай отрёкся для Константина, а Константин – для Николая. Ни в кузов, ни из кузова.
– Так что же было делать?
– Не открывать завещания, каши не заваривать.
– Презреть волю покойного?
– Мёртвые воли не имеют.
– Жестокие слова, ваше превосходительство!
– Лучше слова, чем дела жестокие. Нельзя играть законным наследием престола, как частною собственностью. Если покойный государь хоть сколько-нибудь любил своё отечество, которое в двенадцатом году дало ему такие неоспоримые доказательства своей преданности, то как он мог подвергнуть Россию… Ну, да что говорить! Последние десять лет превосходят всё, что мы когда-либо о железном веке слышали… А впрочем, может быть, «всё к лучшему», как ваше превосходительство говорить изволите.
Карамзин молчал. Слёзы обиды за друга, за брата любимого кипели в душе его, и он с трудом их удерживал. Облокотившись о мрамор камина, опустил голову и закрыл глаза рукой.
– Нездоровится, ваше превосходительство? – спросил Сперанский.
– Да, голова болит. Должно быть, от нервов. Нервы мои в сильном трепетанье…
– Это нынче у всех. От погоды, – заметил Сперанский. – А знаете, отличное средство для утверждения нервов: вместо чаю – холодный отвар миллефолия[14]14
Тысячелистник.
[Закрыть] с горькой ромашкой.
– Миллефолий, миллефолий… – повторил Карамзин с улыбкой болезненной; что-то было в этом слове приторно-сладкое, тошное и томное, что застревало в горле комком непроглоченным. И казалось ему, что сам Сперанский с его лицом белизны удивительной, почти как молоко, с бледно-голубыми глазами, подёрнутыми влажностью, «глазами умирающего телёнка», – весь как миллефолий.
Сделал над собой усилие, проглотил комок и отнял руки от глаз.
– Да, всё к лучшему, ваше превосходительство, хотя и не в смысле здешнего света, – улыбнулся тихою улыбкою. – Есть Бог – будем спокойны.
– Ваша правда, Николай Михайлович, будем спокойны, – улыбнулся Сперанский. – Я всегда говорил: Dei providentia et hominum confusione Ruthenia ducitur.
– Как? Как вы сказали?
– Божеским промыслом и человеческой глупостью Россия водится.
Карамзин опять закрыл глаза рукою. Ему хотелось плакать и смеяться вместе.
«Хороши мы оба, – думал он, – в такую минуту, когда решаются судьбы отечества, российский законодатель ничего не находит, кроме смеха, а российский историк – ничего, кроме слёз. Кончена, кончена жизнь! Пора умирать, старая Бедная Лиза!»
Открылась дверь в генерал-адъютантскую, и опять все оглянулись. С большим портфелем в руках, семеня ножками, маленький, толстенький, кругленький, как шарик, вкатился в комнату князь Александр Николаевич Голицын.
– Ну что, готов манифест? – обступили его все.
– Какой манифест? – притворился он непонимающим.
– Э, полноте, ваше сиятельство, весь город знает!
– Ради Бога, господа, секрет государственный!
– Да уж ладно, не выдадим. Только скажите: готов?
– Готов. Сейчас к подписи.
– Ну, слава Богу! – вздохнули все с облегчением.
И в тёмном углу зашевелились три тени дряхлые. Аракчеев медленно перекрестился.
А на противоположном конце залы открылась другая дверь из коридора во временные покои великого князя Николая Павловича, и генерал-адъютант Бенкендорф, позвякивая шпорами, скользя по паркету, как по льду, выбежал, весь лёгкий, летящий, порхающий; казалось, что на руках и ногах его – крылышки, как у бога Меркурия. Гладкий, чистый, вымытый, выбритый, блестящий, как новой чеканки монета: молодой среди старых, живой среди мёртвых. И, глядя на него, все поняли, что – старое кончено, начинается новое.
Рассветало. Вставал первый день нового царствования – страшный, тёмный, ночной день. Чёрные окна серели, серели и лица трупной серостью. Казалось, вот-вот рассыплются, как пыль, разлетятся, как дым, тени дряхлые и ничего от них не останется.
«Лейб-гвардии дворянской роты штабс-капитан Романов Третий – чмок!» – так, шутя, подписывался под дружескими записками и военными приказами великий князь Николай Павлович в юности и так же иногда приговаривал, глядя в зеркало, когда оставался один в комнате.
В тёмное утро 13 декабря, сидя за бритвенным столиком, между двумя восковыми свечами, перед зеркалом, взглянул на себя и проговорил обычное приветствие:
– Штабс-капитан Романов Третий, всенижайшее почтенье вашему здоровью – чмок!
И хотел прибавить: «Молодчина!» Но не прибавил – подумал: «Вон как похудел, побледнел. Бедный Никс! Бедный малый! Pauvre diable! Je deviens transparent!»[15]15
Бедный малый! Я стал похож на привидение! (фр.)
[Закрыть]
Вообще был доволен своею наружностью. «Аполлон Бельведерский» называли его дамы. Несмотря на двадцать семь лет, всё ещё худ худобой почти мальчишеской. Длинный, тонкий, гибкий, как ивовый прут. Узкое лицо, всё в профиль. Черты необыкновенно правильные, как из мрамора высеченные, но неподвижные, застывшие. «Когда он входит в комнату, в градуснике ртуть опускается», – сказал о нём кто-то. Жидкие, слабо вьющиеся, рыжевато-белокурые волосы; такие же бачки на впалых щеках; впалые тёмные большие глаза; загнутый, с горбинкой нос; быстро бегущий назад, точно срезанный, лоб; выдающаяся вперёд нижняя челюсть.
Такое выражение лица, как будто вечно не в духе: на что-то сердится или болят зубы. «Аполлон, страдающий зубной болью», – вспомнил шуточку императрицы Елизаветы Алексеевны, глядя на своё угрюмое лицо в зеркале; вспомнил также, что всю ночь болел зуб, мешал спать. Вот и теперь, потрогал пальцем – ноет; как бы флюс не сделался. Неужели взойдёт на престол с флюсом? Ещё больше огорчился, разозлился.
– Дурак, сколько раз я тебе говорил, чтобы взбивать мыло как следует! – закричал на генерал-адъютанта Владимира Фёдоровича Адлерберга[16]16
Адлерберг Владимир Фёдорович (Элуард Фердинанд Вольдемар) (1791 – 1884) – граф, генерал-адъютант, позже министр двора.
[Закрыть], или попросту Фёдорыча, который служил ему камердинером. – И вода простыла! Бритва тупая! – отодвинул чашку и отшвырнул бритву.
Фёдорыч засуетился молча. Черномазый, полный, мягкий, как вата, казался увальнем, но был расторопен и ловок.
– Ну, что, как Сашка спал? – спросил Николай, немного успокоившись.
– Государь наследник почивать отменно изволили, – ответил Адлерберг. – А с утра всё плачут об Аничкином доме и о лошадках.
– О каких лошадках?
– О деревянных: забыли в Аничкином.
«Нет, не о лошадках, а об отце несчастном. Должно быть, беду предчувствует», – подумал Николай.
– Где сегодня обедать изволите, ваше высочество? – спросил Адлерберг.
– В Аничкином, Фёдорыч, в последний раз в Аничкином! – вздохнул Николай.
Вспомнил, как мечтал «поступить в партикулярную жизнь» и предаться в уединении семейным радостям. «Если кто-нибудь спросит тебя, в каком уголке мира обитает истинное счастье, то сделай одолженье, пошли его в Аничкин рай», – говаривал своему другу Бенкендорфу с тем видом чувствительным, который получил в наследство от матери, императрицы Марии Фёдоровны.
После кончины брата Александра переехал из Аничкина в Зимний дворец и жил здесь в строгом заключении, как под арестом, считая «неприличным показываться публике». Устроил себе кабинет-спальню в библиотеке бывшей половины короля прусского, комнате, ближайшей к зале Государственного совета, с которым соединялась она тёмным коридором.
Расположился, как на бивуаке. Комната была без углов, круглая. Узкая походная кровать неуютно поставлена рядом со стеклянным книжным шкафом; кожаный матрац набит сеном; к такому спартанскому ложу приучила его бабушка. На полу – открытый чемодан с бельём и платьем неразобранным.
Единственный предмет роскоши – большое трюмо из красного дерева. У зеркала на полочках – щётки, гребёнки и склянка духов «Parfum de la Court »[17]17
«Аромат Двора» – название духов (фр.).
[Закрыть]; тут же на особой подставке – ружья, пистолеты, сабли, шпаги и корнет-а-пистон.
Кончив бриться, скинул старенькую шинель, служившую вместо халата, надел генеральский мундир Измайловского полка, тёмно-зелёный, с красным подбоем и золотистым шитьём из дубовых листиков.
Стоя перед зеркалом, одевался долго, медленно, тщательно, как молодая красавица на первый бал. Осматривался, оправляя каждую складку; с помощью Адлерберга затягивался, застёгивался на все крючочки, петлички, пуговки. В мундире сделался ещё длиннее, стройнее, тоньше, с выпяченной грудью, с талией в рюмочку, как молоденький прусский капрал – хоть сейчас на потсдамский развод.
Кончив одевание, Фёдорыч вышел из комнаты, и Николай опустился на колени перед образом. Поспешно крестился мелкими крестиками и клал поклоны, стукая лбом. Прочитав положенные молитвы, хотел ещё прибавить что-нибудь от себя на предстоящий трудный день. Но ничего не придумал – своих слов не было. Верил в Бога, но когда думал о Нём, представлялась чёрная дыра, «где строго и жучковато», как император Павел I говаривал о дисциплине в русской армии. Сколько ни молись, ни зови – никто из дыры не откликнется.
Встал и сел в кресло. Чувствовал себя больным и разбитым. Плохо спал ночь; скверный сон приснился: будто бы вырос большой кривой зуб. Бабушка сказала, что надо вырвать. А он боится, плачет, убегает, прячется. А дядька Ламсдорф с большущею розгою ловит его – вот-вот поймает и высечет. И вдруг Ламсдорф уже не Ламсдорф, а брат Константин. Убегая от него, кидается бедный Никс к старой няне, англичанке мисс Лайон, и просит, чтоб она его высекла; знает, что розог всё равно не миновать, а она не так больно сечёт. И вдруг няня уже не няня, а кто? Забыл. Помнил только, что сон кончался прескверно.
«А ведь сон в руку», – подумал. Недаром всегда боялся брата Константина, как будто предчувствовал, что он беды наделает; недаром тот издевался над ним ещё во чреве матернем. «Никогда я такого брюха не видывал, тут место для четверых!» – шутил сынок над матушкой, когда она была Николаем беременна. И потом всю жизнь издевался. По имени Николая Угодника называл его Мирликийским царевичем. «Ни за что, – говорил, – не буду царствовать, потому что боюсь революции. А ты, царевич Мирликийский, разве не боишься? Ведь революция – та же гроза». И напоминал ему, как в детстве, во время грозы, он прятал под подушку голову. «Я трус и знаю, что трус, а ты храбришься, но хуже моего трусишь». Вот и теперь сам толкнул его на престол и сам же над ним издевается: «Посмотрим, как-то ты из этой глупой истории выпутаешься, император-выскочка, un empereur parvenu!»
Николай писал ему любезные письма, называл своим благодетелем, умолял, унижался: «Припадая к стопам твоим, дорогой Константин, умоляю, сжалься над несчастным!» И в то же время думал с зубовным скрежетом: «О, подлый шут! О, санкюлот проклятый! Что он со мною делает! За это убить мало!»
Каждое утро, после молитвы, имел обыкновение играть военную зорю на корнет-а-пистоне. Считал себя музыкантом; любил сочинять военные марши. На потсдамских манёврах мастерски трубил сигналы, пока рота его высочества, прусского наследного принца, производила учение на площади.
Взял корнет-а-пистон, приставил к губам, надул щёки, но извлёк только слабый, жалобный звук и тотчас отложил в сторону. Нет, полно, теперь уж не до музыки. Тяжело вздохнул, и опять стало жалко себя: «Pauvre diable! Бедный малый! Бедный Никс!»
– Фёдорыч, чаю!
– Сию минуту, ваше высочество!
Утром пил чай со сливками и сдобными булками. Но на этот раз без всего: аппетита не было. Бенкендорф доложил о Голицыне.
– С манифестом?
– Так точно, ваше высочество.
– Проси.
Вошёл Голицын с Лопухиным и Сперанским.
– Готов?
– Готов, государь.
Голицын подал ему манифест, переписанный набело.
– Прошу садиться, господа, – сказал Николай и стал читать вслух.
– «Объявляем всем верным нашим подданным. В сокрушении сердца, смиряясь перед неисповедимыми судьбами Всевышняго…»
Не глядя на Сперанского, чувствовал на себе пристальный взгляд его. Всегда становилось ему неловко под этим взглядом, слишком ясным и проницательным.
Считал Сперанского якобинцем отъявленным.
Недаром покойный император сослал его и едва не казнил как государственного изменника. «Пальца ему в рот не клади», – думал о нём Николай, и, как бы ни был тот подобострастно-почтителен, всё казалось ему, что он смеётся над ним, как над маленьким мальчиком. Однажды кто-то при нём назвал Сперанского великим философом; Николай промолчал, только усмехнулся язвительно. Философию ненавидел больше всего на свете. А всё-таки чувствовал, что нельзя кричать на него, как в манеже на своих офицеров покрикивал: «Господа офицеры, займитесь службой, а не философией. Я философов терпеть не могу! Я всех философов в чахотку вгоню!»
– «Кончиною в Бозе почившего государя императора Александра Павловича, любезнейшего брата нашего, – продолжал читать, – мы лишились отца и государя, двадцать пять лет России и нам благотворившего. Когда известие о сём плачевном событии, в 27 день ноября месяца, до нас достигло, в самый первый час скорби и рыданий мы, укрепляясь духом для исполнения долга священного и следуя движению сердца, принесли присягу верности старейшему брату нашему, государю цесаревичу и великому князю Константину Павловичу, яко законному, по праву первородства, наследнику престола Всероссийского…»
Далее «объяснялось необъяснимое»: тайное завещание покойного императора, отречение Константина в пользу Николая, отречение Николая в пользу Константина – все эти «домашние сделки», «игра законным наследием престола, как частною собственностью».
– «Мы видели отречение его высочества, при жизни государя императора учинённое и согласием его величества утверждённое; но не желали и не имели права сие отречение, в своё время всенародно не объявленное и в закон не обращённое, признавать навсегда невозвратным. Сим желали мы утвердить уважение наше к первому коренному отечественному закону о неколебимости в порядке наследия престола. И вследствие того, пребывая верным присяге, нами данной, мы настояли, чтобы и всё государство последовало нашему примеру, и сие учинили мы не в пререкание действительности воли, изъявленной его высочеством, и ещё менее в преслушание воли покойного государя императора, общего нашего отца и благодетеля, воли, для нас всегда священной, но дабы оградить коренной закон о порядке наследия престола от всякого прикосновения, дабы отклонить самую тень сомнения в чистоте намерений наших…»
– Невразумительно. О порядке наследия весьма невнятно и невразумительно, – сказал Николай и почувствовал, что на воре шапка горит.
– Изменить прикажете, ваше величество?
Легко сказать: изменить – надо знать как. А этого-то он и не знал.
– Нет, пусть уж так, – махнул рукой и надулся.
– «С сердцем, исполненным благоговения и покорности к неисповедимым судьбам Промысла, нас ведущего, вступая на прародительский наш престол, повелеваем присягу в верности подданства учинить нам и нашему наследнику, его императорскому высочеству великому князю Александру Николаевичу, любезнейшему сыну нашему; время вступления нашего на престол считать с 19 ноября 1825 года. Наконец, мы призываем всех наших верных подданных соединить с нами тёплые мольбы их ко Всевышнему, да ниспошлёт нам силы к понесению бремени, святым Промыслом Его на нас возложенного…»
– Не «возложенного», а «возложенному», – поправил Николай.
Сперанский молча взял карандаш.
– Постойте, как же правильней?
– Родительный падеж, ваше величество: «возложенного» – «бремени возложенного».
– Ах да, родительный… Ну, так и поправлять нечего, – покраснел Николай. Никогда не был твёрд в русской грамоте. И опять почудилось ему, что Сперанский смеётся над ним, как над маленьким мальчиком.
– «Да укрепит благие намерения наши: жить единственно для любезного отечества, следовать примеру оплакиваемого нами государя; да будет царствование наше токмо продолжением царствования его, и да исполнится всё, чего для блага России желал тот, коего священная память будет питать в нас и ревность, и надежду, стяжать благословение Божие и любовь народов наших».
Манифест ему нравился. Но он и виду не подал; дочитав до конца, ещё больше надулся.
Взял перо, чтобы подписать, и отложил: подумал, что надо бы вспомнить о Боге в такую минуту. Закрыл глаза, перекрестился; но, как всегда, при мысле о Боге, оказалась только чёрная дыра, где «строго и жучковато»; сколько ни молись, ни зови, – никто из дыры не откликнется. Подписал, уже ни о чём не думая. Только спросил:
– Тринадцатое?
– Так точно, государь, – ответил Сперанский.
«А завтра понедельник», – вспомнил Николай и поморщился. Подписал двенадцатым.
– Счастье имею поздравить ваше императорское величество с восшествием на престол или, вернее, сошествием, – потянулся к нему Лопухин, и поцеловал его в плечико.
– Почему сошествием? – удивился Николай.
– А потому, что фамилия вашего императорского величества так высоко поднялась в общем мнении публики, что члены оной как бы уже не восходят, а, скорей, нисходят на престол, – осклабился Лопухин с любезностью, обнажая белые ровные зубы искусственной челюсти, и тленом пахнуло изо рта его, как от покойника.
– Ангел-то, ангел наш с небес взирает! – всхлипнул Голицын и тоже поцеловал Николая в плечико.
– Не с чем меня поздравлять, господа, – обо мне сожалеть должно, – проговорил Николай угрюмо и вдруг с почти не скрываемым вызовом обернулся к Сперанскому, который сидел молча, потупившись: –Ну а вы, Михайло Михайлыч, что скажете?
– «Да будет царствование наше токмо продолжением царствования его», никогда я себе этих слов не прощу, ваше величество, – поднял на него Сперанский медленные глаза свои.
– Это не ваши слова, а мои. И чем они плохи?
– Не того ждёт Россия от вашего величества.
– А чего же?
– Нового Петра.
Лесть была грубая и тонкая вместе. «Il у a beaucoup de praporchique en lui et un peu de Pierre le Grand»[18]18
В нём много от прапорщика и немного от Петра Великого» (фр.).
[Закрыть], – сказал однажды Сперанский о великом князе Николае Павловиче и мог бы то же сказать об императоре.
Вдруг наклонился, поймал руку его, хотел поцеловать, но тот поспешно отдёрнул её, обнял его и поцеловал в лысину.
– Ну, полно, ваше превосходительство, льстить изволите, – усмехнулся недоверчиво, а сердце всё-таки сладко дрогнуло: «второй Пётр» был его мечтой давней.
Помолчал и прибавил:
– Я никогда не думал вступать на престол. Меня воспитывали как будущего бригадного. Но надеюсь быть достойным своего звания: надеюсь также, что как я исполнил свой долг, так и все оный предо мною выполнят. Когда же приобрету необходимые сведения, то поставлю каждого на своё место. Философия не моё дело. Пусть господа философы как себе хотят, а для меня жить – значит служить; и если бы все служили как следует, то всюду был бы порядок и спокойствие. Вот, господа, вся моя философия!
Взглянул на Сперанского. Тот молчал, зажмурив глаза и наклонив голову, как будто слушал музыку.
– А за сим, – продолжал Николай, возвышая голос, – не допускаю и мысли, чтобы во всём касающемся дел вверенной мне Богом империи кто-либо из подданных осмелился уклониться от указанного мною пути.
Говорил коротко, отрывисто, как будто с кем-то спорил или на кого-то сердился; входил во вкус; покрикивал, как молодой петушок, который хорохорится, но ещё не умеет кричать как следует.
– И если я буду хоть на один час императором, то покажу, что был того достоин, –кончил и встал.








