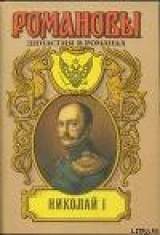
Текст книги "Николай I"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 58 страниц)
В первую минуту после смерти отца, ещё не выплакав всего горя, Надежда Фёдоровна как-то совсем по-детски прижалась, спрятала лицо на груди мужа.
– Это большая милость божья, что папа скончался, когда у меня есть ты. Что было бы со мной без тебя?! – прошептала она сквозь сл/зы такие волнующие и нежные слова, что ему и самому захотелось заплакать.
В церкви она почти всю службу простояла на коленях, только изредка, с пугливым удивлением, словно искала защиты и не верила, что эту защиту найдёт, поднимала глаза на мужа. Обедню пела придворная капелла в полном составе, голоса, как будто разбили хрусталь, звеня, дрожали под сводами. К концу службы в церковь заехал государь, выказывая сочувствие, обнял и поцеловал в лоб старшего Львова, Алексея.
Евгению Петровичу это показалось и великодушным и трогательным.
Неделю спустя после похорон он имел разговор со старшим своим шурином.
– Я тоже, друг мой, думаю, что тебе не следует искать карьеры в строевой службе, – говорить Львов. – Даже большим усердием, не имея приличного состояния, ты ничего не добьёшься. На службу по корпусу жандармов привыкли смотреть как на что-то мало достойное благородного человека. А вот я девять лет числюсь в нём. И что же, скажи мне по совести, я оттого проигрываю хоть сколько-нибудь в глазах любого верного и честного подданного государя? Всякая служба на пользу отечеству достойна уважения. Теперь я могу сказать тебе, что мы не раз с покойным башкой говорили о тебе. Он даже просил графа Бенкендорфа иметь тебя в виду, если в нашем управлении откроется вакансия.
Через неделю состоялся приказ, которым «лейб-гвардии Преображенского полка поручик Самсонов» назначался личным адъютантом шефа отдельного корпуса жандармов и командующего императорской Главной квартирой.
Предупреждённый Львовым, Евгений Петрович готовился к напряжённой и отнимающей много времени работе, продолжительному сидению в канцелярии. В действительности новая служба оказалась не более обременительной, чем его штабное ничегонеделанье.
Ежедневно по утрам в дом Третьего отделения у Цепного моста съезжались наиболее приближённые к графу чины управления. В так называемом малом кабинете он обыкновенно имел с ними беседу перед отправлением на доклад к государю. Всё самое сокровенное, всё наиболее тщательно скрываемое от постороннего взгляда в жизни столицы открывалось на этих беседах.
Времени для себя оставалось даже с избытком. Как будто устроившаяся наконец, освобождённая от тягостных размышлений последних месяцев его холостячества жизнь текла полным и равномерным течением. Надежда Фёдоровна по случаю траура не выезжала никуда. Счастливая уверенность раз достигнутого и уже ничем не нарушимого покоя переполняла сердце волнующим и благодетельным содержанием.
Новый, 1837 год Евгений Петрович заранее решил встречать дома, вдвоём с женой. Каждая мелочь, каждый пустяк этого скромного вечера были обдуманы со всею возможной тщательностью. Не слишком суеверный человек вообще, в данном случае он всем сердцем желал и верил, что так, как он его встретит, так и пройдёт весь этот большой и загадочный год.
И вдруг тридцатого декабря, то есть за день до встречи, им принесли в конвертах с орлённой печатью именные приглашения на придворный бал-маскарад.
Золотообрезный кусочек картона выпал из рук. Казалось, упал не он, упало и оборвалось что-то в сердце. Самсонов не был настолько наивен, чтобы не знать, чем вызвано это приглашение. У Львовых ещё не кончился траур, об этом не могли не знать при дворе, но даже не затруднились подумать, так велико нетерпение. Один момент было желание к кому-то бежать, просить совета, помощи, защиты.
«А если не ехать?! Если сказаться больным?! У жены траур, она может отклонить приглашение…»
Короткая зябкая дрожь пробежала по телу. Всё это было невозможно.
Во дворце на балу какое-то странное оцепенение сковало Евгения Петровича. К нему подходили маски, пытались интриговать. Он отвечал неловко и невпопад, от него отходили или разочарованно, или с обидными ироническими замечаниями. Надежда Фёдоровна, в полумаске, в домино, упорхнула, захваченная вихрем кружащихся пар, так, как будто она улетала совсем из его жизни.
Дежурный флигель-адъютант, князь Долгорукий, подошёл к нему с участливой улыбкой.
– Что с вами? Вы нездоровы?
И, не дождавшись ответа, заговорил с непритворным сочувствием:
– Что поделаешь: такова уж судьба вас всех, мужей хорошеньких женщин. Право, вы должны завидовать нам, холостякам. Я понимаю, как это невыносимо, превозмогая себя, торчать на бале до тех пор, пока ваш маленький деспот не вздумает наконец отпустить вас на отдых.
Очевидно, он заметил, какой неприязнью сверкнул взгляд Самсонова, потому что сейчас же, расплываясь в обворожительной улыбке, поспешил проговорить совершенно конфиденциальным тоном:
– Государь заметил ваш удручённый вид, но он решительно не хочет отпускать так рано Надежду Фёдоровну. Он даже сказал мне, что она и Булгакова – украшение сегодняшнего вечера. Послушайте, не мучьте себя, позвольте мне доставить вашу супругу с бала. Я это почту самой приятной обязанностью.
Даже и полуторанедельных бесед по утрам у Бенкендорфа было достаточно, чтобы понять, что это приказание.
Серый зыблющийся туман, сдвинувшись, скрыл блестящий зал. Ступая так твёрдо, словно он был пьян и боялся, что это заметят, спустился Евгений Петрович с лестницы. Улица с лёгким покалывающим морозом, с яркими, словно их подновили, звёздами, с кострами, вокруг которых грелись кучера и жандармы, не отстранила, не облегчила тяжести гнетущих мыслей.
Только издали видел он сегодня государя. Знакомая высокая фигура, при одном виде которой ещё с детских лет сердце замирало в привычном восторге, сейчас не уходила из глаз, как самое ненавистное и мучительное видение.
«Сегодня, через час, через два… Когда сегодня будет принадлежать ему Надя?..»
Он стиснул зубы так, что заломило в висках. От бессильной досады хотелось плакать. Самому себе он казался ничтожным, жалким, обиженным ребёнком.
– Соперник, – с горькой иронией вырвалось вслух у Евгения Петровича.
Глухой, словно изнемогающий звон адмиралтейских курантов упал в морозный воздух. И раньше чем растаял этот звон, глухим лопающимся звуком ахнула в крепости пушка.
Новый год наступил.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
IВ конце января нового, 1837 года Владимиру Петровичу Бурнашёву было поручено собрать сведения печатные и практические об огородном производстве для составления проекта записки о полковых огородах.
Примерный своим усердием и аккуратностью чиновник в тот же день отправился в помещавшуюся на Невском в доме лютеранской Петропавловской церкви «Библиотеку для чтения». Странное название – как будто может существовать библиотека и не для чтения, – но, говорят, покойный её основатель Смирдин[143]143
Смирдин Александр Филиппович (1795 – 1857) – петербургский книгопродавец, издатель сочинений Пушкина.
[Закрыть] настаивал именно на нём, производя его, по-видимому, от французского cabinet de lecture[144]144
Кабинет для чтения (фр.).
[Закрыть]. Теперь ею заведовал угрюмый и малообщительный библиоман – Фёдор Фролович Цветаев. Он вообще избегал каких бы то ни было разговоров с посетителями, и поэтому Бурнашёв немало был удивлён, когда Цветаев встретил его таким неожиданным вопросом:
– А что, Владимир Петрович, давно ли вы виделись с Николаем Ивановичем Гречем?
Правда, для Бурнашёва Цветаев и делал некоторое исключение, заговаривая иногда о той или иной новой книге, но бесед на темы небиблиографического свойства не допускал и с ним.
– Да уже давненько, – всё ещё удивляясь, поспешил сообщить Бурнашёв. – Заезжал в Новый год, да они нынче по-знатному, не принимают. А что?
– Как что? Да разве вы не знаете? Его второй сын, этот молоденький студентик Николай, третьего дня умер. Завтра, двадцать седьмого, его и хоронят. Неужели вы так ничего и не знали?
– Что вы говорите? – воскликнул поражённый Бурнашёв.
С минуту он стоял с видом растерянным и недоумённым.
Он искренно любил литературу, побывать в кругу более или менее известных современников было для него событием, не менее любил он и парады, торжественные заседания, пышные похороны. Любое помпезное зрелище, независимо от его характера, вызывало на глазах чувствительного Владимира Петровича слёзы.
– Нужно мне, нужно съездить в дом к Гречу, – подыскивал он вслух основания.
– Да, пожалуй, вам обязательно нужно поехать, – поддержал его Цветаев.
В передней у Греча Бурнашёва встретил старый слуга с наплаканным покрасневшим лицом. Плерезы[145]145
Траурные нашивки.
[Закрыть] на рукавах и воротнике его чёрного платья возвещали о понесённой домом утрате.
– Вы, конечно, сударь, всё знаете и пришли проститься с нашим ангелочком, – зашептал он, принимая от Владимира Петровича шубу. – Пожалуйте, пройдёмте. Вы теперь никого из семейства не увидите: все умаялись эти дни ужасно, и доктор даже дал капель каких-то Николаю Ивановичу, чтобы они заснули.
В просторной зале, служившей у Гречей одновременно и парадным кабинетом, царил желтоватый полусвет. Шторы на окнах были спущены, занавешена и стеклянная дверь на террасу. Чёрным коленкором были затянуты зеркала. Большой стол сдвинут к стене и освобождён от книг и бумаг. Подле него стояла длинная тёмно-зелёная кушетка. В изголовье её белело серебряное распятье.
На кушетке, со сложенными на груди руками, в студенческом, с васильковым воротником мундире лежал Коля Греч.
Длинные ресницы положили глубокую тень вокруг закрытых глаз. Юношески прекрасное лицо выглядело совсем как живое, только было ужасно бледно.
Тяжёлый запах, исходивший от многочисленных гирлянд, венков, живых цветов, расставленных вокруг кушетки, влажный оранжерейный запах вызывал представление о тлении. От этого запаха долгое пребывание в комнате казалось невозможным.
– Вот, – умилённо зашептал старик слуга, – вот так и умирал сердечный наш Коленька. Всё улыбался, уверял нас, что очень ему хорошо, а потом обращается к отцу и говорит: «Увидишь, папа, Пушкина Александра Сергеевича, скажи ему, что Богу не угодно было, чтобы я пошёл на театральную сцену, потому что я уже ухожу не в театральную, а в настоящую жизнь». Что он, сердечный, хотел сказать этим, я так и не понял, только всё записал себе на память в календаре на листочках.
На цыпочках вышли из залы. С той же осторожностью, с какой он открывал её, запер на ключ старик дверь.
– Когда хоронят? – деловито спросил Владимир Петрович, влезая в услужливо поданную шубу.
– Завтра, часа в четыре, приедет немецкий пастор, при нём и в гроб положат. Ох уж эти именины, и не знали, и не гадали, что с них такая беда будет!
– А что такое? – живо поинтересовался Бурнашёв.
– Да как же. С шестого декабря, как оба наших барина, и молодой и старый, именины справляли, с ним эта простуда и приключилась. В тот вечер ещё сочинитель Пушкин Александр Сергеевич заезжал. Ну, Коленька их, прямо сказать, обожает. Так они, бедненькие, проводить их до экипажа прямо без всего, в одном мундире на улицу выскочили. Вот и схватили простуду.
– Пушкин? Так у вас Пушкин был на вечере? Расскажи-ка мне, любезный, меня это весьма интересует.
Ради того, чтобы послушать историю, в которой принимало участие какое-нибудь лицо из литературного мира, Владимир Петрович готов был оставаться в передней хоть целый час.
– Да что ж тут рассказывать, тут и рассказывать нечего. Александр Сергеевич к нам как бы невзначай попали. Они проезжали мимо, увидали у нас в окнах свет, подумали, что здесь собрание какое. Так меня и спросили: «Что у вас здесь, собрание?» Ну, как увидели, какое собрание, то, конечно, неловко им сразу же ворочаться, зашли и бокал шампанского выпили, и так с полчаса, а может и поболе, пробыли. Только я вам скажу, хоть и редко они у нас бывали, но я всё же заприметил, какой весёлый у господина Пушкина характер, а в этот раз что-то как бы не в себе были, скучный такой и неразговорчивый. Коленьку нашего попросил стихи почитать и очень хвалил. «Вы, – говорит, – непременно артистом должны сделаться». А Коленька наш от этой похвалы, можно сказать, растаял совсем, – он, бедненький, господина Пушкина прямо Бог знает как обожал, да вот: как стал господин Пушкин от нас отъезжать, вышли наши господа в переднюю, я подаю ему его медвежью шубу, а он и говорит: «Холодно мне как-то везде, нездоровится, что ли, в этом медвежьем климате. Надо на юг, на юг». А Коленька им эдак восторженно: «Ах, ежели бы, – говорит, – Александр Сергеевич, привелось мне увидеть вас в тех долинах, куда вы поехать хотите!» У Пушкина тут лицо сделалось грустное. «Гора с горой, – говорит он, – не сходится, а человек с человеком сойдётся». С этими словами и вышел, а Коленька за ним, и до тех пор, пока господин Пушкин в экипаж не сели, так от него и не отходил. Чем он его, бедняжку, к себе так приворожил, этого, должно быть, моему старческому уму и не понять никогда.
И старик, тяжело вздыхая, стал кулаком тереть глаза.
На следующий день Владимир Петрович, облекшись в приличествующий случаю костюм, ровно в четыре был у подъезда дома Греча.
Проводить бедного Колю до места его последнего успокоения собралось столько народа, что пройти в зал было решительно невозможно. Владимир Петрович с трудом протискался в переднюю, ибо и на лестнице стояла публика.
Пастор говорил прощальное слово. Голос его, бархатистый и мягкий, словно душили низкие потолки и дыхание сгрудившихся в комнате людей. Бурнашёв стоял, прижатый к буфету. Две чёрные крупные цифры на листке отрывного висевшего в простенке календаря назойливо лезли в глаза.
«Двадцать семь. Сегодня двадцать седьмое», – почему-то повторял себе Владимир Петрович, хотя прекрасно помнил, что именно в этот день должны были состояться похороны.
Наконец пастор кончил говорить. Пронзительные вскрики и рыданья раздались в зале. Столпившаяся в дверях публика расступилась, давая дорогу кому-то, кого выводили под руки.
Заскрежетали ввинчиваемые в крышку винты. На лестнице торопливо надевали шляпы и теснились к выходу. Владимир Петрович тоже вслед за другими вышел на улицу.
Гроб вынесли на руках студенты, товарищи покойного.
Страусовые перья на траурном катафалке раскачивались, как листья каких-то экзотических растений. Факелы изломанными линиями чертили сумерки догоравшего дня. Гроб поставили на катафалк, процессия тронулась.
Николай Иванович, как это всегда бывает с потерявшими близких, вполголоса вспоминал все неосуществившиеся желания, несбывшиеся надежды покойного сына. Как будто теперь они приобретали иной смысл, иное значение – осуществись они, и не было бы этой нелепой безвременной смерти, жив бы был Коля и всё было бы хорошо. Даже артистическая карьера, которую предрекал покойному Пушкин, не казалась ему теперь ни невозможной, ни недостойной.
– А послано ли было приглашение Александру Сергеевичу? – вдруг озабоченно перебил он себя. – Ведь он так любил моего Колю.
– Послано, послано. И даже с нарочным, а не по городской почте, – поспешил успокоить его кто-то из родственников.
– А всё-таки его нет. Верно, пишет новую поэму, – жёлчно выговорил Греч. – Да, только Александр Сергеевич Пушкин, которого так боготворил мой мальчик, – проговорил он с горькой иронией, – о котором он только и думал в последние свои минуты, не захотел почтить нас сегодня своим присутствием. Что ж, эти господа аристократы не считают нас такими же, как они, людьми. На наши чувства, на наши страдания им дозволительно и плюнуть.
В этот момент в толпе произошло какое-то смятение. С трудом протискавшийся навстречу ей в церковь молодой человек с лицом растерянным и убитым поравнялся с Гречем. Подняв руку, словно хотел остановить движение, он закричал срывающимся, взволнованным голосом:
– Николай Иванович! Не грешите на бедного Пушкина, не упрекайте его в аристократизме, благодаря которому теперь, когда вы здесь оплакиваете сына, вся Россия оплакивает Пушкина. Да, да – он сегодня дрался на дуэли и пал от смертельной пули, которую не смогли вынуть.
Ропот ужаса и негодования пронёсся в толпе. Слышались отдельные голоса:
– Кто смел поднять руку на Пушкина! Не может быть, чтобы это был русский человек!
Тот же голос, который только что сообщил эту ужасную весть, крикнул так громко, что слышали решительно все:
– Убийца – француз Дантес, офицер нашей гвардии и полотёр в аристократии!
На улице сумерки сгустились в чернильную тьму. Траурные факелы вокруг катафалка пылали мрачным, багровым пламенем.
IIВся Мойка была запружена густыми толпами народа.
Конные и пешие жандармы вместе с полицейскими тщетно уговаривали публику не толпиться и разойтись.
Сажён за пятьдесят, по крайней мере, от дома Волконской, в котором жил Пушкин, Бурнашёву пришлось выйти из саней и пойти пешком. Дальше проехать было невозможно.
Проникнуть в дом не стоило и пытаться. Двое полицейских и жандармский офицер стояли у самых дверей, не пропуская решительно никого.
В дверях показалась полная фигура. Из-под распахнутой шинели блестел генеральский мундир.
Владимир Петрович, которому был известен чуть ли не весь Петербург, узнал в генерале состоявшего при особе наследника Юрьевича.
Садясь в поданные к подъезду сани, генерал бросил кому-то из толпы отрывисто:
– Надежда плохая. Я сам не видел, но Василий Андреевич в отчаянии. Еду во дворец рассказать его высочеству всё, что знаю.
Кто-то совсем близко от Бурнашёва пронзительно вскрикнул и зарыдал. Сани с Юрьевичем тронулись, с трудом прокладывая себе дорогу в толпе.
Через минуту от неистового «пади, пади» толпа шарахнулась и расступилась, давая дорогу другим парным саням с пристяжной на отлёте.
Из подъезда выбежал лакей в придворной красной ливрее и крикнул:
– Карету лейб-медика Арендта!
Придворная карета парой, с кучером, одетым в одинаковую с лакеем ливрею, двинулась к подъезду.
Маленький толстый человечек в чёрной шинели с бобровым воротником и в казавшемся на нём невероятно огромным цилиндре появился в подъезде.
– Ну что, ваше превосходительство? – с тоскливым отчаянием крикнули ему из толпы.
Арендт с минуту растерянно озирался по сторонам. Он сдвинул на лоб очки, глаза его были красны. Прикладывая к ним платок, прерывисто, словно его мучила одышка, проговорил:
– Ну, то, что плохо. Вся наша медицина ничего не сделает без помощи Царя Небесного. Земной же царь русский излил всю милость свою на страдальца.
Толпа глубоким слитным вздохом ответствовала на слова Арендта.
IIIЭта ночь, как и предыдущие, прошла тяжёлым, ломающимся бредом.
Проснулся Евгений Петрович мгновенно. Казалось, даже не отстранил ни на миг не оставлявшие его мысли. Было такое ощущение – вот он ходит по комнате; над ковром, всего на каких-нибудь пол-аршина, протянуты в беспорядке верёвки и верёвочки, переступил одну – ноги уже задевают другую, не зацепившись за протянутую сзади, нельзя их высвободить. Мысль барахтается, как связанная.
Рядом – спальня жены. Через полуприкрытую дверь в комнату проникает запах её sachet[146]146
Душистой подушечки (фр.).
[Закрыть]. Этим запахом пахнет её ночное бельё, пахнет она сама, – незабываемый; он мешается с запахами, присвоенными его половине: сухим – туалетной воды, горьковатым и вялым – который оставляет только дыханье, ибо в спальне теперь он не курит; эти два – основные, прижившиеся к этим стенам, к этой мебели, неразрывные в представлении один с другим. Но, помимо их, есть и пришлые, непостоянные: причудливо острый – «La reine Marie Louise»[147]147
«Королева Мария Луиза» (фр.).
[Закрыть] парижского парфюмера Houbigant; тяжёлый, дурманящий, он скоро пропадает от душной ночной тишины.
Евгений Петрович порывистыми шагами подошёл к туалетному столу, уксусом смочил виски, тёр их крепко и долго. Потом плеснул из таза в ладонь воды, смочил лоб и волосы. Лицо горело.
Запахом «La reine Marie Louise» благоухала лестница в Аничковом, когда они всходили на новогодний маскарад.
– Это было до… до…
Евгений Петрович даже себе не решался сказать, до чего это было.
Вся жизнь разделилась теперь на две неравные половины. Всё, что случилось, всё, что пережил он до этой новогодней ночи, жило бессмертной, переполненной чувствами, как тело – кровью, жизнью. От сегодняшнего, от каждого часа, от каждого движения, как плющ, со всех сторон обхватывающий какого-нибудь лесного гиганта, тянулись, давя и сжимая сердце, мучительные, тяжкие мысли.
Ни наивным, ни мечтателем Евгений Петрович себя не считал. Вряд ли кто-либо мог упрекнуть его в этом. Ни одним словом, ни одним намёком он не открыл жене своих терзаний. Но и с той стороны даже нечаянно не обмолвились ни словом. После новогоднего маскарада Надежда Фёдоровна вернулась домой, когда морозный узор на окнах уже золотел и покрывался румянцем. О хорошем вине не говорят: оно выдержано там-то, говорят: оно воспитано.
Этот токай был польского воспитания, свадебный подарок дяди Исленьева в домашний погреб племянника. Сами венгерцы говорят: «nisi in Polonia educatum»[148]148
Только если воспитано в Польше (лат.).
[Закрыть]. Иначе несовершенно. Зелёная, как зелень увядающего букета, влага тяжёлой маслянистой струёй наполняла рюмку. Вино было крепко, как ликёр, но оно не отнимало головы. Мысли ясные и настойчивые, как пульс, пылали его мягким огнём. Надежда Фёдоровна вошла в столовую. Он поднялся из-за стола. Вероятно, так воспринимают окружающее глухонемые. Она улыбнулась, у ней шевельнулись губы – безмолвие и тишина остались неизменными. С таким же эффектом мог рухнуть сейчас весь дом, с грохотом повалиться любая вещь.
– С Новым годом, мой милый.
Губами он чувствовал только терпкую сладость токая и мягкие, расслабленно прильнувшие к его рту губы.
– Ну что ж, хотя и с опозданием, но мы ещё сможем высказать друг другу свои пожелания. Прости, я прикажу сейчас, чтоб подали шампанское.
Он улыбнулся исподлобья, вопрошающе.
– Не стоит. Налей мне этого вина.
Токай зелёной струёй медленно, как масло, наполнил рюмку.
– Ах, я так устала, страшно устала…
Он ждал детских слёз, смятенного униженного плача, покаяния, мольбы о прощении, в мыслях он уже видел её кающейся, не смеющей даже коснуться его, жалкой и беспомощной, как жестоко обиженный ребёнок.
Надежда Фёдоровна смотрела на него ясным и спокойным, только слегка утомлённым взором. Губы у неё шевелились едва-едва, как будто ей трудно было говорить. Улыбка новая, какой он ещё не видел, не сходила с них.
– Ты хочешь что-то спросить? Спрашивай, я слушаю.
Сразила эта улыбка, из победителя сделала покорным, смешала, как невыходивший пасьянс, всё будущее.
Полусонные глаза смотрели пьяно и насмешливо. На губах ещё было ощущение поцелуя. Он подошёл, наклонился, оторваться от её губ уже не мог. На руках отнёс в спальню.
Теперь, днём, на беседах у Бенкендорфа, на улице, дома, Евгений Петрович часто и всегда по какому-то внезапному побуждению начинал перебирать в памяти тех, чьи жёны, как говорили, были любовницами государя. Острая, как оскорбление, боль поднималась изнутри; как от пощёчины, пылало лицо. Все они не были равны ему, среди них он не знал ни одного изболевшегося самолюбивой гордостью Самсонова. Он уже не был больше расчётливым и трезвым честолюбцем. Мысль о том, что в таких случаях снисходительность мужа всегда вознаграждалась, была омерзительна. Как-то подумал о пистолете. Железное тяжёлое кольцо, сковавшее зловещую и чёрную, как будущее, пустоту, всё чаще и чаще стало рисоваться взору. Как-то у одного холостого приятеля целый час подряд палил из пистолета по зажжённой свечке. От выстрела свечка гасла, как сражённая наповал, валилась набок. Её зажигали, водружали на прежнее место, он со сладострастным любопытством опять целился в пламя. Застрелиться помешало то же воспоминание. В последний момент, уже ощущая виском холодную сталь, вспомнил улыбку Надежды Фёдоровны.
– Ты хочешь о чём-то спросить? Спрашивай, я слушаю.
Он ссыпал с полки порох, выкатил из дула пулю. Сковавшее загадочную пустоту кольцо больше не тяготило мыслей.
Теперь другое жалило сердце, и тогда хотелось мочить ледяной водой лоб, до боли тереть виски.
«Молчит. Ни словом, ни жестом. Даже случайно… А с ним, с ним какова? Как узнать? Как постигнуть? Такая же, как со мной?»
Вода и уксус как будто слегка умерили жар. Евгений Петрович перед умывальником скинул халат, снял сорочку. Тело, растёртое холодной водой, горело приятно. Он снова натянул халат и прошёл в кабинет. Денщик уже ждал с одеванием.
В прихожей вытянувшийся в струнку при его появлении жандарм рявкнул, разрубая по слогам:
– Здравв же-ла-ю, ва-ше родь.
– Ну?
– Так что пожалуйте к графу.
Евгений Петрович оделся поспешно и вышел. На улице был лёгкий приятный морозец. Легче думать, когда идёшь пешком, когда морозная свежесть дарит вторично ощущениями утреннего умывания. Но нужно было торопиться. Евгений Петрович взял извозчика.
У Бенкендорфа ещё в передней камердинер сообщил:
– Пожалуйте. Вас ожидают.
В кабинете не было никого. Дверь в туалетную была плотно притворена. Евгений Петрович осторожно кашлянул.
– Иди, иди, mon cher, – тотчас же раздалось из-за двери.
Он вошёл и остановился.
Бенкендорф, совершенно голый, без малейшего признака какой бы то ни было стыдливости, степенными, мерными шагами расхаживал по комнате.
– Во-первых, mon cher, не взыщи, что я тебя принимаю в таком неглиже. Je prends un bain d'air[149]149
Я принимаю воздушную ванну (фр.).
[Закрыть] по совету моего доктора, а во-вторых, потрудись… мм… нужно тебе составить… дело… ммм… совершенно безотлагательно… Ну, ты знаешь, конечно, какая история вышла…
Евгений Петрович не знал, но дипломатически промолчал, потому что граф не терпел вопросов.
– Ну-с вот… надо составить…
Бенкендорф по обыкновению говорил с паузами чуть ли не после каждого слова. Говоря, он продолжал ходить, иногда приближался к Самсонову, и тот от ужаса и отвращения, что граф может коснуться его, стоял, вытянув по швам руки, до боли напрягая мышцы, чтоб не сдвинуться с места. В этом своём виде его принципал походил на старую, с облезлой шерстью обезьяну. Дряблая грязно-коричневого цвета кожа висла на груди и на животе толстыми противными складками, худые, с высохшими икрами ноги были слишком тонки для такого туловища, длинные, со скрюченными пальцами руки свисали чуть не до колен, иногда руки поднимались, сгибаясь как какие-то неисправные рычаги, – граф потирал себе грудь и живот.
– Да… надо составить… это ты умеешь… циркуляр секретный… в ценсуру… в Москву и в города и вообще… так… понял?
Евгений Петрович утвердительно наклонил голову.
– …Чтобы никаких там… мм… некрологов, статей… и так говорят слишком много…
Положение Евгения Петровича становилось затруднительным.
– Позвольте, ваше сиятельство, но ведь он… – решился он наобум.
Граф перебил с поспешностью:
– Ты хочешь сказать, пока ещё жив… Э, всё равно, не нынче, так завтра, не завтра, так в пятницу… всё равно умрёт… положение его безнадёжно… и слава Богу, и слава Богу… с кем другим, а с Пушкиным мы хлопот имели достаточно…
«Пушкин! Пушкин умирает!» – подумал Евгений Петрович, поражённый тем ли, что он до сих пор не знал этого, иди тем, что человек, которого он видел всего несколько дней назад полным сил и здоровья, так безжалостно приговорён к смерти.
Незнакомое чувство острой щемящей жалости вкралось в сердце Евгения Петровича. Он вспомнил сплетни, которые слышал, вспомнил, что говорили в свете о Пушкине в последнее время, вспомнил чью-то осторожную и опасливую догадку, которую передавали под величайшим секретом. Пушкин вдруг показался ему близким, родным, как брат, как соучастник, сроднившийся одинаковой страшной судьбой.
Бенкендорф помолчал, потом, не отводя глаз, продолжал:
– Это, mon cher, моя к тебе просьба… нельзя пренебрегать и сплетнями… направлять, сдерживать… но у меня никого нет… не могу же я послать какого-нибудь там жандармского штаб-офицера, ведь они все левой ногой сморкаются… ну, вот… надеюсь, ты понял. И потом… – здесь последовала пауза, продолжавшаяся очень долго, – …и потом переписку… нужно будет последить и за перепиской…
Если бы за минуту до того Евгений Петрович не пережил нового и странного для него чувства к умирающему Пушкину, если бы оно не всколыхнуло его собственной неотступно преследовавшей муки, если бы этот сделавшийся содержанием всей его жизни и безответный вопрос не встал перед ним снова, вряд ли бы он ответил так Бенкендорфу. Он сам понимал, что это наивно, что таким путём он всё равно ничего не узнает и не раскроет, но что-то наперекор рассудку подмывало и толкало:
«Загляни, только загляни. А может…»
– В своё время я просил ваше сиятельство, – проговорил он тоном, обычным при разговорах с начальством, – не употреблять меня по секретной части. Но я готов исполнить любое приказание вашего сиятельства и буду счастлив, зная, что приношу пользу отечеству.








