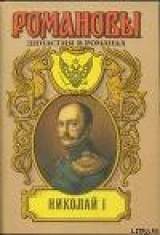
Текст книги "Николай I"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 58 страниц)
VI
По городу ходили смутные, противоречивые толки:
– Почему такая таинственность? Чего боятся? Да что же, и в могилу проводить его нельзя будет? Чем, чем заслужил он такую участь?!
Проводить его действительно оказалось нельзя. В воскресенье тридцать первого января, в полночь, тело Пушкина перенесли в Конюшенную церковь. Ещё задолго до этого времени жандармы очистили Мойку от публики, оцепили весь путь от дома до самой церкви.
Над пустынной улицей была чёрная, низко спустившаяся тьма. Фонари салили на снегу тусклые, жёлтые пятна. Сквозь строй их редких рядов, сквозь строй застывших вдоль тротуаров конных фигур прогонял ветер белые, словно гнувшиеся от невидимых ударов, призраки-тени. Неистовый с отчаяния, что не смог раскутать из облаков луну, припадал он к земле, сдувал с неё снежную пыль, призраками гнал столбы её вдоль улиц.
В подъезде дома Волконской широко и разом распахнулись двери, выплёскивая на мостовую жёлтый и жидкий свет. В полосе его качнулись, стронулись с места два конных стража, стывших до того как изваяния. В дверях, тяжело качаясь на руках, показался гроб. На минуту он, поднятый на плечи, чёрный и огромный, заступил собою освещённую полосу тротуара. Потом гроб качнуло ещё раз: шедшие впереди ступили на мостовую. Как по каналу, по вылившейся из дверей светлой полосе проплыл он во тьму. В подъезде пропустили немногочисленных провожатых и захлопнули двери. Опять улицу заступила тьма. Во тьме, навстречу засекаемым насмерть снежным призракам, сжатая кольцом из конных жандармов, медленно двигалась по улице процессия. Ветер дул в лицо, полами шинелей вязал шаги идущим. Люди горбились под жестокими порывами ветра, порой останавливались совсем; гроб на какие-то минуты оставался неподвижным. Одинокий гроб, одинокая горсточка людей в кольце конных, тяжело плывущих фигур. Проводить Пушкина разрешено было только немногим, самым близким друзьям покойного.
За пределами жандармского оцепления были люди, может быть, много людей, но тьма скрывала их от глаз, ветер от слуха; тем, кто шёл за гробом, казалось, что идут только они, только они одни ещё живы в мёртвом и пустынном городе, что Пушкина, их Пушкина, хоронить, чтить, помнить уже некому. Над городом выла вьюга. Казалось, со всей России: с мёртвых полей, с погребённых в снегах деревень и усадеб, с городов, в эти часы переставших жить, отошедших в небытие, – сметал ветер заунывный вой глухих и пустынных просторов; было мёртво и жутко в опустевшем, безлюдном городе.
Когда процессия подходила к церкви, к вою метели примешались человеческие голоса. Где-то, должно быть, совсем близко, был смятый, разорванный, раскиданный ею ропот человеческого многолюдства.
Маленький, с порывистыми движениями человек, шедший за гробом, судорожно метнулся в сторону соседа.
– Вы слышите?
Сосед, захлёбываясь рыданиями, – маленькому человечку показалось, что это ветер срывал его голос, – ответил прерывисто и поспешно:
– Слышу, слышу… Ведь это ж Россия… которой не дают проводить её Пушкина…
Маленький рассердился:
– Да нет же, нет: не Россия это… И мы с вами тоже нет… Вон Россия – ей Пушкин не нужен…
Словно угрожая, протянул он руку, показывая на жандармов, окружавших процессию. Внезапно налетевший порыв ветра чуть не сорвал с его головы шляпу; он поспешил ухватиться за неё. Угрожающе протянутая рука испуганно прижалась к плечу; маленькая, с головой закутавшаяся в шубу фигурка, сгибаясь, старалась за жандармской лошадью укрыться от ветра.
Скупо освещённая внутренность церкви показалась раскрытым склепом. Уже ступив на порог, маленький человечек услышал настойчивое: «Нельзя, ваше благородие, никак нельзя, никого пропустить невозможно». Он оглянулся. С краю, возле самой двери, какой-то офицер в серой распахнутой шинели с красным воротником пытался пройти в церковь. Из-под низко опущенной, с поля надетой треуголки горели пристальные живые глаза. Офицер был невысок, он поднимался на носки, стараясь увидеть что-то через плечо преградившего ему дорогу жандарма, только он один сумел пробраться сюда, на паперть, только образ его одного, взволнованного, в распахнутой шинели, привставшего на цыпочки, рвущегося хоть взглядом проводить этот огромный и чёрный гроб, пронёс рассеянной, разбрасывающейся памятью маленький человек в церковь.
Вслед за ним, последним переступившим порог, закрылись двери. Жандарм убеждающе просил офицера в распахнутой шинели:
– Теперь и смотреть уж больше нечего. Отойдите, ваше благородие, покорнейше прошу: я ведь в ответе буду.
Офицер словно только сейчас понял, что обращаются к нему. Неестественно высоким, как со сна, голосом выкрикнул: «А?! Что?! Нельзя стоять?!» – и спрыгнул с приступки на тротуар. В темноте кто-то схватил его за руку.
– Юрьич? Ты здесь зачем?
Прямо в лицо из облезлого, вытертого мехового воротника вырвалось пьяное дыхание. Нигорин, всё не выпуская ещё его руки, старался заглянуть в глаза.
– Интересно?! А?! Интересно? Словно повешенного – ночью, ни музыки, ни парада. А ты на морозе мёрзнешь. Иди-ка ко мне, чай, уж там собрались…
Лермонтов вырвал у него руку.
Сердце вдруг заколотилось так, что дальше казалось страшным сделать хотя бы шаг. Нет, нет – он не мог ослышаться. Рядом, совсем рядом, звонким, молодым голосом, часто сбиваясь, декламировали:
…Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?..
– Вот, вот, Юрьич! – прислушиваясь, воскликнул Нигорин. – Я сюда шёл, то же самое, эти новые твои стишки в толпе слышал.
– Ты-то почему знаешь, что они мои?
– А вчера кто-то их у меня по бумажке читал. Так все бросились списывать. Память у меня знаешь какая: вчерашнюю сдачу помню.
Нигорин хихикнул, но проговорил он всё это уже без прежней развязности, словно с трудом и неохотно. Впрочем, Лермонтов и не слушал. Вот тот же взволнованный голос рядом говорил:
– А это, это разве не такой чудный дар?! Ах, если бы мне привелось достать где-нибудь полный список! Эти восемь строк я запомнил на слух. А всё стихотворение… нет, оно положительно прекрасно. Пушкин, умерев, не унёс с собой в могилу своего чудесного дара.
Так же, как когда-то в юнкерской школе, сделалось вдруг мучительно стыдно, неловко, что это говорят про него, им восхищаются, его стихами. А может быть, стыдно было и оттого, что едва поборол в себе желание крикнуть: «Это я, я написал эти стихи, вот они, слушайте!» Сердце по-прежнему продолжало биться неуёмно и страшно. Дыханье было стеснено.
Нигорин смеялся:
– Пойдём, Михаил Юрьевич, ну чего заслушался. Студенты тебя в Пушкины прочат. Идём, ждут нас.
Лермонтов позволил взять себя за руку, послушно, не отвечая, пошёл рядом с Нигориным. Через несколько шагов их окликнули:
– Мишенька! Чуяло моё сердце, что тебя здесь я встречу.
Дарья Антоновна даже и не взглянула на Нигорина. Как будто Лермонтов был один, бросилась к нему, ласково и радостно прижала к себе.
– Да что ты, Мишенька, ровно потерянный? – шепнула, целуя его. – И щёки горят. Ай Варенька твоя тебя полюбила?
VIIПервого февраля в Конюшенной церкви должно было состояться отпевание тела Пушкина.
С самого утра этого дня Евгений Петрович ощущал в себе беспокойство и тревогу.
Заупокойная обедня должна была качаться в десять с половиной. Было уже после одиннадцати.
Он всю дорогу погонял извозчика.
На площади стояли огромные толпы. Жандармы, козыряя, очистили Евгению Петровичу дорогу к собору. В собор впускали только по билетам. Какие-то люди в дверях покосились на проходившего Самсонова.
В церкви Евгению Петровичу сразу же приметились в толпе лица двух министров. Присутствовал почти весь дипломатический корпус, много знати. Самсонов жадными глазами впивался то в ту, то в другую стоявшую вблизи гроба фигуру. Вдовы среди публики не было.
Хор чистыми, упруго звеневшими голосами тянул:
Последнее рыдание творяше…
Ему вдруг стало невыносимо тоскливо. Никогда не расставался он ни с кем из близких, никого не провожал в дальнюю дорогу, но почему-то ему казалось, что так бывает именно когда провожаешь и расстаёшься.
«Зачем, зачем я здесь?»
Сначала было просто до невыносимости беспокойно. Потом вдруг сразу стало понятным и почему он беспрестанно погонял извозчика, и почему, уже переступая порог церкви, томился смутным предчувствием какого-то открытия. У него горела и заливалась кровью голова.
Граф? Что граф! Графа уже не было ни в жизни, ни в мыслях. Вероятно, сейчас Самсонов и не вспомнил бы, какое он принял от него поручение. Своё, своё.
Он ещё раз внимательным, ищущим взором зарылся в толпу. Той, которую он хотел увидеть у гроба, той, по чьим глазам он в этот миг хотел бы прочесть что-то самое главное, самое важное для себя, в церкви не было.
Рассеянно покрестив пуговицы мундира, Самсонов повернул к выходу.
В Третьем отделении на лестнице столкнулся с Дубельтом.
– Господин гвардии штабс-капитан, – как шагом, печатая слова, заговорил Дубельт, – известно ли вашему высокоблагородию, что граф поручить вам изволил?
Евгений Петрович посмотрел на него удивлённо.
У Дубельта на углах рта выступила пена, это всегда служило признаком раздражения и всегда заставляло, даже Бенкендорфа, в таких случаях отодвигаться от него осторожно.
– Известно ли вам-с, – брызгая этой пеной, рубил Дубельт, – известно ли вам-с, что в городе ходят уже второй, а может, и третий уже день ходят возмутительные стихи? Возьмите себе-с, расследуйте. Я надписал это вам-с. Мне некогда. По высочайшему повелению я должен разбирать бумаги Пушкина, я должен исследовать… А тут стихи, ещё какие-то стихи. Они с ума сведут, эти стихотворцы, – закончил он визгливо и побежал вниз по лестнице.
За несколько ступенек до конца остановился.
– Господин гвардии штабс-капитан!
Самсонов сошёл к нему.
– Да-с. Забыл предупредить. Вы неопытны-с, можете глупость наделать. Так вот-с. Там попадётся одно имя, – зашептал он, наклоняясь к самому уху. – Отставной штаб-ротмистр Нигорин. Его не трогать. Это по моему поручению, для пользы службы. А вам заняться сим незамедлительно. Так приказал граф.
Евгений Петрович только пожал плечами:
– Слушаю-с.
И, не прибавив ни слова, стал подниматься наверх.
В канцелярии делопроизводитель секретного стола вручил ему лист с каллиграфически выведенными на нём строчками. В углу была карандашная пометка Дубельта:
Господину Гв. штабс-кап. САМСОНОВУ
Граф приказал расследовать вашему высокоблагородию.
Г.-м. Дубельт
Евгений Петрович попробовал вчитаться в вырисованные, неровные справа строчки. Какой-то иной, скрытый от всех, страшный своей таинственностью смысл, казалось, заключался в них. От строчки
…он мучений
Последних вынести не мог… –
болезненно и тоскливо сжалось сердце. Он сложил лист пополам, спрятал его в карман.
В приёмной графа камердинер опасливо шепнул:
– Сейчас уезжают.
Самсонов настойчиво повторил:
– Доложи.
Рядом, из туалетной, раздался скрипучий, мямлящий голос графа:
– Ну, ну, mon cher, что у тебя там?.. Входи.
Бенкендорф, стоя у зеркала, щёткой приглаживал торчавшие на висках седые волосы.
– Ваше сиятельство приказали мне расследовать происхождение стихов «На смерть поэта»?
– Да, да, mon cher.
Граф вдруг отвернулся от зеркала, заулыбался виновато, в такт словам дирижируя щёткой.
– Да, уж пожалуйста. Сейчас такая кутерьма, что голова кругом идёт, поручить некому. Написал-то их Лермонтов, парень, в сущности, безобидный, только шалопай большой руки. Это ничего. А вот м-м… какой подлец их по городу пустил, так что теперь чуть ли не каждый декламирует, – это, это выясни.
Он снова наклонился к зеркалу. Растягивая пальцами сморщенную, до блеска пробритую на щеках кожу, внимательно рассматривал какой-то прыщик. Что-то вспомнил.
Не глядя, левой рукой бросил Самсонову с туалетного столика печатный листок.
– Да вот ещё, mon cher. Полюбуйся. Это твоё упущение.
Это была последняя страница «Литературных прибавлений» к «Русскому инвалиду».
В чёрную траурную рамку было заключено:
Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великолепного поприща!.. Более говорить о нём не имеем ни силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю ценность этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость! Наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет у нас уже Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!
29 января, 2 часа 45 мин, пополудни.
Граф сердито покосился на молчавшего Самсонова.
– Что это такое, в самом деле, mon cher?
Он покончил со своим туалетом, пошёл было к дверям, посреди комнаты остановился, сердито оправляя ворот мундира.
– Что это за чёрная рамка вокруг известия о смерти человека нечиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну, да это ещё куда бы ни шло… А то – «Пушкин скончался в середине своего великого поприща»! Какое это поприще такое? Что он был – полководец, военачальник, министр, государственный муж? Писать стишки не значит ещё проходить великое поприще. Неудобно и неприлично. Строгое замечание, выговор, предупреждение… и ценсору и редактору. Понял? А с Лермонтовым это ты разберёшься. Ну, прощай. Мне надо спешить к государю.
VIIIК Беклемишеву[151]151
Беклемишев Николай Петрович – штабс-ротмистр Харьковского уланского полка.
[Закрыть] Бурнашёва ввёл его новый знакомый.
Молодой Беклемишев, носивший сейчас золотой аксельбант военной академии, служил в том же, что и Глинка, Харьковском уланском полку.
По воскресеньям в доме бывали званые обеды. Хлебосольный хозяин неизменно приглашал тогда к столу и тех, кто собирался на половине сына.
Таким образом, и Владимир Петрович удостоился чести обедать у шталмейстера двора.
До обеда на половине молодого Беклемишева шёл оживлённый спор.
Конногвардейский поручик Синицын, человек невзрачной и невыразительной внешности, обычно молчаливый и застенчивый, сейчас рассуждал с видом необыкновенно серьёзным и значительным. Он был аудитором в военносудной комиссии над убийцей Пушкина.
– Государь, не отменяя постановления комиссии, – рассказывал он, – по исконному своему милосердию смягчил его, как мог. Высочайшая резолюция по сему делу гласит: «Быть по сему, но рядового Геккерна, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты». И то сказать, господа, по точному смыслу сто тридцать девятой статьи воинского сухопутного устава за дуэль, окончившуюся смертоубийством, положено повешение. Закон суров, излишне суров для нашего просвещённого века. И потом, поручик Геккерн был сам тяжко оскорблён, комиссия нашла нужным вступиться за него у государя, ходатайствуя только о разжаловании в рядовые…
– Вступиться! Ходатайствовать о смягчении! Вот истинно русские сердца! Господа командиры частей гвардейского корпуса, тлейся в них хоть искра участия к нашей славе, к нашей гордости, к нашему Пушкину, должны были не смягчать закон, а, наоборот, требовать четвертования. Мало повесить вашего Геккерна, убийцу русского гения.
Владимир Петрович почти с ужасом посмотрел на молоденького семёновца. На мундире его тоже был золотой аксельбант военной академии.
Синицын тихонько, не без ехидства, захихикал.
– А вы, милейший Линдфорс, полагаете, что гению России позволительно плевать в лицо и оскорблять не только благоговеющих перед ним соотечественников, но и иностранцев, о чести и благородстве имеющих понятие не меньшее? Им-то до русского гения дела ведь нет.
С этими словами он встал, очевидно показывая тем, что дальше спорить не намерен, и отошёл в угол.
Линдфорс, не обратив на него никакого внимания, взывал уже теперь ко всем бывшим в комнате:
– Меня не удивляет, господа, когда наши старички, какие-нибудь почтенные звездоносцы, берут сторону этого презренного убийцы, меня не удивляет, что лермонтовских бичующих стихов испугались наши родители, но чтобы среди нас, среди молодёжи, находились люди, не постигающие, что простить убийцу Пушкина – значит не иметь никакого уважения, никакой гордости к собственному имени, это для меня непостижимо…
Синицын, осторожными мелкими шажками прохаживавшийся по комнате, посмотрел на своего противника иронически прищуренным взглядом, ухмыльнулся, но ничего не сказал.
– Да, кстати о стихах Лермонтова! – перебивая Линдфорса, воскликнул хозяин. – По рукам ходят уже новые, добавочные к тем, что были. Говорят, эти заключительные ещё сильнее и резче. Кто из вас, господа, знает их?
– Я, – поспешил заявить Линдфорс.
К нему сразу бросилось несколько человек.
– Вы знаете? Знаете? Так скажите же их скорее. Ведь их так трудно сейчас получить.
Бурнашёв тоже проворно извлёк из кармана записную книжку и карандаш.
– Владимир Петрович, – услышал он над ухом.
Синицын тронул его за плечо, глазами приглашая выйти из комнаты.
По мягкости своего характера Владимир Петрович не посмел отказаться, со вздохом спрятал обратно в карман записную книжку.
Вокруг Линдфорса столпились все присутствующие. Сбиваясь и нетвёрдо он читал:
…А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона…
– Идёмте, Владимир Петрович, – шепнул Синицын, – Я вам должен кое-что сказать.
Никто не заметил, как они вышли.
В бильярдной, убедившись, что за дверьми никого нет, Синицын взял из стойки кий и, приблизившись вплотную к Бурнашёву, вполголоса заговорил:
– Мы с вами, Владимир Петрович, старые знакомые, и оба люди тихие. Так вот, проформы ради, чтобы кто не подумал, что мы секретничаем, давайте-ка шарокатствовать, будто играем партию. А я вас ведь с намерением удалил от того разговора. Эти молодые люди, очевидно, ещё не знают, что сталось с автором этих дополнительных стихов, с тем самым Лермонтовым, которого, как помнится, вы у меня как-то на лестнице встретили. Стихи эти будут у меня сегодня же вечером, и в самом верном списке, так что поедемте потом ко мне, я их дам вам списать. Только видите ли, стихи эти как-то уже попали не в добрый час на глаза государю, и над Лермонтовым не хуже, чем над Дантесом, наряжено следствие. Теперь не только эти дополнительные, но и всё стихотворение целиком сделалось контрабандным и преследуется жандармерией. Поэтому вы понимаете, что бравировать знанием этих стихов, особенно нам с вами, людям тихим, вовсе не годится. Вот я и позволил себе увлечь вас от того кружка, с половины Николая Петровича.
– Крайне, крайне признателен вам, любезнейший Афанасий Иванович, а за то, что и стихи мне списать обещаете, – вдвойне, – захихикал Бурнашёв. – Только ловко ли, что мы так долго отсутствуем. Может, там уже к столу пригласили.
– Ну что ж, пойдёмте. Пожалуй, и правда пора.
Действительно, там уже садились за стол.
Какой-то подагрического вида старец в ленте и со звездою сокрушённо качал головой и говорил:
– …Да, да, дерзки, весьма дерзки стали. И правительство и общество поносить решаются. Э, батенька, что говорить: c'est un arriere-gout de de'cabrisme de nefaste memoire[152]152
Это отрыжка печальной памяти декабризма (фр.).
[Закрыть]. Надо бы, надо бы за такие стишки надеть на него белую лямку. Пусть голубчик в шкуре рядового-то попробует, как к революции-то призывать. А, пожалуй, ещё государь, по неизречённому милосердию своему, простит и этого сорванца.
– Так что, ваше высокопревосходительство, полагаете, – не утерпел пылкий Линдфорс, – что за убийство Пушкина и за благородный порыв возмущённого русского сердца кара должна быть одна и та же?
Звездоносец с минуту тяжело прищуренными глазами смотрел на него.
– Да ты, я вижу, тоже того, – наконец разрешился он. – Таких же идей набрался?! Тоже революции хочешь?!
– Помилуйте, ваше высокопревосходительство, в чём же вы тут видите революцию? Эти стихи – самые верноподданнейшие, один эпиграф к ним говорит за это. Да и эти дополнительные строчки – где же тут можно увидеть революцию?
И он опять не удержался, чтобы не продекламировать:
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов…
Его оборвал хозяин. Почтенный шталмейстер, не теряя, впрочем, для всех остальных весёлого выражения лица, взглянул внушительно.
– Помилуй Бог, – воскликнул он по-суворовски, – стихи, у меня за столом стихи! Нет, душа моя, мы люди не поэтические, а я люблю, чтобы гости кушали мою хлеб-соль во здравие. А тут вдруг ты со своими стихами: все заслушаются, и никто не узнает вкуса этого фрикасе из перепёлочек. А они, братец мой, перепёлочки-то, из воронежских степей в замороженном виде присланы.
И он очень обстоятельно и подробно начал объяснять трёхзвездному сенатору и дамам преимущества дичи, ловленной соколами, а не в тенёта. Завязался разговор о перепелах.
Владимир Петрович по скромности как своего характера, так и общественного положения за всё время обеда не сказал ни слова.
После кофе гости стали расходиться. Синицын, подойдя к Бурнашёву, повторил своё приглашение. Тот виновато заулыбался и законфузился.
– Чего вы? Или забыли, что хотели иметь?
– Афанасий Иванович, голубчик, – взмолился Бурнашёв. – Вы мне позвольте вперёд домой съездить. Вам, как старому знакомому, признаться не стыдно: мозоли. Сапоги сегодня только первый раз надел, и сил никаких нету.
– А, – с серьёзным видом протянул Синицын. – Поезжайте, поезжайте, но только помните: я вас жду.
Всю дорогу домой Владимир Петрович переживал этот столь льстивший его тщеславию обед. Несмотря даже на боль, которую причиняла тесная обувь, он улыбался самодовольно и счастливо.
Дома в прихожей к нему с растерянными, испуганными лицами бросились мать и сестра.
– Володенька, родной, да что ж это такое? – захлёбываясь слезами и словами, говорили они. – Нужно скорее ехать просить… жаловаться… ведь ты же ничего не сделал…
– Что случилось?! – чувствуя, как у него подкашиваются ноги, вымолвил Бурнашёв.
– Жандарм за тобой. Ждёт тебя там.
По зале, заложив руки за спину, с терпеливым и равнодушным видом расхаживал жандармский капитан. Заметив входящего Бурнашёва, он поспешно спросил, чуть наклоняя голову:
– Бурнашёв? Владимир Петрович? Приказано немедленно доставить вас в Третье отделение собственной его величества канцелярии.
И опять поклонился.
Владимир Петрович попытался что-то сказать – получилось ёкающее непонятное бормотанье. Жандарм щёлкнул шпорами, приглашая следовать за ним, и Владимир Петрович послушно, нахлобучив на голову шляпу, – шубы он снять не успел, – в тех же тесных сапогах, на том же самом извозчике, на котором он должен был ехать к Синицыну, позволил отвезти себя к Цепному мосту. В голове беспорядочно оползающей кучей громоздилась невероятная путаница мыслей.
У Цепного моста сани завернули во двор. Владимир Петрович попробовал подняться вслед за выскочившим проворно капитаном. Словно за эти полчаса состарился он на двадцать лет или его хватил удар – не слушались ноги, и руки беспомощно цеплялись то за облучок саней, то за кушак извозчика. На лестнице жандарм должен был останавливаться и ждать, так медленно поднимался Владимир Петрович.
Комната, куда его ввели, была просторной и светлой. Окна выходили на Фонтанку. Ранние февральские сумерки густели, оконные квадраты на паркете скосились и багровели.
Жандарм, доставивший его сюда, вышел, не сказав ни слова. Владимир Петрович оглянулся растерянно и беспомощно. Только сейчас он заметил в углу застеленную постель. От вида этой постели ему вдруг сделалось так невыносимо тоскливо и жалко себя, что он заплакал.
Сколько прошло времени, он не знал, во всяком случае за окнами была густая чернильная тьма, когда, словно сорвавшись, стукнули карабинами жандармы, широко распахнулась и тотчас же захлопнулась дверь. Кто-то быстрым решительным шагом вошёл в комнату. Владимир Петрович не разглядел лица, только мундир, блеснувшее золото эполет да мягкий звон шпор переполнили сердце испугом. У него закружилась голова, его мутило.
– Сидите, сидите, – небрежно бросил вошедший, заметив, что арестованный делает тщетную попытку подняться. – Вы не замёрзли? Тут холодно, – так же небрежно, должно быть занятый своими мыслями, спросил он.
Но звук этого голоса пробудил какую-то надежду в сердце Бурнашёва.
Пересиливая дрожь, он постарался улыбнуться возможно приветливее, опять попытался встать.
«Проклятый сапожник. Я так и не переобулся. Господи, за что мне, несчастному, такие страдания?» – морщась от боли, подумал он.
Офицер в гвардейском Преображенском мундире присел к столу. Владимир Петрович заглядывал ему в лицо, старался поймать его взгляд.
– Ведь мы с вами знакомы. Изволите помнить: вы у меня справочку для вашего дядюшки брали, – искательно лебезил он. – Скажите ж, Евгений Петрович, на милость, что это за камуфлет такой? Ума приложить не могу – за что меня взяли.
Преображенец рассеянно и вместе с тем удивлённо посмотрел на него. У Владимира Петровича испуганно сжалось и упало сердце.
«Неужели ошибся?! Неужели это не Самсонов?! Неужели не узнаёт?! Пропал, пропал совсем!»
На него смотрело незнакомое, с резкими, осунувшимися чертами лицо, только вот глаза с голубым пристальным взглядом всё те же, но сейчас они горели тяжёлым блеском, как будто Самсонов не спал уже много ночей.
– Знакомы? Возможно. Не помню, – рассеянно бросил он, выкладывая на стол перед собой лист бумаги. – Ваше имя, фамилия, чин? Из кого происходите? Место служения?
Владимир Петрович заплетающимся языком ответил на все вопросы.
– Так. Теперь скажите, от кого вы услыхали или получили в списанном виде впервые стихотворение, называемое «На смерть поэта»?
«Попался, кончено! – с отчаянием пронеслось в голове. – Говорил мне Синицын. Никогда больше, никогда больше не буду списывать стихов, не прошедших цензуры».
Против воли, сам не понимая, как он их запомнил, он заплетающимся языком повторял слова, которые говорил у Беклемишева за обедом звездоносный сенатор.
– Я сам их осуждаю. Стихи эти суть не что иное, как призыв к революции. Это отрыжка печальной памяти декабризма, это даже опаснее. Единственно из болезненного к литературе любопытства…
Самсонов прервал резко:
– Но и вы их давали списывать. Например, библиотекарю Цветаеву.
– Точно так-с, но это человек благонамереннейших мыслей…
Его, казалось, не слушали.
– От кого вы их получили, я вас спрашиваю?
– От Глинки, Владимира Сергеевича Глинки. Он первый мне похвастался, что имеет их в списанном виде. Он всегда хвастает, что первый достаёт стихи ещё до печати.
– А Глинка где достал – вы знаете?
Самсонов говорил усталым равнодушным голосом. Бурнашёв заметил, что он не записывает его ответов, и это придало ему мужества.
– Он называл фамилию, только я запамятовал. Отставной ротмистр их, то есть Харьковского уланского полка. Нигорин, кажется.
У Самсонова по губам скользнула улыбка.
– Вы от Глинки, Глинка от Нигорина, а с самим автором, корнетом Лермонтовым, вы никогда не встречались? Его лично не знаете?
– Никогда даже не видывал. Честное слово, не знаю. Раз как-то на лестнице у одного моего хорошего знакомого столкнулся и то только потом узнал, что это был Лермонтов.
Самсонов опять улыбнулся.
– Отлично. Вас привезли сюда по недоразумению. Сейчас я распоряжусь, чтобы вас отпустили. Но…
Он жестом остановил порывавшегося говорить Бурнашёва.
– Потрудитесь запомнить. Этот наш разговор и вообще ваше пребывание здесь должны остаться в совершенном секрете. Поняли? Иначе для вас опять будут неприятности.








