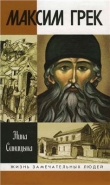Текст книги "Мир приключений 1987 г."
Автор книги: Анатолий Безуглов
Соавторы: Глеб Голубев,Александр Кулешов,Теодор Гладков,Юрий Кларов,Евгений Федоровский,Ярослав Голованов,Джулиан Кэри,Геннадий Прашкевич,Валерий Михайловский,Марк Азов
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 51 страниц)
На бабу Яну Вовка не обижался.
Время от времени Вовкины родители надолго исчезали – очередная зимовка. Тогда в питерской квартире воцарялась баба Яна и жизнь сразу становилась жутковатой и интересной. Жутковатой потому, что баба Яна следила за каждым его шагом и не ленилась заглядывать в школу, а интересной потому, что Вовке разрешалось рыться в отцовских книгах. В основном это были работы по метеорологии и радиоделу, но, к величайшему своему удовольствию, Вовка обнаруживал среди них то “Альбом ледовых образований”, то “Лоцию Карского моря”, то книгу с совсем уж захватывающим названием “Грозы и шквалы”. Это позволяло ему держаться на равных с закадычным дружком Колькой Милевским, единственным его другом, которого признавала баба Яна: “Этот самостоятельный!”
Баба Яна была права.
Будучи старше Вовки на два года, Колька Милевский уже подрабатывал. Он, Колька, считал: главное в жизни – дело! Правда, еще и обстоятельства так сложились: отец у него умер, матери надо было помогать.
Делом Колька занимался на Литейном, в ремонтной мастерской, расположенной в таинственном полуподвальчике старинного дома, помогая мастеру. Вовка любил забегать к нему в мастерскую. Там пахло канифолью, луженым металлом, кислотами. Приносили чинить мясорубки, паять кастрюли. Случалось, пригоняли детские коляски – там ось полетела, здесь недостает спиц. Колька не важничал, поддергивал клеенчатый фартук, посмеивался, сидя под репродуктором. И конечно, это Милевский затащил Вовку в клуб любителей-коротковолновиков. Официально Вовку в клуб не приняли, но Колька, любимчик отставного сержанта Панькина, что руководил занятиями, упросил его, и усатый этот сержант закрывал глаза на присутствие скуластого пацана, никаких особых надежд не подававшего, но что-то там выстукивающего на тренировочном пищике. Как-то в июне, перед самой войной, пользуясь своим особым положением, Колька Милевский упросил сержанта проверить Вовку в деле.
– Пушкарев? – удивился сержант. – Нету такого в списке.
– Мало ли! Вот он, натурально сидит.
– Этот? – еще больше удивился сержант. – А ну, садись за параллельный телефон. Вот карандаш, будешь писать тексты.
Вовка, волнуясь, нацепил эбонитовые наушники.
С замиранием сердца вслушивался он в комариное попискивание морзянки. Передача шла из Хабаровска. Деловая передача, быстрая. Слишком быстрая для Вовкиных ушей, понятия не имевших о настоящих эксплуатационных условиях. Ухватит букву, потом другую, а слово не всегда складывается.
Сержант рассердился:
– Ты где это, Колька, раскопал такую хилую форму жизни? Тут не детский сад, тут курсы радиотелеграфистов.
– Он не хилая форма! – обиделся и Колька. – У него отец полярный радист!
Сглаживая грубость сержанта Панькина, Милевский забежал к Пушкаревым. Он к ним ходил с таким же удовольствием, как Вовка в мастерскую. У Пушкаревых были приличные приемники, библиотека по радиоделу. Опять же, баба Яна. Она сразу спросила:
– Ишь, смурные… Напакостили?
– Экзамен провалил, – честно признался Вовка. – Подвел Кольку.
– А мог сдать?
– Мог! – вступился Колька за друга. – Если бы передача велась медленней, сдал бы!
– Кто ж это ради него будет медлить?
– Практика нужна! – защищал Колька друга. – У Вовки какая практика? Считай – никакой! Я сам им займусь. Я его натаскаю на это дело, а откажется сержант принимать экзамен, пожалуюсь одному своему приятелю. Он и в Главсевморпути, он и в академии!
– Кто такой? – удивилась баба Яна. – Тоже слесарь?
– Академик, баба Яна! Вот кто!
– Какой еще академик?
– Шмидт!
– Шмидт? – удивился и Вовка. – Тот самый?
– Тот самый! Челюскинец!
– А где ты с ним подружился? – засомневалась баба Яна.
– В трамвае. – Колька от бабы Яны ничего не скрывал, это в нем бабе Яне нравилось. – Я еду в трамвае, зайцем понятно, тут и берут меня за плечо. Влип, думаю, высадят. А голос не строгий. Вежливый голос. Передайте, дескать, товарищ, гривенник. Я, понятно, не спорю, передаю гривенник, а сам глазом – зырк! Точно, он! Бородища, что веник, глаза голубые и рост под потолок! Поглянулся я Шмидту.
С Колькой не пропадешь!
Колька давно, наверное, надел форму. Три года не виделись. За это время Колька, конечно, прорвался на фронт. Сидит сейчас в боевом блиндаже – чуб направо, плечи широкие. А на рукаве кителя черный круг с красной окантовкой. А в центре круга две красные зигзагообразные стрелы на фоне адмиралтейского якоря!
“Эх, нет Кольки… – вздохнул Вовка. – Ладно! Нечего нюнить! Не в Игарку же я плыву в самом деле. Это мама так думает – в Игарку. Это капитан Свиблов так думает – в Игарку! Это боцман Хоботило так думает… А у меня свои планы!”
От одной мысли о задуманном Вовкину спину жгли злые мурашки.
Но о задуманном Вовкой никто не знал.
Глава вторая. БРЕВНО ЗА КОРМОЙ
1Тайна действительно была великая.
Завтра или послезавтра, знал Вовка, буксир “Мирный” бросит якорь в ледяную воду бухты Песцовой. Там, на ее берегу, уже два года ждут смены зимовщики. Стосковались по Большой земле, отвыкли от гражданской жизни, и все равно один из них подал рапорт – потребовал, чтобы его, Лыкова Илью Сергеевича, оставили с мамой и Леонтием Ивановичем еще на одну зимовку. Сам потребовал, понимая военную обстановку. Настоящий человек!
Вот при разгрузке буксира Вовка улучит момент и юркнет незаметно в ледяные торосы. Одет он тепло, карманы набиты сухарями. Время военное, капитан Свиблов ни за что не станет тянуть с отплытием: грузов “Мирного” ждут в Игарке! Ну, а Лыков Вовку поймет! Не может не понять. Только растает дымок “Мирного”, Вовка и объявится! Он делом хочет помочь стране и зимовщикам. Обеды варить? Пожалуйста! Ходить на охоту? Хоть на белого медведя! Снимать показания с приборов? В любое время!
Кстати, снимают показания с приборов на метеостанции четыре раза в сутки, через каждые шесть часов – в час ночи, в семь утра, в час дня и в семь вечера. Он, Вовка, в любое время готов бежать на метеоплощадку. Фонарь привязан к руке, метели он не боится – всегда готов!
А если уж важны для мамы его школьные занятия, пожалуйста, он и заниматься готов. Вернется на материк, сразу сдаст все экзамены. Ведь самое главное это то, что, если он, Вовка, проведет достойно зимовку, если он, Вовка, поможет зимовщикам обеспечить бесперебойную работу метеостанции Крайночнго, никто уже никогда не посмеет его упрекнуть в том, что в самый разгар наступательных боев одна тысяча девятьсот сорок четвертого года, когда советские бойцы подошли к границам Восточной Пруссии, захватили важные плацдармы в Польше на Висле, освободили Молдавию и восточную часть Прибалтики, он, Вовка Пушкарев, сын полярников, трусливо отсиживался вдали от сражений в утепленном бараке своей бабки Яны Тимофеевны.
Оно, конечно, нехорошо начинать жизнь полярника вроде как с обмана. Прятаться, заставлять людей волноваться…. Но Лыков явно его поймет, а он, Вовка, стахановским трудом смоет с себя вину!
Такие мысли успокаивали Вовку, но все равно на душе скребли кошки.
Еще как скребли!
Он и проснулся из-за этого. Никаких кошек, конечно, не было. Но совсем рядом, в нескольких сантиметрах от Вовкиного уха, за тонким металлическим корпусом буксира, там, где раньше уютно побулькивала, шипела забортная вода, сейчас, леденя душу, что-то терлось о металл, отвратительно скрежетало. “Мирный” то сбавлял ход, то вдруг рвался вперед, как собака из алыка.
Вовка повернул голову, взглянул на маму.
Мама спала. Она спала на левом боку, набросив поверх одеяла свою аккуратную меховую малицу. Глаза мамы были закрыты, по щеке рассыпались рыжие кудряшки, тяжело, как золотая, лежала на подушке коса.
“Почему рыжих дразнят? Они же красивые!”
– Мама!
Она только сладко вздохнула, дунула, не просыпаясь, на щекочущие ее кудряшки, и Вовке почему-то стало жалко ее. Ведь чего они только не перевидали за эти три года! Эвакуация. Медленные поезда. Чужие дома… И работала мама не на метеостанции, а на стройке. Это потом о ней вспомнили в Управлении Главсевморпути, когда понадобилась смена зимовщикам с Крайночнго.
“О маме вспомнили! – возгордился Вовка. – Не о ком-нибудь! О маме!”
Он соскочил с койки, прижался к иллюминатору и ахнул.
За крутым, нависшим над водой бортом “Мирного” быстро неслись, отставая от буксира, мелкие льдинки, то белые, то лиловатые, будто облитые чернилами. Со скрежетом цеплялись они за борт, ползли вдоль него, крошились, подныривали под брюхо. Буксир бодался, вспарывал бронированным носом узкие льдины и упорно продирался к цели.
– Лед, – вздохнула мама, открывая глаза. – Когда успело натащить?
– Ночью! – подсказал Вовка. Он хитрил. – Я тоже догадался, что это лед. – Ему очень не хотелось, чтобы мама вспоминала о своем решении перекроить мировой календарь. Но мама никогда не меняла решений. Она видела Вовку насквозь.
– Чего смеяться? – обиделся он. – Вот затрет “Мирный” льдами, тогда посмеемся!
“А что! – сам же и зажегся он. – Вмерзнем в лед, как нансеновский “Фрам”, начнем дрейфовать через весь Ледовитый. Я заведу специальный журнал, буду отмечать толщину льдов, погодные условия, всяческие проявления полярной жизни. А потом выбьемся на вольную воду и встретят нас в Питере, как челюскинцев. Сам Колька Милевский будет стоять на балконе!”
Но мама сказала:
– Не хитри! Доставай учебники. Заниматься будешь все время, специально попрошу боцмана следить за тобой. Сейчас придет Леонтий Иванович, он погоняет тебя по-немецкому. Ты все запустил.
И не выдержала:
– Не дуйся!
И не выдержала:
– Иди ко мне. Когда мы теперь увидимся…
Вовка насупился. Не любил этих телячьих нежностей да и знал: скоро они увидятся! Неизвестно еще: обрадуется ли ему мама.
– Ладно, полярник, – засмеялась мама. – Дуйся не дуйся, а немецким все равно займешься сейчас.
Натянула свитер, глянула в иллюминатор: заметила как бы про себя:
– Тертюха…
– Какая еще тертюха?
– Лед такой. Ледяная каша, ее тертюхой зовут. Если мороз не ударит, она нам не страшна. А с правого борта, наверное, остров виден. – Она сразу погрустнела: – Ох, Вовка!
– А давай я слетаю на палубу!
– Не надо. – Мама умела быть жесткой. – Насмотришься при разгрузке. – И попросила: – Вовка, помогай бабушке! Одна она. И трубку ее не слюнявь.
– А я слюнявил? – обиделся Вовка. – Я курнул-то всего разок.
– Ну вот. А тошнило тебя до вечера.
– Подумаешь! – Вовка независимо расправил плечи. Но с мамой очень-то не поговоришь. Сорок лет, а рассуждает, будто ей сто.
2По грубым командам боцмана Хоботило, по грохоту сапог на палубе Вовка с тоской и восторгом понял, что “Мирный” действительно подходит к острову. Но прямо перед Вовкой сидел на рундуке веселенький и лысый Леонтий Иванович. Он посмеивался, он поблескивал стеклами очков, он выстукивал что-то по столику. Тире точка тире…Вот ведь! Мама наверху возится со снаряжением, а Леонтий Иванович, так называемый мужчина, отнимает у Вовки драгоценное время.
Точка тире точка точка…
“Морзянка!”
Тире точка тире…
“Буква К…” – дошло до Вовки.
Точка тире точка точка…
“А это Л…”
Точка тире… Точка тире тире… Точка тире…
“Клава!.. Какая еще Клава?.. – растерялся Вовка. – У него что, есть жена или дочь? Ее что, зовут Клава?..”
Точка тире точка точка… Тире точка тире тире… Точка точка точка…Вовка сам машинально отстучал морзянку по столику. Он не хотел дразнить Леонтия Ивановича, но как-то само собой получилось – лысый.
– Готов? – усмехнулся Леонтий Иванович. И предложил, улыбаясь: – Начнем с перевода. Согласен? – И медленно, прислушиваясь к не очень-то уверенной Вовкиной морзянке, продиктовал: – Спартаковцы – друзья народа! – Он, наверное, прочел это в книжке. – Спартаковцы – опора народа, спартаковцы – его будущее. Теперь переведи на немецкий.
“Почему у Леонтия Ивановича такой кругленький голос? – задумался Вовка. – И почему он весь такой кругленький? И что, интересно, сейчас за бортом? Все еще тертюха или какая-нибудь склянка, что лопается и звенит под носом буксира, как стекло? А может, там шипит, разваливаясь, серый блинчатый палабажник, с которого на Севере начинается зима? Или там снежура, резун, молодик?”
Точка тире точка точка… Точка… Тире точка… Тире… Точка тире точка тире… Точка точка…
“Лентяй! Кто лентяй? Он, Вовка, лентяй? Ну, Леонтий Иванович! Сидит весь в очках, улыбается. Интересно, где он провел последние три года?”
– Хочешь стучать, стучи по-немецки, – засмеялся Леонтий Иванович. Он Вовку тоже видел насквозь, хотя вопросы задавал явно бессмысленные. Чем, например, занимается полярный медведь в знаменитом зоопарке Гагенбека?
– Известно чем! – не выдержал Вовка. – Развлекает фашистов.
– Ну и дурак! – заметил Леонтий Иванович. Не ясно было только, Вовку он имел в виду или медведя. – Отвечай, братец, развернуто на вопросы. И не бойся ошибиться. Я поправлю. – И вовсе не к месту спросил: – Одежонка у тебя в порядке? Дыр, опорин нет? Могу подштопать.
“Еще чего! – испугался Вовка. – У меня карманы забиты сахаром и сухарями. Две недели экономил, прятал. А тут сразу – показывай одежонку!”
– Все у меня заштопано, – сказал вслух. – Мама проверяла.
– Ах, мама… – непонятно вздохнул Леонтий Иванович, и круглые его глаза подернулись под очками мечтательной влажной дымкой.
Вовка даже разозлился: “Говорит про спартаковцев, а сам?..”
– Леонтий Иванович, – спросил, не глядя на радиста, – а где вы так хорошо изучили фашистский язык?
– Нет такого языка, братец, – покачал головой Леонтий Иванович. – Есть прекрасный немецкий язык. На нем “Капитал” написан. На нем говорит Эрнст Тельман. Ты, братец, с выводами никогда не спеши, а то вырастешь попрыгунчиком.
– А все же, Леонтий Иванович?
– В Поволжье я вырос, братец. Там немцев – пруд пруди. С немецкими пацанами рос. Пригодилось, тебя учу.
– А где вы зимовали, Леонтий Иванович?
– В Тобольске.
– Да нет, я про Север спрашиваю.
– А-а-а… – развеселился Леонтий Иванович. – В разных местах. На Белом, на острове Врангеля. На Врангеле вместе с Пашей, с отцом твоим. Я там в помощниках как бы ходил, только на Севере мы все друг другу помощники. – Леонтий Иванович рассмеялся: – Мы там, братец, маму твою здорово расстраивали.
– Как это?
– А медведи нам мешали. Повадились, понимаешь, никаких сил нет. Склад ограбили, удавили собаку. Мы с Пашей, то есть с Павлом Дмитриевичем, собрались однажды да и разыскали все три берлоги. Только в берлогу с карабином не влезешь, а медведи понимают, что нашкодили, – не идут на глаза. У Паши, то есть у Павла Дмитриевича, револьвер был системы “кольт”, старый револьвер, но страшной убойной силы. Вот мы и лазали по очереди в берлогу, а твоя мама сердилась, братец.
– И вы лазали? – не поверил Вовка.
– А почему нет? – обрадовался Леонтий Иванович. Вовка пожал плечами. Отец – да. Но чтобы кругленький
Леонтий Иванович полез в берлогу… Спросил, как бросился в омут:
– А почему вы не на фронте, Леонтий Иванович? Вопрос радисту страшно не понравился. Он даже побагровел. Точнее, побурел. Вся его лысина побурела.
– Нахал ты все-таки, братец! Мальчишка и нахал! Думаешь, фронт – это только там, где стреляют? Ошибаешься. Фронт, он сейчас повсюду. И у нас тут идет война. Особая, но настоящая война. Скажем, так: война за погоду! – И добавил, нахмурясь: – Иди прохлади мозги. – И буркнул под нос по-по-немецкибудто сердился: – Эр ист… – И дальше там: —…блос айн Бубе!
Мальчишка, дескать!
Вовка даже плечами не стал пожимать. “Погодите, скоро увидите, какой я вам мальчишка!”
Вылетел на палубу.
Слева, мористее “Мирного”, почти до горизонта тянулись широкие поясины битого льда. Над отпадышами, околышами поблескивало солнце – низкое, негреющее. Над темными разводьями, похожими на кривые черные молнии, курились испарения. А справа, за неширокой полосой вольной воды, совсем близко белел невысокий берег острова Крайночнго, окаймленный прибитыми, выжатыми на сушу льдинами. Рычары.
Вовка назубок помнил карту острова.
Еще бы не помнить! Зимовать собрался на острове.
Вон тот хребет – это, конечно, Двуглавый. Он голый и неприступный, он тянется с запада на восток через весь остров и делит его на две неравные части. Северная – берег бухты Песцовой, где под скальными утесами стоят в снегах бревенчатые домики метеостанции, южная – Сквозная Ледниковая долина, плоская как сковорода. Это на ее берега смотрел сейчас Вовка. “Почему Ледниковая? Там что, ледник лежит?” И сразу вспомнил про Собачью тропу. “Почему Собачья? Идет по ущелью, рассекающему хребет, а ущелье тоже названо Собачьим…”
“Мирный” решительно распихивал крепким носом редкий проносной лед. Льдины кололись, испуганно подныривали под буксир. Если прыгнуть вон на ту льдину, можно перепрыгнуть с нее на другую, можно так вообще допрыгать до берега. Правда, не стоит. Все тут открыто, Хоботило засечет сразу…
“Потерпим”.
Вовка сбежал на корму, присел перед клеткой:
– Белый! Где твоя мамка, Белый?
Белый счастливо ощерился.
А Вовку морозило. Вовке казалось – все видят его оттопыренные карманы, все видят его натянутые под самодельную малицу свитеры. Потому он и прятался на корме – за собачьей клеткой.
Нелегко это – делать что-то тайком.
Вовка сидел на корточках перед клеткой, но смотрел не на собак. Знал, мама сейчас волнуется, Леонтий Иванович волнуется – нелегко расставаться с Большой землей. Знал, капитан Свиблов волнуется – поскорее бы скинуть груз, увести буксир под защиту материка. И матросы волнуются, сочувствуют маме, Леонтию Ивановичу. На острове остаются! Герои! Никто, конечно, не догадывается, что он, Вовка Пушкарев, тоже полярник, тоже герой, только тайный. Он на остров сойдет потихоньку, слава ему пока ни к чему.
Он послюнил палец, выставил перед собой.
Ветер меняется, все круче берет к северу. Это означает – упадет ночью температура. Сейчас около нуля, будет похуже. Не очень весело сидеть в торосах без огня, но придется. Зато капитан Свиблов ни минуты лишней не задержится у острова. Ему, кажется, никогда не нравились льды.
Высокая зеленая волна, шурша редкими льдинками, встала перед форштевнем “Мирного”, с размаху хлопнула буксир под левую скулу. “Мирный” вздрогнул, тяжело завалился на корму. Собак сбило с ног, они, рыча, покатились по клетке. Черный дым ударил из пузатой трубы, мутная вода жадно облапила брюхо буксира, такая мутная, будто “Мирный” правда зацепил винтами дно.
Вовка так и подумал: “Дно зацепили…”
И от мыслей этих, от стылой воды, от тишины, царящей над морем, стало ему жутко.
Вольная вода. Низкое солнце. Редкие льдины. Бревно стоячее несет над водой. Далеко несет. У таких топляков один конец набухает, погружается в воду, другой торчит над поверхностью. Совсем недавно Вовка из-за такого же топляка поднял, дурак, тревогу. Но сейчас на палубу он не побежит. Кое-чему научился, не желает он, чтобы орал на него боцман Хоботило. Топляк, он и есть топляк. Пусть плавает, пока не утонет.
Бревно за кормой навело Вовку на новые мысли.
Как ни мал остров Крайночнй, но много есть на нем потаенных бухточек и заливчиков. Не может быть, чтобы не занесло сюда течениями какой-нибудь просмоленный бочонок с картами, нарисованными от руки, с записками погибающих в море путешественников. Вот тогда будет что рассказать Кольке!
“Пора, – решил Вовка. – Поднимусь к маме. Осмотреться надо. Скоро выгрузка”.
Он ступил на трап, ухватился за металлический поручень, собираясь одним рывком выскочить на верхнюю палубу, но какая-то невыносимая, никогда не испытанная им сила, несравнимая даже с железными мускулами боцмана Хоботило, выдернула трап из-под Вовкиных ног, швырнула Вовку в воздух.
– А-а-а! – успел выдохнуть Вовка, и тотчас в уши ему что-то жадно, огненно ахнуло, опалило огнем. Мир льдов, мутной воды, мир морского буксира мгновенно погрузился в мрачную тишину какого-то совсем другого, какого-то совсем еще неизвестного Вовке мира.
Глава третья. ЧЕРНАЯ ПАЛАТКА
1Он почувствовал – ветер сменился.
Раньше ветер налетал порывами, теперь дул ровно, пронизывающе. Всей спиной, несмотря на малицу и два свитера, Вовка чувствовал нестерпимое ледяное дыхание, но встать не мог и сообразить не мог, почему он лежит на льду, а не на палубе “Мирного”? Левая рука, подвернутая при падении с трапа, онемела, саднило ушибленное плечо и обожженную щеку, но, наверное, и это не заставило бы его подняться, не пройдись по его лбу что-то влажное и горячее, совсем как собачий язык.
– Белый! – позвал он.
И хотел спросить: “Мамка где, Белый?” Но собственный голос прозвучал так хрипло, так непохоже, что он сам испугался.
Испугался и открыл глаза.
“Это небо. А это Белый. Он лапу поджал. И смотрит так, будто он, а не я спрашиваю про мамку. И лбом толкает. Лезет в карман. Сухари. Помнит. Хорошая у Белого память”.
Сказать то же самое о своей памяти Вовка не мог.
Он боялся поднять голову.
Одно дело, если он действительно лежит на краю Сквозной Ледниковой – тогда можно будет подумать, как он сюда попал. Другое дело, если он просто свалился за борт, и буксир, застопорив машины, раскачивается рядом с берегом, и с палубы смотрят на Вовку Леонтий Иванович, боцман Хоботило, капитан Свиблов…
“Почему я не могу поднять руку? Примерз рукав? Почему примерз? Сколько времени я лежу на льду?”
Вовка с отвращением отодрал рукав малицы от пористого белого льда. Медленно поднялся. Его пошатывало. И “Мирного” он не увидел. “Мирного” не было, буксир, наверно, ушел.
До самого горизонта тянулись широкие поясины льдов, разведенных ветром. В полыньях лениво покачивались околыши, море вздыхало, играл на солнце ледяной блеск.
Льды.
Теперь это была не та тертюха, которую легко раздвигал укрепленный нос “Мирного”, это были вполне приличные льды, нанесенные ветром издали.
Ледяные зубья, голубые клыки.
Угораздило бы “Мирный” врубиться скулой в такое вот поле, тут не то что Вовку, тут боцмана Хоботило выбросило бы за борт!
И ведь угораздило. Он, Вовка, лежит на льду, рядом Белый прихрамывает. Хороший оказался удар, если опрокинуло металлическую клетку с собаками.
Вовка потер ушибленное плечо.
Он стоял на самом краю огромной, выдавленной на берег льдины. Внизу хлопотала, всхлипывая, черная, как чернила, вода. Совсем близко темнела громада хребта Двуглавого. Это за ним, знал Вовка, лежит бухта Песцовая, это за ним уютно дымят домишки зимовки.
“И рукавицы нет. Левая на руке, а правой нет”.
Вовка отчетливо, до малейших деталей представил, что сейчас делается на палубе “Мирного”. Боцман всяческими словами поносит этого беспутного поливуху, его, Вовку, испортившего весь рейс, Леонтий Иванович по-немецки поносит сбежавшего пса, капитан Свиблов презрительно усмехается – ох, уж это Управление, навязавшее ему такого дурацкого пассажира! “Льды! – тычет перед собой Свиблов. – Не морозь, не молодик. Крепкие льды! А у меня, сами понимаете, груз. К берегу не пойду, пусть с зимовки Леонтий гонит за пацаном упряжку!”
А мама?
Если бы мама увидела, что его, Вовку, выбросило за борт, она добралась бы до него даже вплавь.
– Белый!
Вовкин голос прозвучал хрипло, неуверенно. Негромко прозвучал. Даже Белый взглянул на Вовку с недоумением.
“Взрыв! – дошло до Вовки. – Я же помню: огнем ударило! Это подлодка была! Это не бревно за кормой качалось! А я, дурак, никого не предупредил!”
Со страхом он огляделся.
Где они – разбитые шлюпки, обломки надстроек, нетонущие пробковые пояса?
“Ничего нет! – обрадовался. – Отбился “Мирный”. Спрятался от торпед во льды, а к пушке фрицев не допустили пулеметчики. Меня взрывом выбросило, но “Мирный” ушел. Сейчас в бухте Песцовой Леонтий Иванович собирает упряжку. Часа через три здесь будет. Меня же и отругает. “Ушло, – скажет, – судно. Не стал тебя ждать Свиблов. Ушел, пока ты тут за бугром болтался!” Кругленько так скажет.
Ему, Вовке, это и надо. “Никакого обмана. Просто выбросило за борт. Зимую поневоле”.
Ободренный, Вовка взглянул на хребет.
Но такие темные, такие угрюмые ползли по распадкам тучи, что ледяной холодок вновь тронул его тощую спину. Приедут за ним или нет, пока он один. И даже рукавички у него нет. А ветер холодный. И теплей ночью не станет.
“Зато мама ни за какие коврижки не посадит меня обратно на буксир. Раз за “Мирным” охотятся фрицы, не посадит она меня на буксир!”
“А если не приедет Леонтий Иванович? Если буксир ушел в море и отстаивается во льдах? Если капитан Свиблов уйдет из-за подлодки в Игарку?”
“Трус! – обругал себя Вовка. – А еще хотел спрятаться в торосах! Два свитера натянул!”
“Колька бы не струсил”, – сказал он себе. И позвал:
– Белый!
Голос все еще звучал хрипло, растерянно. Белый даже голову не повернул. Но как мог звучать Вовкин голос, если, повернувшись, наконец, к морю, он, Вовка, с ужасом разглядел на одной из вздыбленных, обкрошенных льдин бесформенные, но ясно различимые ярко-алые пятна.
“Сурик! – с запозданием, но догадался Вовка. – Это сурик. Это краска, которой покрывают днища судов. “Мирный” ворочался тут как мамонт, уворачивался от фашистских торпед, лез сквозь льды, не разбирая дороги! Отбился, ушел, вот только льдину всю перепачкал. Надо теперь самому топать на станцию”.
Он не мог оторвать глаз от ярко-алых пятен.
Почему он не увидел их сразу? И что там на льду делает Белый?
Он снова окликнул собаку, но Белого оклик не остановил. Прихрамывая, припадая на переднюю лапу, пес бежал по краю округлой широкой полыньи, поскуливая, водил низко опущенным черным носом. Вдруг, остановившись, яростно заработал передними лапами, будто нору рыл или прокапывал спуск к воде.
– Белый!
Пес продолжал работать. А под Вовкиным унтом что-то непонятно хрустнуло.
Щепка!
Самая обыкновенная деревянная щепка…
“А разве щепки бывают не деревянные? – тупо спросил себя Вовка. И так же тупо ответил: – Бывают”. А сам думал: никогда в жизни не видал он ничего более мрачного, чем эта обыкновенная щепка. Всего лишь щепка, а спину так и леденит.
– Белый!
Пес и сейчас не обернулся. Покрутившись на месте, он уселся прямо на лед и, вскинув вверх лобастую голову, тоскливо, дико завыл. И вой этот оледенил Вовку почище ветра.
Охнув от боли в плече, Вовка бегом припустил к полынье. Не может Белый завыть ни с того ни с сего. Там что-то есть такое, в этой проклятой полынье!
И застыл на бегу.
Замер.
В полынье, на широком ледяном языке, под алыми пятнами сурика, наполовину выбросившись на голубоватый этот ледяной язык, лежал вниз лицом боцман Хоботило.
Он лежал лицом вниз, но Вовке совсем не надо было видеть его лицо. Он узнал боцмана сразу – по черному бушлату, по кирзовым сапогам, по мощным раскинутым рукам. Вот только шапки не было на боцмане. Редкие волосы на затылке обмерзли, тонкими сосульками обвисали к неподвижной воде.
Молча, не веря самому себе, забыв о Белом, забыв вообще обо всем, Вовка сделал шаг к полынье.
Его била крупная дрожь.
Он знал: надо спуститься к воде, надо помочь боцману, но ноги отказали ему. Позвал шепотом:
– Дядя боцман!
Хоботило не отозвался.
– Дядя боцман!
Хоботило молчал.
“Я трус, – с ужасом подумал Вовка. – Я боюсь спуститься к воде!”
Он думал так, а сам медленно, понемножку, спускался и, наконец присев, коснулся рукой обледенелого боцманского бушлата. Сукно показалось ему стеклянным. Таким же стеклянным, похожим на прозрачную яичную скорлупу, показался ему заледенелый затылок боцмана.
“Что я делаю? Зачем я тяну за хлястик бушлата? Он, хлястик, сейчас оборвется…”
Хлястик, правда, оборвался.
Не мог Вовка вытянуть из воды такое большое, такое грузное тело.
Он сел на краю полыньи и заплакал.
“Это подлодка была. А я увидел перископ и принял его за бревно. Я никому не сказал, боялся – будут смеяться”.
“Где мама?”
Вовка плакал. Он не мог оторвать глаз от боцмана, от черной неподвижной воды.
“Там, внизу, под водой, – подумал он, – лежит сейчас на грунте чужая подлодка. Там, внизу, – подумал он, – чужие матросы поздравляют с победой Шаара или Мангольда, Франзе или Ланге. Они, – думал он, – пьют сладкий горячий кофе и гогочут над несчастным буксиром, так сильно дымившим своей пузатой трубой”.
“Нет! – не поверил он. – Не могли они утопить буксир. Пулеметчики им не дали. Вон ведь ледокольный пароходик “Сибиряков” сражался против целого линкора!”
“И погиб! – вспомнил Вовка. – Геройски, но погиб…”
Он не хотел так думать о “Мирном”. Все в нем сопротивлялось таким мыслям. Не могло не сопротивляться. Ведь на “Мирном” была мама!
Он не смог вытащить боцмана из полыньи. Но и оставить его в воде он не мог. А если боцман очнется? Если боцман крикнет: “Эй, на шкентеле! Руку!”
“Бежать надо. На метеостанцию”.
– Белый!
Но Белому было не до Вовки. Белый настороженно обследовал валяющийся неподалеку ящик.
– Белый! – утирая слезы, крикнул Вовка, а сам уже стоял над ящиком, отдирал его фанерную крышку.
Шоколад!
Шоколад “Полярный”.
Однажды, еще до войны, забежал к Пушкаревым знаменитый друг отца – радист Кренкель.
Маме – цветы, Вовке – плитку шоколада.
Он хорошо помнил: шоколад “Полярный”.
А Кренкель устроился на диване, посмеиваясь, рассказывал отцу о своей давней поездке в Германию. В тридцать первом году Кренкеля пригласили участвовать в полете на дирижабле “Граф Цеппелин”. Забыв о шоколаде, Вовка ждал приключений – взрывов в воздухе, бурь в эфире. Но Кренкель не столько говорил о дирижабле, сколько ругал польскую охранку – дефензиву. Они, эти дефензивщики, отобрали у него на границе журнал “Огонек” и газету “Известия”, а кроме того, все, как один, походили на генералов, так лихо позвякивали их шпоры, так воинственно топорщились усы, так ярко вспыхивали под солнцем медные полоски на обводах роскошных конфедераток.
Оглядываясь на полынью, Вовка положил в карман несколько шоколадных плиток. Это он угостит маму и Леонтия Ивановича, шоколад ведь везли для них. “Вот ведь как удачно получается, – сглотнул он слезы. – И сам приду. И приведу Белого. И еще шоколад будет”.
Он твердо знал: не мог погибнуть “Мирный”. Капитан Свиблов не мог допустить этого. Капитан Свиблов самый осторожный капитан Северного флота, он не подпустит подлодку к “Мирному”.
О боцмане Хоботило Вовка старался не думать.
Лежащий в полынье боцман сразу разрушал все его мысленные построения.