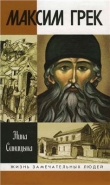Текст книги "Мир приключений 1987 г."
Автор книги: Анатолий Безуглов
Соавторы: Глеб Голубев,Александр Кулешов,Теодор Гладков,Юрий Кларов,Евгений Федоровский,Ярослав Голованов,Джулиан Кэри,Геннадий Прашкевич,Валерий Михайловский,Марк Азов
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 51 страниц)
Он брел по плотному снегу, под низким и тусклым небом, кусок шоколада таял во рту, но из-за слез Вовка не чувствовал его вкуса.
В Перми, в эвакуации, вспомнил он, время тянулось так медленно. В Перми мама возвращалась со стройки так поздно. Но все равно, лучше бы он сидел сейчас в Перми, в той чужой холодной квартире. Пусть поздно, но мама возвращалась. Она присаживалась рядом, обнимала Вовку: “Как там отец? Ему небось холоднее”. – “Ничего, – сонно бормотал Вовка. – Он же не на фронте”. – “Оболтус! – вскипала мама. – Дался тебе этот фронт!”
Пусть бы мама сейчас сердилась, лишь бы “Мирный” ушел от подлодки.
Глотая слезы, Вовка брел вдоль берега, думая, как не повезло боцману Хоботило и как несправедливо везет ему, Пушкареву Вовке. И Белый сзади хромает, и карман набит шоколадом, и на метеостанции ему обрадуются.
– Устроился… – зло шептал себе Вовка. – Сперва на “Мирном” устроился, иждивенец, всем мешал, теперь иду на станцию. А Хоботило…
Будто желая остановить Вовку, дать ему одуматься – куда это он бредет? – встала по правую руку чудовищная каменная стена, иссеченная черными прослоями. Будто бросили на снег огромную стопу школьных тетрадей, смяли их, переложили копировальной бумагой.
“Как уголь…” – подумал Вовка.
И понял: уголь. Каменный. Сыплется сверху из черных прослоев. Вон сколько насыпалось – целые горы.
Но остановила Вовку не каменная стена, не угольные пласты, секущие эту стену.
Палатка!
Под каменной стеной, среди черных угольных глыб торчала самая обыкновенная брезентовая палатка.
Вид у нее был нежилой – застегнута, зашнурована, поросла поверху густым инеем. Но это была самая настоящая палатка, и над нею, укрепленный растяжками, возвышался деревянный шест – антенна.
– Эй! – завопил Вовка.
Белый, лая, мчался рядом, но, не добежав до палатки, остановился, настороженно повел носом.
Вовка никаких запахов не чувствовал.
Холодя пальцы, расшнуровал обмерзшие петли, залез, сопя, в палатку.
Никого.
В дальнем углу – деревянный ящик. У входа – примус, бидон, видимо, с керосином, его-то и унюхал Белый. И свернутый спальный мешок.
“Что в ящике? Неужели опять шоколад?”
Но в ящике хранился не шоколад.
В ящике хранилась рация.
Металлический корпус холодно обжег пальцы, но все было при ней, при этой рации – и эбонитовые наушники, и пищик, и бронзовый канатик антенны, и батареи. Тут же, обернутые резиной, лежали три коробки спичек “Авион”.
“Рация! – радовался Вовка. – Если надо, я сам выйду в эфир!”
Он вовремя вспомнил о зоне радиомолчания. Если рядом действительно бродит фашистская подлодка, разумней было молчать.
“Маленько отдохну, – сказал он себе. – Маленько отдохну и на станцию”.
– Совсем маленько отдохну, – сказал он вслух, озираясь, а сам уже качал примус, негнущимися пальцами зажигал спичку.
Спичка, наконец, вспыхнула, примус зашипел, пахнуло в лицо керосином, теплом – живым пахнуло. И, сдерживая готовые хлынуть слезы, Вовка с презрением сказал себе: “А еще во льдах хотел прятаться!”
“В сентябре-то! – Сейчас, добравшись до палатки, Вовка не хотел прощать себе ни одной ошибки. – Снегу тут в сентябре на ладонь”.
Сын полярников, он в общем представлял, что это такое – полярная осень.
Никакого медленного угасания природы.
Не падает листва с деревьев, не жухнет, свертываясь в ветошь, трава. Нет тут травы, нет тут деревьев – не с чего падать листьям. Просто однажды над голой тундрой, над безлюдными островами, над мертвым проносным льдом начинает бусить дождь, низкая синевица недобро ложится по краю неба, а ночные заморозки стеклят ручьи, промораживая воду до самого дна.
Вот тогда-то и падают на тундру шумные ветры, несущие с собой бешеный сухой снег.
“А я хотел в снег зарыться…”
Примус шипел, в палатке заметно потеплело. Сверху, с оттаявшего тента, сорвалась мутная капля.
“Отдохну маленько…”
Но рыкнул злобно Белый.
Рядом рыкнул, у входа в палатку.
И так же злобно залились в ответ чужие собаки…
“Леонтий Иванович?..”
Торопясь, Вовка рвал на себя полу палатки, торопился увидеть собак. И увидел их. И еще на нарте увидел: цепляется за деревянный баран остолбеневший от самого его присутствия бородатый приземистый человек.
Глава четвертая. В БУХТЕ ПЕСЦОВОЙ
1Бороду неизвестный забрал в ладонь, так что из-под рукавицы клочьями торчали русые волосы.
– Гин!
Кричал он на своих собак, но Белый, ощерившись, тоже поджал хвост, отступил за палатку.
Бородач соскочил с нарт.
Малица на нем была потерта, поношена. Вовка увидел пару заплат. А еще больше удивил его рост бородача: при таких мощных плечах он вполне мог оказаться раза в два выше.
Округлив глаза, бородач ошеломленно выдохнул:
– Ты кто?
– А вы не от мамы?
Бородач совсем ошалел:
– Хотел бы я увидеть здесь маму!
– А “Мирный”? – Вовка все еще наполовину торчал из палатки. – Разве “Мирный” не пришел?
– Хотел бы я увидеть здесь “Мирный”!
– Мы – смена, – выдохнул Вовка. Он был в отчаянии. – Я – Пушкарев с “Мирного”.
– Гин! – заорал бородач. Не на Вовку. На Белого, вновь облаявшего ездовых псов.
– Гин! – бородач с силой вогнал остол в снег, намертво заякорил нарты. Одним движением втолкнул Вовку в палатку, резво, как медведь, ошалело уставился на раскрытый ящик с рацией, на раскинутый спальный мешок (на нем сидел Вовка), на примус, издающий веселое ядовитое шипение. – Смена, говоришь?
– Смена.
– Не староват для зимовки? – неприятно ухмыльнулся бородач и скинул шапку. Голова оказалась неожиданно круглой, коротко стриженной. Он быстро, удивленно крутил ею, недоверчиво щурился: – Сколько тебе? Одиннадцать?
– Почти пятнадцать, – с надеждой приврал Вовка, не сводя глаз с незнакомца.
– Лгун!
– Почему? – испугался Вовка.
– Где тебя отлучило от “Мирного”?
– А разве “Мирный”…
– Гин! – заорал бородач. Вовкины вопросы, похоже, ничуть его не занимали. – Что ты делал на “Мирном”?
– Плыл к бабушке.
– К бабушке? – ойкнул бородач. – Не надо! Не встречал я на Крайночнм бабушек.
– Я плыл в Игарку, – совсем упал духом Вовка. – А на Крайночнй плыла смена.
– Кто? – быстро и недоверчиво спросил бородач.
– Мама, – поежился Вовка. Он видел, незнакомец ему не верит. – Ее зовут Клавдия Ивановна. И еще радист, Леонтий Иванович.
– А, знаю! – притворно обрадовался бородач. – Леонтий Петрович, как же! Длинный такой, с усами!
– Неправда, – дрожащим голосом возразил Вовка. – Он не длинный. Он толстенький. И голос у него тонкий. И не Петрович он, а Иванович.
– Вот я и говорю – Семеныч. Давно с ним мечтаю встретиться.
Вовка видел: ему не верят. Вовка видел: бородач не может объяснить его появление в палатке. Но похоже, бородача здорово тянуло к Вовке. Он даже наклонился, он даже пропел фальшиво:
– “Цветут фиалки, ароматные цветы…” – И быстро спросил: – Патефон везете?
– Наверное. – Вовка не видел среди снаряжения патефона, но огорчать бородача не хотел. – Вещами мама заведует.
– А чего ж ты болтаешься тут один, Пушкарев Владимир?
– Я не один, – похолодел Вовка.
– Собаки не в счет. У меня их шесть штук, так я ж не говорю: нас семеро.
– Я не один, – с отчаянием повторил Вовка. Он сразу вспомнил о боцмане, лежащем в полынье.
– Кто еще? – привстал бородач.
– Там… В полынье… Там боцман… Я не мог его вытащить…
Бородач выругался:
– Гаси примус! Расселся!
Вовке во всем хотелось слушаться бородача. Он вдруг поверил: если он во всем будет слушаться бородача, они сейчас спасут боцмана, они найдут “Мирный”, они увидят маму. Но бородач враз помрачнел.
– Гин! – прикрикнул он на собак. – Зови своего пса. Нарты оставим здесь. Собачки у меня ненецкие, ни бельмеса не понимают по-русски. А твой, я гляжу, помор.
– Ага, – мотнул головой Вовка. – Он из Архангельска. У него мамку увезли в Англию.
– Союзники?
– Ага.
– Дружбу крепят?
– Ага.
На ветру ушибленное плечо вновь заныло. По всему горизонту, сводя Вовку с ума, лежала мрачная синевица. От всеобщей этой химической тусклости, от мертвенной тишины, низкой и бледной, еще страшнее, еще ужаснее показались Вовке кровавые пятна сурика, ярко выделяющиеся на белых плоскостях вздыбленных льдин.
– Понятно… – озираясь, бормотал бородач. – Покоптили немножко. Костерчик жгли, нет?.. Шучу я… Шучу… А это, значит, и есть боцман? Видный мужчина. Ругаться, наверное, любил.
Наклонившись над боцманом, бородач пытался расстегнуть промерзший бушлат.
– Не получается… Ладно… Ты его личность, значит, удостоверяешь, а я твоим словам, значит, верю. Так? – И подсказал Вовке: – Говори, так! И губу подбери, наступишь на губу. Тащи боцмана за руку!.. Что значит, не можешь? Тошнит? Ничего! С возрастом и это пройдет, Пушкарев Владимир. Боцмана вот не тошнит, а я не знаю, кому из вас сейчас легче.
Вовка сжал челюсти.
Он уже видел, как хоронят людей. Он уже видел раненых в госпиталях. Он многого навидался за последние три года. Но ведь боцман Хоботило совсем недавно был жив, боцман Хоботило совсем недавно прикрикивал на него, топал на него сапогами…
Механически, не понимая, что, собственно, он делает, Вовка подтаскивал обломки льда к глубокой трещине, в которую бородач с трудом уложил тело боцмана.
– Потерпи, братан, – вслух бормотал бородач. – Ты на нас не сердись, братан. Ты полежи, отдохни, мы тебя потом устроим по-человечески.
“Это он боцману…” – думал Вовка.
– Хороший был мужик?
“Это он мне…”
– Помор, сразу видно. Они, поморы, здоровые. Много примет знал, наверное. Они в этом деле знатоки. – Бородач неожиданно прикрикнул на Вовку: – Эй, на шкентеле! Плыть нам с тобой, стрик полуношника, к северу! Восточники да обедники – заморозные ветерочки! Так боцман говорил?
Вовка с трудом кивнул. Бородач нахмурился:
– Ты, Пушкарев Вовка, морду не вороти в сторону. Ты уйми желудок. Ты в серьезную историю ввязался. Братана морского хороним. Нашего братана. – И разрешил: – Топай к палатке.
– А ящик?
– Какой ящик?
– Вон…
– Что в ящике?
– Шоколад.
– Ну? – бородач полез в ящик. – Правда! Мы ящичек возьмем на плечо. Шоколад – это большой подарок. Ты еще сам налопаешься этого шоколада.
“Никогда больше не буду я его лопать”, – с отвращением подумал Вовка. А вслух сказал:
– Мы, наверное, скулой врубились в льдину. – Он ни на грош не верил себе, но убеждал бородача: – Вот меня, наверное, и выбросило на лед. Я ничего не помню. Стоял на палубе, а потом – лежу на льду. И боцмана выбросило. И Белого.
Он боялся, он не хотел упоминать подлодку. Была ли подлодка?
Бородач ошалело взирал на Вовку. Он взирал на него как на сумасшедшего. И поддакнул как сумасшедшему.
– Бывает. Неосторожно шли.
Слишком легко он согласился с Вовкой, и Вовке это было противно, будто оба они, не сговариваясь, обманывали друг друга.
А бородач думал: “Не договаривает малец. Стукнись буксир о лед, гарью бы не попахивало. И ящик на льду. И боцман. И собака. Уйди “Мирный” в море, я бы заметил его. Берегом ехал. Боится малец. В шоке”.
Убойный снег поскрипывал под ногами. Подмораживало. Ветер упрямо брал круто на юго-запад, мел по всей Сквозной Ледниковой.
“Триста… Триста пятьдесят… Четыреста… – считал Вовка шаги. – Почему он идет так быстро? У него же на плече ящик”.
Шел, не веря, что каких-то три часа назад он стоял у иллюминатора, а на рундуке, раскидав по подушке рыжую косу, спала и улыбалась во сне мама.
2Палатка остыла.
Бородач разжег примус, поставил на него котелок со снегом.
– Чаёк любишь?
– Ага.
Бородач усмехнулся:
– Я тоже.
– У меня сахар есть. И сухари.
– Откуда? – подозрительно покосился бородач. – Там что, еще валяются ящики?
Вовка не ответил. Он сжал в ладонях жестяную кружку с кипятком, и она замечательно обожгла ладони.
– Ладно, – сказал бородач. – Мы люди занятые. Давай, Пушкарев, выкладывай. Как на духу выкладывай. Все и без вранья!
И Вовка выложил.
Все выложил.
О “Мирном”, вышедшем из Архангельска с зимовщиками для Крайночнго и с грузами для Игарки (“С какого причала? – щурился недоверчиво бородач. – С Арктического? Ладно. Есть такой”.); о маме-метеорологе, которую Управление Главсевморпути разыскало в далекой Перми (“А в Питере где жили? На Кутузовской? Ладно. Есть такая”.); о Леонтии Ивановиче, любившем выстукивать морзянку в самый неподходящий момент (“Знаю чудаков. Есть такая привычка”.); о бабе Яне, ожидающей внука в Игарке (“Небось, живет в каменном доме? Нет? В бараке. Ладно. Запомним”.); даже о военном инструкторе выложил все, даже о ложной тревоге, поднятой им в море; забыл, правда, фамилию одного из фашистских командиров (“Да наплевать. Мангольд или Ланге, все равно гады!”); наконец, выложил он и свой тайный план – бежать с буксира, когда начнется разгрузка.
Вовкин план бородачу не понравился. Поскреб бороду, спросил с усмешкой:
– Дезертировать хотел?
– Как это дезертировать? – ужаснулся Вовка.
– А так! – без всякого снисхождения объяснил бородач. – Время военное, приказ есть приказ. Тебе какой курс определили? Игарка! А ты?
– Я не успел…
– Ах, не успел! – ядовито хмыкнул бородач.
Но сладко шипел примус. Усыпляюще пахло керосином. Ломило суставы от тепла и усталости. Глаза слипались. “Я не дезертир, – подумал про себя. – Я не в тыл бежал к бабке. Я рвался к зимовщикам”.
– Ладно, – сжалился бородач. – Знаю я твою маму. И об Леонтии слышал, пухом ему вода. Лыков я. Илья Сергеич. По уличному уставу кликали в детстве Илькой, но тебе – дядя Илья. Ясно? – И спросил: – Своего шоколада мало? Зачем полез в ящик?
Вовку мутило от шоколада, он негромко ответил:
– Людей искал.
– В ящике?
Вовка промолчал.
– Что нашел-то? – прищурился Лыков. – Рацию.
– Откуда знаешь, что рация?
– Я почти на такой работал.
– Как работал? Врешь!
– Не вру. Меня Колька Милевский, он жил на Литейном, водил на курсы радиотелеграфистов.
– И морзянку знаешь?
– Ага.
– А ну, отстучи что-нибудь.
Вовка послушно отстучал. Тире тире… Точка тире… Тире тире… Точка тире…
Лыков сразу насупился, забрал бороду в ладонь:
– Ладно, братан. Отыщем мы твою маму.
– Может, сейчас попробовать? – вскинулся Вовка. – Давайте выйдем в эфир. “Мирный”, он где-то рядом!
– А эти твои? – многозначительно постучал Лыков по ящику. – Эти твои Мангольд да Ланге, да прочие гады? Думаешь, они лопухи? Никогда так не думай о врагах, Вовка. Если они нас запеленгуют, хорошего не жди. Не псами же нам пугать подлодку. Белый твой не бросится топить подлодку. Так ведь? – И сам ответил себе: – Так! – И добавил, вставая: – Идем!
3Вовка бежал рядом с нартами.
Он устал, очень саднило плечо, но бежать было все же легче. Нарты, наживо связанные ремнями, ходили под ним ходуном, баран рвался из рук. Собаки, порыкивая на Белого, лихо несли нарты, тянули алык то левым плечом, то правым, Вовку бросало как куль с мукой.
– Чего ты как на насесте! – прикрикнул Лыков. – Полозья есть, ставь ноги на полозья.
Лыкову езда не доставляла никаких неудобств. Он пружинисто бросал корпус из стороны в сторону, не теряя равновесия, гнал собак. Гин! Гин!
– На твоего пса сердятся собачки. Он что, ходил у тебя в вожаках? Это жаль. Не подпустишь к упряжке. Я утром выскочил на бугор, – повернулся Лыков к Вовке. – Туман над морем, не видать ни земли, ни моря. Только вдруг туман осветился изнутри – красным. Полыхнуло. Надо, думаю, смотаться. Кто знает, что там? – Он спохватился и сменил тему: – Рацию-то, слышь. Рацию, что ты видел в ящике, ее наш радист слепил. Головастый мужик. Литовец. Римас Елинскас. Катушки для контура и вариометра сам мотал из звонкового провода. Есть такой одномиллиметровый двойной обмотки, понятно? Ну, а для прочности покрыли его шеллаком. Стахановцы!
Вовка молча кивал.
“Белый хромает – жалко”. Мысли путались. “На “Мирном” есть врач, может, залечит Белого? Сколько льдов! Плоские они. И небо плоское”.
Собаки на ходу воротили морды, порыкивали для порядка на Белого. Лыков, не уставая, работал остолом. Выйдя на ровный участок берега (справа, совсем вблизи, мрачно шли к морю обрывистые предгорья Двуглавого), гикнул, пустил собак во всю прыть. Шесть их было, но несли как бешеные. На ходу Лыков ловко спрыгивал с нарт, бежал, задыхаясь, снова прыгал на нарты. Ни разу не споткнулся, не выронил остол, все поглядывал.
“Вымотался пацан. Лицо – как бумага. Щека красная. Поморозил? Обжег? И верит, дурачок, ушел “Мирный” в Песцовую. Я бы увидел. На дне он, наш “Мирный”. Карский штаб предупреждал: бродит подлодка. Плохо дело. Жалко мальца…
Жалко мальца, – думал Лыков, прыгая на нарты. – Ничего он не понял, отшибло соображение. Не ушел “Мирный”, все там – на дне. Надо сразу занять мальца делом, кончилось для него детство. Оно, в общем, раньше кончилось. Что они видели за эти годы, наши мальцы? Война проклятая!”
Собаки дружно тянули нарты.
Двуглавый вырос, занял полгоризонта, слева бледно тянулось выцветшее от холода море. Высокие льдины отражались в плоской воде, одинаково лиловые в воздухе и в море; оставалась за спиной голая заснеженная тундра, плоская, низкая. Кочки не делали ее неровной.
Трясясь на нартах, оглядываясь на прихрамывающего Белого, Вовка жил одним: скорей увидеть Песцовую!
Круглая бухта, вольная. Две-три лиловые льдины. А посреди бухты “Мирный” – белый, а дым из пузатой трубы – черный. На борту выстроилась команда. Вовку даже ругать не станут. Нашелся. Он ведь не виноват, что его выбросило за борт.
“Но как они меня потеряли? Как я оказался на льду? Как оказались на льду боцман и Белый?”
Он догадывался, он знал, но гнал от себя эти мысли. Твердил себе: “Ударили из пулеметов, не позволили фрицам добежать до орудия, ушли в лед. Поцарапать днище легко, вот она и краска на льдах”.
С моря бил ветер, холодил лицо.
Собаки отворачивали морды в стороны, казалось – любуются Двуглавым.
В Перми, вспомнил Вовка, зимой было тоже холодно. Утром протопят печку, к вечеру все равно вымерзнет. Он и дома сидел в пальто. Дровишек всегда не хватало. На оконных стеклах намерзали, оплывая на подоконник, ледяные пластины. Но в Перми даже это было Вовке на руку. Так легче было ждать маму. Ведь, как Руаль Амундсен, как челюскинцы, Вовка каждый вечер искал свой путь во льдах, шел своим Северным морским путем.
Весь Ледовитый океан, дымящийся от мороза, лежал перед Вовкой на промерзшем оконном стекле. Бумажка, заменявшая корабль, скользила сверху, с чистого стекла, подходила к кромке вечных льдов. Тут приходилось пускать в дело стальной бур – сломанное ученическое перо. Лед лопался, бежали по льду синеватые узкие трещины.
Тощий полярник В.П.Пушкарев, самый главный специалист по Северу, буром-пером колол громоздкие паковые льды, пробивал коридор для своего корабля, растаскивал по вяжущему, не отпускающему судно стеклу тяжелые льдины.
Главное – пройти Северный морской путь за одну навигацию! То есть пройти его до возвращения мамы! Зимовать во льдах Вовке было ни к чему. Ведь он, полярный капитан В.П.Пушкарев, доставлял на мыс Челюскина, на сибирские острова, на далекую Чукотку и даже для камчадалов самые что ни на есть вкусные вещи. В трюмах его судна лежал шоколад “Полярный”, лежали сахарные головы, свежие мандарины, сало в бочках, морошка моченая, консервы мясные и рыбные, чай. Эскимосы и чукчи, полярники и промышленники выходили на обрывистые берега, приставляли ладони к высоким лбам – ждали, облизываясь, Вовкиных товаров.
Что там Ченслер и Пахтусов, что Мак-Клур и Франклин! Ему, Вовке, мог позавидовать сам капитан Воронин!
Сейчас же Вовка хотел одного: увидеть “Мирный”!
Еще вчера не было для него судна более скучного, еще вчера не было для него команды более осторожной, еще вчера он не понимал и с презрением думал – зачем вообще выходить в море, если путь твой все равно лежит в сплошной морозге и жмучи? Сейчас Вовка все был готов отдать за встречу с “Мирным”. В голове гудит, болит плечо, но пусть бы еще сильней болело, только пусть мама лежит на рундуке и спит. Он не стал бы ее будить. Надо выйти на палубу, выскочить в одном свитере, а малица пусть лежит поверх одеяла – так маме теплее. Ведь какая красивая мама была перед отъездом с материка: на голове беретик, пальто с широкими плечиками; матросы, проходя мимо, морщили носы от удовольствия.
“Где мама?”
Вовка бежал рядом с нартами, рядом с Лыковым, но ничего не замечал, ничего не видел. Лыков жалел: “Подвело мальца. У Николая Ивановича есть банка консервированных лимонов. На случай Победы хранили, но тут такой случай, хоть плачь. Не много мальцу видеть радостей. Не придет “Мирный”. Это он еще в шоке, он еще специально травит себя – на лед наткнулись. Не лед, подлодка. Приедем, предупрежу Римаса. Николай Иванович – человек деликатный, мягкий, а Римас такое может брякнуть, малец на него с ножом кинется. Ему сейчас много не надо. Он как пружина взведен. Ему главное – маму увидеть. Чует ведь, плохо дело, но надеется, обманывает себя. Боцмана похоронил, мамку не может…”