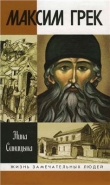Текст книги "Мир приключений 1987 г."
Автор книги: Анатолий Безуглов
Соавторы: Глеб Голубев,Александр Кулешов,Теодор Гладков,Юрий Кларов,Евгений Федоровский,Ярослав Голованов,Джулиан Кэри,Геннадий Прашкевич,Валерий Михайловский,Марк Азов
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 51 страниц)
– Перекур! – крикнул Лыков, вгоняя остол в снег. – За тем вон увалом – станция. Вниз слетим в две минуты, что на твоих санках. Перекур, Пушкарев Владимир!
– Вы мне?
– Нет, собачкам! – хмыкнул Лыков.
Это был второй перекур.
Вовка устал, но готов был бежать без всяких перекуров, так хотелось ему быстрей увидеть Песцовую. Только Лыков все равно устроил перекур. Скручивал козью ножку, старался не смотреть на Вовку. Всякое ему приходилось видеть, но чтобы малец мать терял, на глазах терял – такого не видел!
Тощий пацан. Видно, жилось несладко.
А где эвакуированным жилось сладко?
“Ничего, – решил Лыков. – Отстучим в Карский штаб, летчики ущучат подлодку. Разгулялась, стерва! Война к завязке, а она кусается!”
Вздыхая, свертывал самокрутку.
– Отдышись, малец.
– Я не малец! – огрызнулся Вовка.
– Да вижу, вижу. Владимир ты Пушкарев. Вижу. Вовка промолчал.
– Ты не злись, – вздохнул Лыков. – У нас тут не курорт, не Северная Пальмира. Мы третий год без людей. Ты на острове – первый.
Вовка молчал. Его молчание задевало Лыкова.
– Наверное, думаешь, полеживаем в спальничках, поплевываем в низкое небо? Ведь думаешь так? А жить тут трудно, Пушкарев Вовка. Было время, не спорю – закусывали икрой. А сейчас не брезгуем и гагарой. Кричит она свое “ку-ку-лы”, а мы ее все равно в кипяток. Еще на траве-салате держимся. Растет у нас такая трава-салата, многолетнее из крестоцветных. Она даже при сорока градусах мороза зеленая. И стебель зеленый, и листья зеленые, даже цветы. Лучшее противоцинготное, потому что другого у нас нет, Вовка. Любим мы ее, эту траву-салату. Нельзя нам без нее никак. А без нас, Вовка, никак нельзя фронту. За наши метеостанции, Вовка, Гитлер отдал бы лучшую дивизию, вот как она всем нужна – погода. Самолет ведь не поднимешь в воздух, если рядом идет гроза, танки не пустишь по болотистой равнине, если ждешь дождей, катер торпедный и тот не полезет в шторм. Погода, Вовка, нужна всем. И погоду даем мы! Вовка промолчал.
– Ладно, – обиделся Лыков, – если не придурок, сам поймешь.
– Ага, – кивнул Вовка. И спросил: – Может, поедем?
Лыков хмыкнул, но встал, двинулся к нартам.
Взметывая снег, собаки одним махом вылетели на высокий гребень. Рвали алыки, взлаивали – почуяли дым жилья.
Вовка вытянул шею, привстал на несущейся вниз нарте:
– Дядя Илья!
Он первый увидел.
На вольной воде, черной, как тушь, лежало медленное длинное тело подлодки. Вокруг палубного орудия суетились люди в незнакомой форме, с рубки вяло свисал казавшийся черным флаг.
– Дядя Илья!
Второй раз за день Вовка никого не успел предупредить.
Ударили автоматные очереди. С визгом, пятная кровью снег, покатились с откоса расстрелянные собаки. Чужие люди, хрипло покрикивая, бежали навстречу. Краем глаза Вовка увидел упавшего с нарт Лыкова. Но его самого уже крепко держали. Промасленные меховые куртки, небритые лица, рты, немо выкрикивающие слова, из которых ни одно не задерживалось в сознании.
Куда его тащат? Почему они кричат “Эр ист”?
“Ну да, – мелькнуло в голове, – там еще было – блос айн Бубе! Утром мне так сказал Леонтий Иванович. Я спросил его: “Почему вы не на фронте?”, а он разозлился: вырастешь попрыгунчиком! И добавил: “Эр ист…” Мальчишка, дескать! Всего лишь мальчишка! А я еще решил: подумаешь, мальчишка! Еще увидите!”
Эр ист блос айн Бубе!
Вовка возненавидел себя.
Он – мальчишка!
Он всего лишь мальчишка!
Глава пятая. ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ
1Вовка будто ослеп.
Единственное окошечко склада, прорубленное под самым потолком, света фактически не давало. Он переполз через какой-то мешок, ткнулся растопыренными пальцами в бороду Лыкова. Обрадовался, услышав:
– Не лапай. Сам поднимусь.
Вовка по шороху, по постаныванию Лыкова определил – поднялся. Кажется, привалился к мешку, скрипнул зубами, медленно вытянул перед собой (до Вовки дотянулся) неестественно прямую левую ногу. Спросил:
– Кто еще тут?
– Вся команда! – ответил глухой от ярости и сдерживаемой боли голос. – Кто еще?
Лыков выругался:
– Не уберегли станцию!
– Они десант высадили за увалом. Они тайком подошли, – торопливо пояснил другой голос, нервный, явно растерянный. – Римас работал с Диксоном, он сидел в наушниках, не слышал ничего. Ему прикладом дали прямо по пальцам, рацию в куски, а меня взяли в комнатке – я бланки чертил для нашего гелиографа.
Тьма чуть рассеялась.
Уже не смутные пятна, можно было рассмотреть людей.
Один, белея повязками (обе руки обмотаны полотенцами), сидел на куче каменного угля, другой (толстенький, подвижный) шаркал унтами под окошечком – то ли хотел заглянуть в него, то ли просто тянулся к свету. Тот, что сидел на куче угля (видимо, радист), был без шапки, но в унтах, в ватных брюках, в меховой рубашке без воротника (такие на Севере называют “стаканчиками”); он, похоже, не замечал холода.
– Когда высадились? – спросил Лыков, не говоря вслух – они.
– Примерно через час, как ты отъехал. Как специально ждали. Угораздило же тебя вернуться.
Вовку они все еще не видели. Он не шевелился, пристыл к мешку.
– Я ехал не с ночевой.
– Это понятно, – суетился толстенький под окошечком. – Все равно обидно. Илюша. Задержись на ночь, смотришь – ушли бы. А так у нас шибко нехорошо.
– Оставьте, Николай Иваныч! – оборвал тот, что сидел на куче угля, сложив на коленях обмотанные полотенцами руки, – радист Елинскас. – Илья, он что, ясновидящий? Они, наверное, шли в погруженном состоянии. И сядьте, прошу. Свет застите.
– Что с руками? – отрывисто спросил Лыков.
– Я ж говорю, – опять засуетился толстячок. – Римас ключом работал на рации. А они ворвались, они, наверное, решили – он о них сообщает, вот и припечатали пальцы к рации.
– Куда с такими руками? – беспомощно выругался радист.
Вовка не видел лиц. Вовка видел тени, слышал голоса, ловил каждое слово. Ждал, что ответит Лыков.
Ответил не Лыков. Толстячок сказал:
– Может, тебе еще повезло, Римас. Будь пальцы в порядке, они могли посадить тебя за рацию.
– Я бы не сел! – опять выругался радист.
– А я и не говорю, что ты бы сел. Я говорю: посадили бы. Силой бы посадили.
– Не меня! – литовец явно не блистал вежливостью. Выругался он похлеще боцмана Хоботило, но к этому на зимовке, похоже, давно привыкли, потому что Николай Иванович нисколько не обиделся на Елинскаса, так и продолжал притоптывать под окошечком:
– Кто ж ее ждал? Кто ее ждал, эту подлодку?
– Интересно, – ни к кому не обращаясь, пробормотал радист. – Ну, впихнули они нас в наш же собственный склад. Ну, прокантуемся мы в нем до утра. А утром? Утром что будет?
– Утром “Мирный” придет! – охотно откликнулся Николай Иванович: – Он же на подходе. У них какая-нибудь пушчонка есть. Напугают подлодку.
– Нет на “Мирном” пушек, – негромко сказал Вовка в темноту. – Пулеметы есть, а пушек на “Мирном” нет.
– Кто? Кто там? – удивился Николай Иванович. – Пацан? Откуда пацан?
– С “Мирного”, – еще тише ответил Вовка.
– С “Мирного”?!
– Оставь пацана! – приказал Лыков. Левая его нога торчала перед ним, как выстрел. – Я привез пацана. Мы с ним боцмана похоронили на Угольном. Не придет “Мирный”.
– Неправда! – выдохнул Вовка. – Придет! Он во льдах от подлодки прячется!
– Горластый, – удивился радист, явно разочарованный. И предупредил: – Ты, паря, тише. Там за дверью – не повар. Там фриц стоит. Вот вернем хозяйство, тогда голоси как можешь. А сейчас я – за дисциплину.
– Нет там никого за дверью, – подал голос Лыков. – Я прислушивался. Ушли они. Не дураки, торчать на морозе. Замок навесили. Это ты, Коля, прихватил с материка замок.
– Так от медведей! От медведей, не от людей! – обиделся по-детски Николай Иванович. И совсем не к месту удивился: – Вот ведь! Вчера со скуки сдыхали, сегодня людей на Крайночном – не протолкнешься!
– “Не протолкнешься”! – взорвался Лыков. – Расстрелять нас мало! Война к концу, мы рот раззявили! А они, – кивнул Лыков в сторону двери, – они даже не торопятся. Могли сжечь станцию, а не жгут, могли пристрелить нас, не пристрелили, могли сразу загнать в подлодку, доставим, дескать, русских гусей в фатерланд, да ведь не торопятся… Не торопятся… – повторил он.
– Почему? – шепотом спросил Николай Иванович.
– Метеоплощадка цела? Цела. Приборы действуют? Действуют. Рация есть на подлодке? Есть. Чего же им торопиться? Погода всем нужна. Они ради нее гоняют в Арктику специальные самолеты, не жалеют ни горючего, ни пилотов. А тут стационар! Давление? Пожалуйста. Температура? Пожалуйста. Сила, направление ветра? Пожалуйста. Это для фрицев сейчас ценней, чем если бы они потопили наш транспорт. Они же теряют свои станции, им не хватает сведений о погоде. Они нас, смотришь, еще поблагодарят.
– Ага, – сплюнул Елинскас. – Поблагодарят…
– Так вот! – объявил Лыков. – Сами потеряли станцию, сами ее и вернем.
– Как?
– Забыли про Угольный? Там, на разрезе – резервная рация, спасибо Римасу. Срочно надо связаться с Карским штабом, пусть шлют самолет, надо утопить эту сволочь.
– А мы? – охнул Николай Иванович. – Они ведь и нас разбомбят!
– Заслужили, – отрезал Лыков.
Николай Иванович заметался под окошечком, зашаркал унтами:
– Хватятся нас. Не сегодня, так завтра хватятся!
– Если хватятся, – мрачно подсчитал радист, – то не сегодня и не завтра. В лучшем случае, через неделю. Осень, Николай Иванович. Решат, пурга нас накрыла. Бывало такое, знаете. Так что неделю, а может, и все две наши фрицы могут работать спокойно.
– А “Мирный”? – не соглашался, настаивал Николай Иванович. – Нас не хватятся, ладно. А “Мирный”? Он что, иголка? Его-то уж начнут искать!
– Недели через две, – мрачно подсчитал радист. – Здесь же зона радиомолчания. Молчит и молчит. Выйдет из зоны, сам объявится.
– Илья! – взмолился Николай Иванович. – Ты толком нам объясни, что с “Мирным”, какой боцман, откуда пацан?
– Он хороший пацан, – коротко объяснил Лыков. – Это потом. Что на материке, Римас?
– Наши под Яссами, – радист сразу повеселел. – Румыны сбросили Антонеску, они объявили фрицам войну. – И скрипнул зубами: – Война к концу, а мы в мышеловке.
2Вовка слушал. Вовка ничего не понимал.
Лиц не видно, темно. Бревенчатые холодные стены. На дверях замок. Рядом фашисты. А они теряют время на разговоры! Бежать, бежать надо на Угольный! Срочно надо бежать!
Он не выдержал, сполз с мешка, на ощупь исследовал дверь.
Хорошая оказалась дверь. Прочная. А для большей прочности ее еще оковали металлической полоской. От холода на шляпках гвоздей проступил бархатный иней.
А ночью?
– Судьбинушка, – расслышал он глухой голос радиста. – Я, братаны, совсем по-другому мог устроить судьбу. Я, братаны, хоть и литовец, а родился в Средней Азии, станция там есть – Каган. А в Москву приехал поступать в училище. Рисовал понемножку – урюк цветет, ишаки бегают. Один хороший человек присоветовал, я поехал. Хороший город Москва, только ночевать негде. Спустился в пивной погребок, думаю – досижу до утра, нет, в полночь вытолкали. А я одурел – Москва! Бродил всю ночь по улицам. Дворники метут, весело. А в училище привязался ко мне старичок, говорят, профессор, чем-то я ему не понравился. Сунул мне гипсовую головку – богиня греческая. Я списал ее, а старичок: “Старовата она у вас. Постарела, она, – говорит, – под вашим карандашом лет на полтораста”. Я обидчивый был, плюнул. Вышел перекурить, на стене объявление. “Курсы радиотелеграфистов… Форма… Питание…” Чего мне эти богини, если они так стареют? Клюнул на форму. А не засуетись, найди я подход к тому старичку, смотришь, сидел бы сейчас в Самарканде…
– Как это в Самарканде? – обиделся Николай Иванович.
– А так! – отрезал радист. – В любом случае, не в складе!
Вовка ничего не понимал. Бежать надо на Угольный, а они про судьбинушку! Все воевать должны! При чем тут Самарканд? Вот и дядя Илья причитает, мол, собачек жалко, пулями их посекли.
– Ты себя жалей, Илья, – сказал Лыкову Николай Иванович. – Собачки дело наживное, новых завезем. За ночь не замерзнем, у меня тут одежда есть, а вот утром? Что утром?
– А ты не думай. Страшись, а не думай, – заметил радист. – Я вчера с Пашкой болтал, с Врангеля. Он мне стучит: жену, сынишку не видел почти три года. А я ему: увидишь на материке, потерпеть надо.
– С Врангелем? – Вовку как током ударило. – Вы с Врангелем разговаривали?
– С Пашкой, – возразил радист. – Но это все равно. С Врангелем.
– А фамилия?
– Врангеля? – опешил радист.
– Да нет. Пашки. Вы же сами назвали Пашку.
– Зачем тебе фамилия? – насторожился Елинскас. – Фамилии радистов есть военная тайна.
– Я все равно знаю! Это ведь Пушкарев! Это папа! – задохнулся Вовка.
– Отец? – радист шевельнулся, пытался всмотреться в сумрак. – Брешешь!
А Лыков положил руку на Вовкино плечо, погладил его:
– Садись ближе. Когда рядом – теплее. Я вот думал угостить тебя засахаренными лимонами, а оно, видишь, как получилось. Уж прости… – И сказал в темноту: – Ты, Римас, не шебурши. Дельный у нас пацан, не брехливый.
– Пашка-то! – неизвестно чего обрадовался радист. – Это он, Пашка, выручил нас на Белом. Нас там сидело пять человек, и все, как один, чахли от фарингита. Першит в глотке, сопли по колено, кашель. Мы как только не обогревали домик. Приспособили даже лампу паяльную. Утром врубишь – газит. Зато через десять минут хоть в трусах бегай. Если бы не фарингит… Вот тут-то и явился Пашка. Сошел с “Красина”. Пузо вперед, щерится от удовольствия. Он всегда как с картинки. И удивляется. Зачем, дескать, стране больные полярники? Зачем, дескать, стране сопливые зимовщики? “Не помогают, кхе-кхе, лекарства, – поясняем. – Таблетки, кхе-кхе, грызем, нет, кхе-кхе, толку”. Пашка: “Воду на чем греете?” – “На паяльной лампе. Так быстрее”. – “Домик чем прогреваете?” – “Паяльной лампой. Так быстрее”. – “Вот и дураки, – говорит. – Угар, он первым делом воздействует на слизистую”. И приказывает: “Лампу на склад! Печку топить углем, угля вам завезли. Лучше вилку рукавицей держать, чем бегать в маечке вокруг паяльной лампы!” Деловой у тебя отец, Вовка!
Вовка сжал зубы. “А мама?.. Где мама?!”
Лыков почувствовал. В темноте, стараясь не потревожить покалеченную ногу, обнял, притянул Вовку. Дохнул в ухо:
– Ты тоже неплох, братан!
Понятно, ничего другого не мог сказать, но Вовке сразу стало легче.
– Бежать надо!
– Это опять ты? – удивился радист.
– Я!
– Точно, ушлый! – одобрил радист и помахал в темноте белыми полотенцами. – Если я убегу, паря, носом мне, что ли, стучать по ключу?
– И я, похоже, отбегался, – как эхо отозвался Лыков. – Не вижу, что там с ногой, но, похоже, отбегался. Крови нет, а немеет нога, совсем я ее не чувствую. Да и с рацией не управлюсь. Не по мне наука.
– Так я же есть! – плачуще, обиженно выкрикнул из темноты Николай Иванович. – Я могу. Я справлюсь. Римас подтвердит – справлюсь.
– Оставь, Коля, – хмыкнул Лыков. – С твоей фигурой лезть через угольный лючок! Не смеши. Сам выпиливал лючок. Щель в два бревешка. Вовка может пролезть, может быть, Римас бы вытолкнулся, но не мы.
– Илья, – вдруг спросил радист, – ты съел кашу?
– Какую кашу?
– Пшенную. Я на Угольном целый круг оставлял. В мешке у входа.
– Не видел. Она мороженая, ничего с ней не будет.
– А если расширить лючок? – суетился Николай Иванович.
– Чем? Зубами? – хмыкнул радист. – Это не бланки для гелиографа.
– Что ж получается? – забегал под окошечком Николай Иванович. – Что ж получается?
И умолк.
Плотная тишина затопила темное пространство склада. Даже окошечко погасло окончательно – сумерки сошли на Крайночнй.
– Ну, а ты? – нарушил тишину Лыков. – Чего ты молчишь, Пушкарев Владимир? Болит у тебя что-нибудь?
– Ничего у меня не болит.
И тут до него дошло – это же они ему предлагают! Это же они ему предлагают бежать к Угольному. Опять одному бежать!
Плечо у него ныло, ныли ноги, ныла обожженная щека. Еще хуже была мысль – опять один останется! Совсем один! Посреди тундры. Без мамы, без Белого, без Лыкова, без боцмана Хоботило. Куда он пойдет?
Но вслух сказал:
– Я пойду.
Думал, фыркнут на него – тоже, мол, герой! Но никто не фыркнул, тишина в складе теперь стояла уважительная. Елинскас спросил:
– Сядешь за рацию?
– Я попробую. Я быстро не могу, но я попробую. Я на курсы ходил, только не сдал экзамен.
– Экзамен? – обрадовался радист. – Ну, паря! Знаешь, кто все экзамены сдает не глядя?
Но объяснить, кто это сдает все экзамены не глядя, радист не успел. Заторопился, подобрал ноги, и Вовка услышал быстрое, точное притоптывание. Тире точка… Точка… Точка точка точка… Тире… Точка тире точка… Точка точка тире…
Вовка, не дослушав, неуверенно выстучал в ответ: “Не струшу”.
– Сможешь… – с сомнением одобрил Елинскас. – При желании тебя даже понять можно.
– Сможет? – быстро переспросил Лыков.
– Если дойдет.
– Это моя забота. Вовка, ты слушай. У нас, значит, прорублен здесь лючок для угля. Узенький, но как раз под твои плечи. Да ты не обижайся, сейчас не до этого. Ты как вывалишься в лючок, ногами толкайся от стены и ползи прямо вперед, никуда не сворачивай, пока не упрешься в стояки метеоприборов. Там морозно. Я, думаю, луна. Оно и хорошо – видней будет. Только ты, Вовка, не торопись. В таком деле суетливость ни к чему. Лучше лишний час проваляться в снегу, чем завалить дело в одну минуту. Фрицы нас, сам видишь, не очень караулят, знают – куда нам бежать? Но ты себя этим не утешай. Сразу от метеоплощадки бери вправо, вались в овраг, не ошибешься. Чеши по оврагу, упрешься в Каменные столбы, торчат там такие, как растопыренные пальцы. Это и есть выход на Собачью тропу. Я бы тебя отправил берегом, но это обходить Двуглавый, лишние двадцать километров, опять же по снегу. А Собачью тропу начисто выметает ветром, часа за четыре, как по коридору, дотопаешь до Угольного. Только на выходе, братан, не суетись. Прикинь, где палатка. Не дай тебе бог проскочить мимо. В тундре одичаешь прежде, чем придет помощь.
– Я не буду торопиться. Я осмотрюсь.
– Но и зазря не тяни время, – предупредил радист. – Нам тут тоже невесело. – И спросил: – Антенну натянешь? Питание подключишь? В эфире не растеряешься?
– Я попробую.
– Верный ответ.
– Слышь, – шепнул из темноты Николай Иванович. – Это ветер шумит или фрицы переговариваются?
– Ветер… – прислушался Елинскас. И загнул такое кудрявое ругательство, что даже Лыков хмыкнул.
А Николай Иванович уже шуршал в углу, отгребал от лючка уголь.
– Коля, – спросил Лыков, – что в ящиках?
– Тряпье.
– А тяжести есть?
– Печка чугунная, – по хозяйски перечислил Николай Иванович. – Железяки от ветряка. Ящики с геологическими образцами, еще с лета. Чего ты ревизуешь меня?
– Я не ревизую. Я думаю о Вовке.
– Ящики тут при чем?
– А ты эти ящики, Коля, уложишь под дверь. Плотно уложишь, чтобы сдвинуть их было невозможно. Слышь, – через силу усмехнулся он, – фрицы нам стукнут утром, а мы в ответ: рано еще, дайте выспаться!
– Ха! Гранату под дверь, вся недолга!
– Домишки рядом стоят, Коля. Метеоплощадка рядом. Чего им нас подрывать? Им же спокойнее – сидим взаперти. А нам и нужно, чтобы они считали: мы все здесь сидим! А то, если кинутся за Вовкой, он от них не уйдет. Так что ты попотей, Коля! У нас сейчас вся надежда на тебя, Коля! Ты сейчас самый нужный нам человек. Мы с Римасом не помощники, а Вовке пора.
– Ты лежи, Илья. Сделаю! – обрадовался, засуетился Николай Иванович. – Я китайскую стену воздвигну, к нам сам Гитлер не сумеет войти. А вам я шкуры достану, чтобы ночью не поморозиться. Вот только лючок очищу, вот только выпущу Вовку на волю.
Он, как крот, копался в углу. Ползли шумно угольные комья, осыпалась крошка.
– Запустишь рацию? – с сомнением переспросил Елинскас.
– Я попробую.
– Должен! – приказал радист. Лыков, охнув от боли, шевельнулся:
– Значит, прямо вперед от стены склада, до стояков. Метеоплощадку оставишь по левую руку. Вдруг там торчит фриц – ты спокойнее, не шуми. И не суетись на Собачьей тропе. Там, как на Луне, все повымерзло. Камни скользкие. Ногу потянешь, колено выбьешь – один останешься. Мы тебе не подмога. Сгинешь в ночи. Так что, следи за собой…
– А вы? – шепотом спросил Вовка.
– О нас не думай. Себя береги. Это приказ. Ты однажды приказ нарушил, так что искупай вину. Идти тебе до Угольного, так мы называем разрез. Найдешь палатку, ты в ней уже грелся, натянешь антенну, выйдешь в эфир. Больше ничего. Это опасное дело, Вовка, но ты ведь сам хотел опасного дела. Ты стране, не только нам, можешь помочь. У нас погоду воруют. И помни, никаких отклонений! Даже если появится перед тобой “Мирный”, ни на секунду не отвлекайся от дела. Это приказ!
– Ага, – выдохнул Вовка.
– Отца узнаешь по почерку? – вдруг спросил Елинскас.
– Не знаю.
– Ладно… Зато тебя легко опознать, – вздохнул радист. – Выйдешь в эфир, голоси открытым текстом, тут не до шифровок. Всем, всем, всем! На остров Крайночнй высажен фашистский десант. Срочно уведомите Карский штаб. И наши фамилии: Краковский, Лыков, Елинскас. Запомнил?
– Ага.
– И еще, – помолчав, добавил радист. – Илья, он человек деликатный, он тебе еще не все сказал. Если свяжешься с какой-нибудь станцией, отключайся сразу, минуты лишней не торчи в эфире. Фрицы тебя с ходу запеленгуют. Так что, волоки рацию в скалы и сам отсиживайся в стороне. А если случится – один останешься, помни: это ты, а не они, хозяин острова. И все тут твое. Хоть раз в сутки, но выходи в эфир со сводкой, если они не переколошматят приборы. Место у нас больно важное – половина циклонов идет через Крайночной. С приборами справишься. Как-никак, сын полярников. – Он сплюнул и позвал: – Как у вас, Николай Иванович?
Из темноты донеслось недовольное пыхтение:
– Точно, не пролезаю я. Ну, никак не пролезаю. А лючок открыл. Вон как свежестью тянет!
– Не свежестью. Холодом, – возразил радист. – Вконец выстудишь избу. Веди пацана!
Вовка почувствовал на щеке руку, горячую, без рукавицы.
– Это я, – шепнул Николай Иванович. – Обниматься не будем, в угле я весь, измараю тебя. Ползи, друг Вовка, в лючок. Тихо, вперед головой ползи. Да подожди, не рвись. Почему ты без рукавицы? Потерял? Вот мою возьми. Я ее сам шил.
Лыков выдохнул из темноты:
– Бери, Вовка!
Вовка нащупал щель, протиснулся в узкий лаз, задохнулся от темного, ударившего в глаза ветра.
Глухо хлопнула лючина, зашуршал уголь. Это Николай Иванович изнутри заваливал лаз.
Из чернильной мглы (не было луны) дуло. Снег порхло оседал под руками. Ни огонька, ни звука.
“А собьюсь? А выползу на фрицев?..”
Но полз, зарываясь в снег. Полз, пока не ткнулся головой во что-то металлическое.
“Ага… Стояк… Я на метеоплощадке… Сейчас надо правее взять… Где овраг?..”
Его понесло вниз.
“Вот он, овраг!” – понял Вовка.
Что-то бесформенное, тяжкое шумно навалилось на Вовку, вдавило его в снег, жарко дохнуло в лицо.
“И ножа нет!” – беспомощно вспомнил Вовка, отчаянно отбиваясь от мохнатой, жадно дышащей в лицо морды.
И перестал отбиваться.
– Белый!
И Белый, будто понимая – нельзя шуметь! – не рычал, не взлаивал, лишь повизгивал слабо, как щенок, и лез, лез мордой в Вовкино лицо, лез под мышки, толкался носом в карман.
– На, жри! – свирепо и счастливо шептал Вовка. – На, жри, жадюга.
Он ругал Белого, а сам был счастлив, и Белый счастливо лизал его в лицо, а он тащил его за мохнатый загривок, шептал:
– Белый! Белый! – И конечно, не удержался, спросил: – Мамки где наши, Белый? – Не к месту, не ко времени спросил, но плевать ему было на место и время.
Впервые за этот тяжкий, впервые за этот безрадостный день ему, Вовке, повезло. Впервые за этот тяжкий день он почувствовал уверенность.
– Я дойду! – шепнул он в лохматое ухо Белого. И поправил себя: – Мы дойдем!
И когда во тьме, чуть разреженной выступившими на небе звездами, когда в чернильной нехорошей тьме, мертвенной, холодной, смутно проявились перед ним растопыренные каменные пальцы, еще более смутные, чем царящая вокруг пронзительно ледяная тьма, он сразу сообразил: это и есть Каменные столбы, это и есть выход на Собачью тропу, которая пугала его одним своим названием. Зато по тропе он мог идти в рост, ни от кого не прячась.