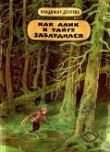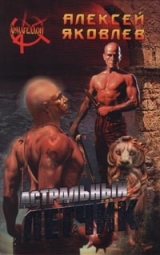
Текст книги "Астральный летчик"
Автор книги: Алексей Яковлев
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
7
«Ностальжи»
По Четвертой линии они обогнули гранитный барак Академии. Шли молча. Только звонко стучали подковки ковбойских сапог Василия. Алик подумал, что это его собственные подковки стучат. Даже посмотрел на свои ноги, но увидел, что они обуты в старые Андрюшины кроссовки. А на ногах Василия красовались рыжие дорогие, на высоком каблуке, узконосые сапожки. С желтыми цепочками на задниках. Стучали подковки, позванивали цепочки в такт. Василий крепко держал Алика под руку, будто пьяного. Уверенно вел его к Большому. В другое измерение.
За Академией, на Большом, ближе к Третьей линии, в тени раскидистых тополей имеется черная дверца в стене. К ней четыре ступеньки вниз. Сейчас там то ли бистро, то ли кафе-пиццерия. В общем, какая-то современная мерзость. Ни то ни се. А когда-то, по рассказам старожилов, здесь была шумная, звонкая пивная для обитателей соседнего Андреевского рынка. Что являлось исключением на строгом, кичливом, населенном немецкими чиновниками острове.
В конце прошлого века или в начале нынешнего эту звонкую рыночную пивную освоили студенты Академии художеств. Так основательно, что известный художник Осьмеркин там и большинство своих знаменитых картин нарисовал.
В строгие 30-е годы эту пивную переделали в чайную, после войны – в кафе-мороженое. Но коренные островитяне так и звали это приметное место – «мастерская художника Осьмеркина».
Алик это прекрасно знал. Но на ходу удивлялся, откуда знает Василий. Неужели он тоже островитянин? Алик, конечно, догадывался, в честь какого «не-святого Василия» этот остров назван. Но, честное слово, не ожидал, что разгадка будет такой банально-реальной, а неизвестный Василий вдруг воплотится в седого смуглого парня в рыжих ковбойских сапогах.
В «мастерскую» они въехали на задницах по четырем ступенькам. На сыром камне проскользнули ковбойские подковки. Василий крепко держал Алика под руку. И падая, не отпустил. Так и въехали на задницах в бывшую звонкую пивную, превращенную убогой фантазией в модерное бистро. Алик расхохотался. А Василий очень смутился. Огляделся вокруг. Но на них никто не обратил никакого внимания. Посетители угрюмо жевали иностранную еду. Буфетчица лениво разговаривала с кем-то по телефону. Василий обиженно буркнул:
– Ничем не удивишь! Наверное, сами попали сюда точно таким же способом.
Он встал. Помог подняться смеющемуся Алику. И заказал с ходу восемь кружек «Жигулевского» пива, тарелку с раками и бутылку «Стрелецкой».
– Ну вы воще! – сказала девица-буфетчица, не двигая густо намазанными губами. – С луны, что ли, свалились?
– Именно, – подтвердил Василий, – с обратной ее стороны. – И в доказательство показал запачканные сзади джинсы.
– Какие раки?! Какое «Жигулевское»?! – возмутилась девица. – Какой теперь год?
– Зеленый. – Василий вынул из тощего бумажника две зеленые бумажки.
Девица приклеилась к ним намазанными глазами. Показала толстым пальцем на низкую дверцу:
– Пройдите за стоечку.
Они прошли узким темным коридором. Буфетчица ткнула обитую дерматином дверь. И звонко крикнула:
– Зоя, к тебе гости. – Широко улыбнулась Василию ярко-красным влажным ртом: – Сказали бы сразу, что вам в «Ностальжи».
Василий галантно поцеловал ее пухлую руку. Буфетчица засмеялась, по-деревенски прикрыв рот.
– Счастливо отдохнуть, ребята. С Зоей и расплатитесь.
Василий втолкнул Алика в узкую дерматиновую дверь. Они попали в прихожую малогабаритной хрущевки. Стеклянная дверь на кухню была открыта. Оттуда пахло наваристым борщом и котлетами. Играло радио. Звонко и весело выводил хор:
Будет людям счастье,
Счастье на века,
У Советской власти
Сила велика.
Сегодня мы не на параде,
Мы к коммунизму на пути.
В коммунистической бригаде
С нами Ленин впереди!
Василий даже зажмурился от удовольствия. Схватился рукой за сердце:
– Я дома! Алик, наконец-то я дома!
Из кухни выглянула хозяйка в ярком фланелевом халатике, в газовой косыночке. Из-под косыночки выбивались крупные пластмассовые бигуди. Хозяйка подмигнула лукаво:
– Где задержались, мальчики? Я вас давно жду.
Василий просто расцвел. И тут же принял ее игру:
– Работа, Заинька, работа! Ответственное дело – строить коммунизм в отдельно взятой жуткой стране.
– Ну трепачи, – рассмеялась Зоенька, – проходите, садитесь.
Она выдернула штепсель радио. Включила старый катушечный магнитофон «Днепр». Лента захрипела и поплыла голосом Аркаши Северного:
В семь сорок он приедет,
В семь сорок он приедет,
Мы на перроне его будем ждать, ать!
Василий откинул косуху, заложил большие пальцы под мышки, танцуя вкатился на кухню. Подпевал уже мертвому от водки Аркаше:
Он выйдет из вагона,
Пройдется вдоль перрона.
На голове его шикарный котелок, ок!…
– Заходи, Алик, садись! Это же не Осьмеркин, а Мебиус какой-то. Божественно!
На этой кухне все было как тогда. И радушная, заводная, неизвестно чья, но родная хозяйка. И колченогие белые табуретки, и стол, покрытый клеенкой в виноградинах, сливах и яблоках. И даже календарь на тысяча девятьсот семьдесят шестой год. С календаря улыбался, как перед хорошим стаканом, Юрка Гагарин. Над его головой размашистые буквы: «Пятнадцать лет космической эры!» Восклицательный знак ракетой улетал в далекие звезды. Совершенно не верилось, что прошло уже сумасшедших двадцать лет. С Афганом и с перестройкой…
Зоя разлила по тарелкам дымящийся ароматный борщ. Плюхнула в него по целой ложке сметаны:
– Проголодались, мальчики?
Василий сглотнул слюну:
– Заинька, считай, я восемь лет не ел.
– Сидел, что ли? – делово осведомилась Зоя.
– Считай, что сидел, – засмеялся Василий, – я из Америки, Заинька…
– У-у-у, – посочувствовала ему Зоя.
– Но для начала, для разгона, для старта… Заинька, раки у тебя имеются?
Зоя лукаво ему подмигнула:
– Сейчас к соседу зайду.
– Тогда «Жигулевское» и раки! – торжественно провозгласил Василий.
– Так, «Жигулевское» и раки, – повторила Зоя.
– И бутылку «Стрелецкой» для драки,– в рифму закончил Василий.
Зоя вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Алик и Василий устроились за неказистым столиком.
– Ты уже бывал здесь? – спросил Алик, оглядываясь.
– Никогда, – огляделся и Василий, – времени не было. Я же вашу лабораторию покупал. Готовил документацию.
– Откуда же ты про «Ностальжи» знаешь?
– По логике.
– Как это? – не понял Алик.
– Очень просто, – доходчиво объяснил Василий, – раньше в этой стране можно было через «Березку» за доллары попасть в будущее. Сейчас это будущее стало расхожей банальностью. Эрго! За доллары из этого будущего мы можем попасть обратно в «Ностальжи». Просто тонкий расчет. Доллары в этой стране могущественнее, чем на Западе!
Аркаша Северный закончил свою приветственную песнь. Магнитофон пожурчал немного и вдруг томно запел голосом Лещенко. Не этого, а настоящего.
Встретились мы в баре ресторана,
Как мне знакомы твои черты.
Помнишь ли меня, моя Татьяна?
Мою любовь, наши прежние мечты?
Тихо вошла Зоя. Поставила на стол поднос с крупными раками, две кружки пенного пива и бутылку водки с мужиком разбойного вида на этикетке. На плече мужик держал страшного вида секиру.
Зоя ласково улыбнулась Василию, ожидая похвалы. Но не дождалась. Василий всем своим существом слушал песню. А ей только рукой махнул. Мол, не мешай, исчезни. И она, пожав фланелевыми плечиками, обиженно исчезла.
Упали косы душистые, густые.
Свою головку ты склонила мне на грудь.
Татьяна, помнишь дни золотые?
Весны прошедшей мы не в силах вернуть.
– А мы в силах! – Василий поднял пенную кружку. – Слушай, Алик, про мою прошедшую весну!
– Ты же хотел рассказать, как ты стал чертом,– напомнил ему Алик.
– А я о чем? Той прошедшей весной я и стал им! Весна очень способствует разным метаморфозам. – И Василий резко нажал клавишу магнитофона. Сказал сурово: – Дальше не надо.,. А то заплачу.
Алик протянул ему пачку «Мальборо»:
– Кури.
Василий вздохнул с сожалением:
– Ты же знаешь, я не курю.
– Да, – обрадовался Алик,– а почему это ты не куришь? Спортсмен, что ли?
– Можно и так сказать, – улыбнулся Василий,– просто нам этого нельзя. Рюмочку иногда нам разрешают. А дымить эту вонючую дрянь нам категорически нельзя.
Алик даже в ладоши хлопнул от восторга:
– Кому это «нам»? Чертям, что ли?
Василий оглянулся по сторонам и, указав на лампочку, сказал шепотом:
– Членам нашей организации.
Алик почувствовал себя совсем хорошо. Совсем как на кухне семидесятых. Он наклонился к Василию и сказал тоже шепотом:
– А что у вас за организация?
Василий ему многозначительно подмигнул:
– Общество разумных тружеников. Сокращенно – ОРТ. Мы, сознательные труженики, решили наконец объединиться. И создали ОРТ…– Василий глотнул «Стрелецкой». Захрумкал соленым огурчиком. – Божественно… Правда, не все нас понимают… Местечковые остряки дразнят нашу ОРТ «обществом рогатых тружеников». А рядового члена нашей организации прозвали «чорт». Член общества рогатых тружеников… Остроумные, подлецы. Но мы на них не сердимся. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Ведь правда?… А то, что именно мы последними останемся, – сомнений-то ни у кого нет. Потому что мы трудимся. А кто трудится, тот и ест. Всех! – Василий вдруг поморщился брезгливо. – Фу… В политику ударились… Давай, Алик, оставим эту грязь… Мы же с тобой островитяне, черт возьми! И лицо мне твое жутко знакомо… Где-то мы с тобой встречались. Не помнишь?…
Алик уже давно не смеялся. И у него разрасталось впечатление, что они с Василием давно знакомы. Только мучительно не мог вспомнить, где и когда они познакомились. И он пустил пробный шар:
– Сколько тебе лет?
Василий прищурил серый глаз. Уставился на Алика черным. Черным, как пистолетное дуло.
– А мы с тобой еще на «ты» не пили, между прочим.
– Пили на брудершафт.
– Это не одно и то же,– засмеялся Василий,– знаю я этих западных брудеров. Сегодня пьют, а завтра продают друг друга за двадцать центов. Мы с тобой должны выпить по-русски, на «ты».
– Так в чем же дело? – Алик плеснул в граненые стаканы «Стрелецкой».
Они выпили на «ты». Алик вновь поставил на повестку очень волнующий его вопрос:
– С какого ты года?
– А какая разница? – искренне удивился новый друг Василий. – Мы же знаем, что времени нет. – И добавил не без кокетства: – А лет мне столько, на сколько я выгляжу…
Алик посмотрел на него. И понял, что смуглый Василий отлично законсервирован. И выглядит на широкий возрастной диапазон от поношенных двадцати восьми до бережливых пятидесяти. И он обиделся:
– Конечно, времени нет. И у нас в России это давно и великолепно знали. В летописях писали: «Это случилось, когда затмилось солнце и погорел храм Пресвятой Богородицы». Возраст твой мне знать ни к чему. Ты напомни координаты события, когда мы с тобой познакомиться могли. Когда у тебя затмилось солнце?
– Вот, – поднял смуглый палец Василий. – Но ведь и солнце не координата. Солнце-то могло затмиться только для меня одного! И это, уверяю, для меня вселенская катастрофа! Ты же астральный летчик! Ты же знаешь, что Вселенная в тебе!
Алик рассердился:
– Нам с тобой так никогда не договориться!
– Почему? – искренне удивился Василий.– Мое дело рассказывать, а твое – слушать и искать. Ищи свою координату. Внимательно ищи. Для меня, может быть, это и не событие даже. А у тебя на нем «солнце затмилось», как ты красиво выразился. И ты не должен обижаться, что я его на пробросе пролетел… У меня же свое «утомленное солнце», на которое тебе наплевать. И я ведь не обижаюсь на тебя… Так сказать, печалься сам и дай печалиться другим. Это и есть высшая гуманность.
Алик стукнул кулаком по столу. И тут же смутился. Вспомнил, как Андрюша недавно на другой кухне по столу кулаком стучал.
– Чушь… По-твоему, люди никогда не поймут друг друга. Не поймут, не помогут, сдохнут врозь, каждый от своей собственной катастрофы, от своего «затмения».
Василий захохотал, довольный. Налил «Стрелецкой» и Алику, и себе.
–Божественно! Вот ты и доказал, что мы с тобой люди одного поколения! Одно у нас смешное утомленное солнце. Одни координаты. О своем затмении можем забыть, лишь бы помочь ближнему. – Василий торжественно чокнулся с Аликом. – Молодец! – выпил аппетитно. – Я могу тебя порекомендовать в наше ОРТ. Ты человек общественный. Хочешь стать чортом?
Алику почему-то стало жутко противно:
– Брось! Хватит… Сам говорил, что политика – дерьмо.
– Дерьмо, – тут же согласился Василий, – но я же не о политике… Я же о солнце…
Он опустил голову на руки и задумался. Тут же вошла Зоя:
– Ну что, мальчики?… Все?… Скисли? По домам пора.
Василий бодро вскинул голову:
– А мы разве не дома?… Ну-ка, Заинька, открой нам еще бутылочку!
Хозяйка лукаво прищурилась:
– Вась, у меня же не магазин.
Василий понимающе хмыкнул. Протянул ей 20 долларов:
– На. Пошли кого-нибудь в гастроном. «Стрелецкую» и банку судака в томате. С картошечкой. Ох как я его когда-то чтил!
Хозяюшка сунула бумажку в передник:
– Щас соседа пошлю.
– Давай! – подбодрил ее Василий. – У нас ностальгия только начинается!
Хозяюшка ушла. А Василий разлил остатки по граненым стаканам:
– Понеслась душа в рай, а ноги – в милицию.
Они выпили. И Алик засмурнел. Хорошо было на этой затерянной во времени кухне. Но вдруг проступила какая-то фальшь. То ли Василий последним своим лихим тостом сбил кайф, то ли хозяюшка что-то переиграла. Алик захотел вернуться в современность и встал.
– Сиди,– удержал его Василий,– слушай мой «Апокалипсис». Откровения не-святого Василия. Слушай и соображай, по ком звонит колокол.
Алик криво улыбнулся и сел. Василий машинально потянулся к пачке «Мальборо», но тут же отбросил ее в сторону:
– Нельзя! Чакры должны быть чистыми!
Алик спросил сквозь зубы:
– Значит, ты чистый черт?
– Не смейся, Алик,– предостерег сурово Василий, – ты обо мне пока ничего не знаешь. Ты – Tabula rasa. Записывай мою грустную жизнь. – И он начал рассказ. Без всяких преамбул.
8
Откровение от не-святого Василия
Родился я в год смерти Иосифа Виссарионовича Сталина… И назван Василием. В честь его инфернального сына.
Вот тебе главная моя координата!… Дальше вообще можно не рассказывать… Для какого-нибудь Нострадамуса уже все ясно. Вся моя дальнейшая судьба видна ему как на ладони… Не знаю, как для тебя, а для меня это координата! Затмение! А для тебя, может быть, лучезарный восход?
Нет? Тоже затмение?… Спасибо, брат… Честное слово, спасибо… Как говорил в одной оперетте бандит-махновец: «И что я в тебя такой влюбленный?»
Да, отец мой, полковник Иван Петрович Лиходей, служил вместе с сыном Сталина… Что? Думаешь, он был летчиком? Я тоже сначала так думал… Когда маленький был. Во дворе ребятам хвастал… У меня папа – летчик! Хотя папа давно уже в штатском ходил… А я все хвастал про отца-летчика. Пока однажды не был крепко избит старшими товарищами.
За что? А ты не понял?… Они меня, семилетнего, мучили в подвале полдня. Пытали. Сигаретами меня жгли… А к вечеру на расстрел повели… На кладбище. Мы тогда недалеко от Смоленского кладбища жили… Расстрел, конечно, понарошку. Поставили у старой обвалившейся могилы. И камнями и палками закидали…
Как – за что?… Чья-то умная маманя узнала, что отец мой чекист, служил в НКВД. А летную форму носил как личная охрана генерала авиации Василия Сталина…
Тогда как раз стали возвращаться из лагерей те, кто был посажен туда за длинный язык. Вышли они оттуда отощавшие, усохшие, но, как говорится, во-от с таким… языком!… Язык-то у них на свежем воздухе еще длиннее стал. Это раньше, прежде чем на каторгу отправить, рвали ноздри и вырывали языки. Знали, что делали.
Тот не вырванный вовремя язык до сих пор как колокольное било над Россией болтается. Мертвый, фиолетовый, шершавый, в белом налете язык… И несет, несет, до сих пор несет… Будь моя воля, я бы его на Красную площадь в Мавзолей вместо «дедушки» запихал!… Дедушка-то давно уже не опасен, а язык до сих пор несет… Что смеешься? Пусть у него каждый час караул сменяется. Пусть к нему люди ночами в очереди стоят. Пусть увидят воочию виновника всех своих бед.
Извини, о чем я? Да… Так меня в первый раз семилетнего расстреляли юные борцы за демократию… Борцы с тиранией… Мать их ети…
Шел шестьдесят первый год. В ноябре «смелые люди» вынесли из Мавзолея мумию «тирана». Втихаря вынесли. Поздней ночью. Всю Красную площадь заборами заставили. Вроде как на капитальный ремонт закрыли. За хрустальным фобом только одна его дочка шла, сестренка инфернального генерала Васи. А «смелые люди» за стенами Кремля дрожащими руками водяру глушили гранеными стаканами… Глушили и на каждый стук вздрагивали. Боялись, что Хозяин неслышной походкой в восточных сапожках к ним в трапезную войдет. И разберется… Хоть и были «смелые люди» вульгарными материалистами, но свято верили в свой вульгарный материализм. А всякая большая вера порождает мистицизм. Впрочем, как и полное безверие тоже. Тут, как говорится, змея кусает свой хвост…
А вот и еще водочка! Спасибо, Заинька! «Стрелецкая». Божественное название. Особенно хороша с похмела. На утро «стрелецкой казни». Честное слово, не был бы я «чортом», алкашом бы стал. Капитальное занятие. Ни минуты покоя. Всю жизнь в поиске. Отличное занятие для жаждущих и страждущих душ… Пей, Алик! Пей в последний раз! А мне, к сожалению, нельзя… Только самую чуточку. Чтобы свое капитальное призвание не забыть.
Вот так! Божественно! Значит, в ноябре они тирана похоронили, а на следующий день мой папа, летчик-чекист, повесился у себя в кабинете. На шнурке от оконной шторы. А окно выходило как раз на Исаакиевскую площадь. Он там работал в одном учреждении.
В каком? Ладно, скажу. Доверие за доверие. В «Астории» он работал. В «Интуристе». Заместителем директора. А «Интурист» и КГБ – это же одна организация…
Говорят, народ по площади мимо окна два часа ходил. Глядел на его синий высунутый язык. Не решались в учреждение постучать. Сообщить о несчастье. А скорее всего подумали, что так и надо. Тирана закопали и с прихвостнями его расправляться начали. Вот и повесили одного для всеобщего обозрения. Может, и повесили… Не знаю. Записки, говорят, отец не оставил. А может, и оставил?… Нам с матерью было уже не до этого.
Переехали мы срочно с Васильевского острова в жуткую коммуналку на Петроградской. Где нас никто не знал. Мать пошла работать в бухгалтерию. Специально! Как на каторгу. Это сейчас бухгалтер стал самым крутым человеком в фирме. А тогда… самая гнусная и ничтожная должность была. Аркадий Райкин очень любил тупых кретинов в бухгалтерских нарукавниках изображать. При царе любимый объект для сатириков был – городничий. И у Гоголя, и у Щедрина. А в советское время – бухгалтер. Выше несчастного бухгалтера советская сатира не поднималась. Вот мать и пошла в бухгалтерию, как на каторгу. За грехи своего «кровавого» мужа-чекиста. Хотя какие уж он мог злодейства в охране инфернального генерала творить? Не знаю… Бог ему судья.
А мать придумала соседям версию, что отец мой геройски погиб в небе Северной Кореи. И показывала всем фотографию летного полковника. Удивительно похожего на меня.
Почему в Северной Корее? Ну как же… Тогда любимый анекдот был. Летит, значит американский ас на «Сейборе», а на него корейские МИГи заходят. И слышит американский ас в наушниках их корейский разговор: «Ваня, заходи сзади. Мы его сейчас п… накроем!» Наверное, очень моей маме этот анекдот нравился. Вот она и придумала версию про корейского полковника Ли Хо Дея… Что? Вот-вот… Я такой же кореец, как мой охранник Чен… Ничего. Пусть погуляет. Никуда не денется.
Так вот… С восьми лет я в своем родном городе жил как какой-нибудь иностранный разведчик, со своей «легендой». То есть с версией своего происхождения. Учился в школе на углу Большого и Кировского. Хорошо учился. Не срамил отца, героя-летчика. Нес я, как иностранный разведчик, отцовскую проклятую карму.
Появились у меня друзья. Веселые, романтичные. На гитарах играли. Пели песни Окуджавы и Галича, читали Грина. И я так вжился в свою «легенду», что сам в нее верить стал. Честное слово. С разведчиками такое случается. Начал тоже песни сочинять. Про шхуны и капитанов. Ты слышал, во «Фрегате» Стасик одну спел. Так себе песенки… Не разоблачающие власть… Без фиги в кармане. Просто про море. Тогда и прозвали меня мои романтические друзья Капитаном Джо. А моря-то я не видел никогда.
Что? Ну нет. Финский залив – не море. Лужа. Греза о море. О настоящем море. Я глядел на желтый и пенный, как утренняя моча, залив и мечтал о настоящем море. И поступил в ЛЭТИ. Недалеко от дома. На факультет морского приборостроения. Очень ответственный факультет. Очень престижный и очень засекреченный. Преподаватели в черных морских кителях и золотых погонах. А самым главным на факультете почему-то был молчаливый чистенький, лысенький преподаватель научного коммунизма Николай Николаевич Паршин.
Что? Точно, отец Марины. Ты уже его в живых не застал. Да, а познакомиться с ним тебе было бы очень любопытно. Любопытный был экземпляр для психолога. На все острые вопросы многозначительно молчал. Его сначала так и прозвали: Ни-Ни. Он – Николай Николаевич, эНэН, а мы его – Ни-Ни. Был он, как теперь говорят, неформальный лидер. Это, наверное, в том смысле, что все наши преподаватели в морской форме ходили. А он единственный – без формы. Вроде отца моего. Героя-летчика.
А в нашей группе всего две девчонки были. Толстая, очкастая, как веселая лягушка, Мила Машошина и худенькая и стройная, как балерина, Света Филиппова…
Что? Ну конечно же, будущая Маринина мама. Так вот. Мила хоть и была на веселую лягушку похожа, но тянула по физике и математике лучше всех нас, дураков. А для чего Света к нам поступила и как она могла такой жуткий приемный конкурс выдержать, мы все терялись в догадках. Пока однажды не поняли, что молчаливый чистенький неформальный лидер нашу Свету, так сказать, опекает. Света нам призналась, что Ни-Ни – друг их семьи. Друг ее покойного отца. Адмирала Филиппа Филиппова. Умер в семидесятом адмирал от цирроза печени.
Вот теперь любят подсчитывать, сколько мы людей за войну потеряли. Мешают в кучу погибших и в окопах, и в лагерях, и в плену, и на оккупированной территории. Страшные цифры получаются. Но почему-то никто не хочет подсчитать, сколько мы людей за Победу потеряли. Цифра-то, уверяю тебя, еще пострашней получается! Ведь пятьдесят лет непрерывно мы свою победу в той войне празднуем. А если с умом разобраться, выйдет, что победили-то не мы. Другие победили. И не празднуют. А тихо наслаждаются плодами победы. Вот так вот… А мы все празднуем и празднуем, и от победного стола людей трупами выносили, даже тех, кто спустя долгие годы после этой Победы родился. Победители, блин…
Так вот… Я ведь с нашей компании институтской начал. И в театр все вместе, и в кино, и в шашлычную со стипендии, и в лес с палатками. Естественно, среди парней война за испанское наследство. А наследство в группе одно – зеленоглазая Света Филиппова… И наследство это никому в руки не дается. Милка Машошина уже аборт успела сделать от отчаявшихся борцов за испанское наследство. А Света неприступна, как альбигойский замок.
Я лично особенно любил загородные походы. С ночевками у костра на берегу озера Красавица. Огонь пылает. Искры летят. Звенит гитара. А я свои песни пою. Про море и капитанов. Однажды мне Светка говорит: «Вася, хорошие у тебя песни, но не острые». На остренькое девочку потянуло. Я, конечно, всю ночь не спал. Песню сочинял. Про молчаливого неформального лидера. На следующий день у костра и спел ее:
Баллада о молчании
Какое мужество – молчать,
Когда неправду видишь,
Какое мужество скрывать,
Что подлость ненавидишь.
Я всем врагам наперекор
Всегда молчал в лицо отважно!
Мое молчанье, как укор,
Мое молчанье – страшно!
Если б кто-то узнал,
О чем я молчал,
Что я в сердце кипящем скрывал.
Если б кто-то постиг
Хотя бы на миг,
Он бы памятник вечный воздвиг.
Не героям и не начальникам,
А тем, кто погиб от разрыва чувств.
Памятник всем неизвестным молчальникам
В виде огромных сомкнутых уст.
Ну и так далее… Еще на три куплета.
Все поняли, про кого эта песенка. Хохотали жутко. Наизусть ее выучили. В аудитории перед его лекциями на доске красным мелом сомкнутые губы рисовали. Он понять ничего не мог.
Все-таки искусство – великая сила. Мне за эту песенку привалило испанское наследство. Как манна небесная. Как подарок судьбы.
Какая любовь тогда была! Чистая и нежная. Божественная любовь… Нет, и секс, конечно, был. Но он был не главное. Не то что теперь. Поверь моему слову, скоро секс в программу Олимпийских игр введут. Как пляжный волейбол или фигурное катание. Честно. Секс давно в один из видов спорта превратился. Парный вид. Смешанные пары. И однополые. Кто кого? Три раунда. Четыре. Восемь. Потный спортивный секс. Оценки за техничность. За артистизм. За выносливость. И так далее…
Так вот… Была у нас со Светкой настоящая любовь. Божественная…
Светка рассказала все своей маме-адмиральше. Видел ты ее? Тогда меня поймешь. Мама захотела со мной поговорить. Пришел я к ним на Васильевский. Нет. Не в эту квартиру. Эта – профессорская. А они жили в новом доме. В Гавани. На Наличной. Бедненькая была квартирка. Покойный адмирал всю свою большую получку на праздник Победы тратил. А после того как, принимая морской парад, с адмиральского трапа в Неву упал, вообще жил на одну военную пенсию. Тоже, конечно, немалую. Но для вечного победителя явно недостаточную.
Так вот… Заставила меня мама всю мою биографию рассказать. Я и поведал ей «легенду» разведчика. Про отца – погибшего летчика. И маму – скромного бухгалтера в жэке. Очень внимательно меня адмиральша выслушала и спросила: «А ты знаешь, мальчик, что такое мужчина?» Я напряг свои девятнадцатилетние, отягощенные морским приборостроением мозги и понес что-то про мужество и отвагу. Адмиральша опять меня выслушала внимательно. И говорит: «Ваш ответ я оцениваю в два балла. Но я вас не виню. Просто вы по возрасту не готовы к более зрелому ответу».
И объяснила мне, что слово «мужчина» состоит из двух корней: «муж» и «чин». И второй корень в нем самый главный. Что человек только тогда может считать себя мужчиной, когда имеет чин, позволяющий ему выполнять обязанности мужа. Просто, доходчиво и образно. Самое интересное, что я с ней во всем согласился. Я объяснил, что мы со Светой и не собираемся вступать тут же в законный брак. У нас такая любовь, что преодолеет любое время. Я нос расшибу, но стану классным специалистом, гордостью советской науки в области морского приборостроения.
Адмиральша меня опять выслушала очень внимательно и сказала совсем как Ленин: «Вот и учись, учись и учись! А про Светлану забудь, пока не станешь мужчиной…»
И я пошел учиться.
А она и со Светкой поговорила. Доходчиво объяснила ей простейшую истину, что есть любовь, а есть жизнь – две абсолютно разные вещи. Любовь и жизнь! Эти вещи путать ни в коем случае нельзя. Ну, к примеру, как секс и любовь… Тоже вещи абсолютно разные. Секс без любви еще вкусней. Потому что запретного плода больше! И мама объяснила Свете, что любовей этих у Светланы в жизни еще будет уйма. А жизнь, извините, одна. И настоящая женщина должна прежде всего о жизни думать. Ради будущего. Ради своих детей.
В математике и физике Светка не секла ни грамма. А эта вульгарная социология запала ей в душу. Очень она томилась в обшарпанной, бедной адмиральской квартирке. А год был уже семьдесят второй. Расцвет застоя. И застаивались люди по-крупному. Конечно, не сравнить с нынешними. Но все-таки… Египетские белые спальни, румынские лакированные гостиные, кирпичные трехэтажные дачи, средиземноморские круизы… А что ожидало меня? Твердая зарплата в секретном НИИ и подписка о невыезде. Все! Но расстались мы со Светкой не сразу. Адмиральша была умной женщиной. На праздники, кажется на седьмое ноября, она уехала к адмиральским сослуживцам. А Светка пригласила меня в гости к себе. На Наличную. Я был вне себя от счастья. Я-то не знал, что это наш последний вечер, и она пригласила меня, чтобы попрощаться со своей любовью. А я-то этого не знал!
Это был божественный вечер… И ночь… Она сама попросила меня остаться на ночь… Оказывается, ей мама разрешила… В первый и последний раз со мной… Добрая была мама. Вот тогда я взлетел… Я парил в астрале, в межзвездном пространстве, и видел с высоты два барахтающихся на широкой адмиральской кровати молодых потных тела… Между собой мы назвали эту ночь «тайное венчание»… Романтики, блин…
Утром мы гуляли с ней по заснеженному Васильевскому. Рано выпал тогда снег. Бродили по всем трем мирам, и я чувствовал себя бессмертным. На следующий день она не подошла к телефону. А еще через некоторое время состоялось комсомольское собрание института. Проводил его молчаливый Николай Николаевич Паршин, парторг факультета. В тот раз он не молчал. Он говорил. Речь его продолжалась целый час. Я понял, как я его недооценивал.
Он раскрыл всем мою тайну, растоптал мою легенду о герое-отце. Он упрекал меня в заведомо гнусной, вражеской лжи.
Какое ему дело? А я забыл сказать, что наш факультет сугубо секретный. При поступлении уйму анкет пришлось заполнять. Потом их долго проверяли в первом отделе. И в УКГБ. Оказалось, что я обманул высокую государственную организацию. Я скрыл, что я сын кровавого сталинского приспешника. Эх, был бы жив мой инфернальный тезка… Но он свою Победу начал праздновать еще с битвы под Москвой… С сорок первого года…
Вот так… Но самым страшным было не его выступление… Конечно. Ее. И моих романтических друзей. Тогда меня расстреляли во второй раз! Друзья-романтики рассказали всем, что я к тому же поэт. Пишу антисоветские песни. А она даже процитировала наизусть строчки про сомкнутые уста. И объяснила, к кому эти строчки следует относить.
Аккуратный молчальник побагровел. Он орал на меня: «С кем ты борешься, щенок! С советской властью? Она на века! А ты будешь раздавлен и превращен в пыль!»
Он долго кричал.
А я думал, что советской власти не простоять века. Не стоит долго власть на мелкой подлости…
Ну вот…
Выгнали меня из любимого института. С треском. Я хотел на заочное перевестись… Не взяли… На работу в морской институт не брали… Я стал газеты и телеграммы разносить. Помогать маме-бухгалтерше. А вечерами научную работу писал по неконтактным системам оружия. Через три месяца меня вызвали в УКГБ. Следователь с поэтической фамилией Надсон попросил меня почитать мои стихи. Я прочел ему несколько про капитанов. Он похвалил от души и сказал, что поможет мне восстановиться в институте, если я соглашусь на них работать. «Это же у тебя семейное. Все-таки твой отец нашим полковником был…»
Вспомнили! А где они были, когда мой отец на шнурке вешался? Где они были, когда меня из-за него из института выперли?…