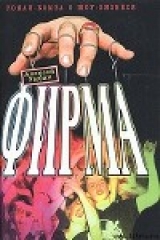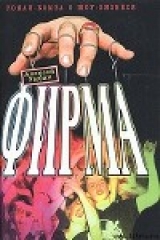Текст книги "Фирма"
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 45 страниц)
Шурик повернулся и направился к пожарищу, вокруг которого стояла небольшая кучка зевак — местных жителей.
— Доигрался, музыкант, — сказала тетка в платке, когда Александр Михайлович проходил мимо группы любопытных жителей Пантыкино. — Доигрался, сердешный.
— Хорошо, все село не спалил. Понаедут с города, с Москвы, только хулиганить мастера. А работать не хотят, — качал головой мужчина в спортивном костюме. — Тунеядцы чертовы! В другое время таких… Ох! — Мужчина махнул рукой и сплюнул.
— Да что говорить! Всю страну сожгут, не то что дом. Полный бардак!
— Это не Ромка, — вмешалась в разговор бабка в ватнике, который, несмотря на теплый день, был застегнут на все пуговицы. — Ромка еще вчерась в Москву уехал. На машине своей. Вишь, машины-то нет. Это он и уехал. Я видала, что этот, с Ленинграду, он один остался тут. А Ромка — уехал, точно говорю. Оставил этого, который с Ленинграду, его одного оставил. Вот так. Он и сгорел, этот, с Ленинграду. А Ромка вернется — тут ему и новость. Будет думать потом, кого в дом пускать.
Сгоревший дом действительно принадлежал хозяину одного из московских клубов Роману Кудрявцеву. Леков знал его давно, еще со времен своей начальной, подпольной артистической карьеры, когда он приезжал в Москву нищий, голодный, без гитары и не только без вещей — даже без зубной щетки и двушки, чтобы позвонить из автомата. Леков всегда прямиком шел к Роману на Садово-Кудринскую. Если друга не было дома, он сидел в подъезде, дожидаясь, когда светский, насколько это можно было при советской власти, Роман вернется после очередных ночных похождений.
Кудрявцев был первым, кто понял, что Леков — по-настоящему талантливый музыкант. Обладая достаточным количеством знакомств в самых разных кругах, а также определенной смелостью, хитростью и быстрым умом, Роман стал «продвигать» молодого ленинградского рокера, устраивать ему выступления, платить деньги и пытаться как-то вывести из подполья на большую сцену.
По сути, Роман был открывателем лековского таланта, «крестным отцом» артиста Василька, тем, что позже стало называться «продюсер».
Однако в далекие семидесятые годы Кудрявцев не стремился как-то называть свою работу, да и работой ее не считал. Ему нравился Васька Леков, Роману было весело с этим совершенно безумным парнем, и богатый московский друг не стремился превратить Лекова в источник дохода.
Доход у Романа Кудрявцева был и без того вполне стабильный, хотя требовал больших затрат нервов, времени и физических сил. Покупка икон у бабушек из далеких сибирских деревень и продажа подреставрированных, как говорили в его кругу, «досок» иностранцам было очень опасным бизнесом, хотя, для семидесятых годов, более чем прибыльным. Организацию же концертов своему товарищу Роман рассматривал как легкое развлечение, связанное со сравнительно небольшим риском, к тому же оно приносило удовольствие и давало отдых от бесконечных поездок по русским деревням на раздолбанном «Москвиче».
Потом, когда артистическая карьера Лекова круто пошла вверх, Роман, кажется, на время потерял интерес к своему собутыльнику, товарищу и партнеру по амурным похождениям. Тут и перестройка случилась, Кудрявцев ушел в квартирно-антикварный бизнес, одновременно занимаясь организацией ночных клубов. В конце концов он понял, какие дивиденды сулят подобные клубы, если поставить их, что называется, на твердую ногу, и сосредоточился только на этом направлении своей деятельности. Клубы, кстати, не исключали его прежних занятий — торговли антиквариатом и недвижимостью, а скорее помогали в этом.
Пока Кудрявцев сколачивал состояние, а Леков мотался по стране с концертами, пропагандируя гласность и на эзоповом языке своих песен объясняя бесчисленным фанатам смысл перестройки, их общение почти угасло. Виделись и созванивались они редко, времени на треп не было ни у Романа, ни у Василька.
Но когда Роману перевалило за сорок пять, а Леков уже подбирался к «распечатыванию» пятого десятка, их дружба неожиданно возобновилась.
Василек прекратил концертную деятельность и засел в студиях, тратя все деньги, заработанные гастрольным «чесом», на выпивку, наркотики и студийное время. Деньги быстро кончились, кончилось, соответственно, и студийное время, которое бесплатно не предоставлялось никому, даже знаменитостям, подобным Лекову.
Кудрявцев же достиг такого положения в бизнесе, когда мог начинать выпивать с одиннадцати утра до двенадцати, пока был еще достаточно вменяем, решал по телефону текущие дела, а потом, с осознанием выполненного долга и недаром прожитого дня, самозабвенно уходил в то, что он называл «настоящим оттягом».
У Лекова снова появилось свободное время, он пристрастился к разного рода психостимуляторам, играла свою роль и ностальгия по молодости, поэтому Василек стал все чаще и чаще наведываться на дачу старого товарища. Конечно, не на ту, что была неподалеку от Жуковки, не в роскошный особняк с бассейном, солярием, подземным гаражом и прочими признаками хорошо раскрученного, крепко стоящего на ногах московского бизнесмена. Леков выбрал для своей временной резиденции старый дом в Пантыкино, который Роман оставил за собой только из одной сентиментальности — как памятник боевой юности.
Это было именно то место, где когда-то веселились московский молодой фарцовщик и еще более молодой нищий питерский музыкант. Дача — каменный дом под косой черепичной крышей — досталась Кудрявцеву от деда. Родители сюда не ездили, они уже тогда подбирались к Николиной Горе — папа и мама Кудрявцевы были дипломатами и воспитанием сына почти не занимались, переложив всю ответственность на домработницу Марину, добрейшую пятидесятилетнюю женщину.
Марина, в свою очередь, души не чаяла в красавце Ромочке, которому в момент знакомства с Лековым было уже за двадцать, и спокойно терпела всякие, по ее выражению, «выкаблучивания», на которые был так горазд представитель московской «золотой молодежи», проводивший на даче очень много времени. Правда, таких периодов, которые Роман обозначал как «пляски на природе», с годами становилось все меньше и меньше. Кудрявцев-младший рыскал по стране в поисках икон, путал следы, отрываясь от стукачей и филеров, когда шел на свидание с очередным покупателем, бегал по знакомым валютчикам, бродил в поисках заказанного ему антиквариата — дел становилось все больше и больше, и все чаще и чаще приезжающий в гости Леков оставался на даче один либо же в компании знакомых московских девушек.
Вот эти-то сладкие, щекочущие нервы и самолюбие воспоминания -о полной свободе, первых сексуальных победах, а затем и первых настоящих оргиях — снова привели Лекова в старый, но еще крепкий и теплый дом в Пантыкино.
Роман презентовал ему связку ключей и дал карт-бланш на посещение загородной резиденции. Теперь Леков, почти как в молодые годы, срывался сюда из Питера по любому поводу. Например, поссорившись с женой, он мог выйти в домашних тапочках из дому, доехать на такси до вокзала, сесть на «Аврору» и через какие-то шесть часов быть в Москве, а еще через час — в любимой, навевающей прекрасные воспоминания загородной резиденции Кудрявцева.
Василек приезжал сюда не реже раза в месяц уже года два. Последнее время он гостил в Пантыкино все чаще, и все чаще сидел здесь один-одинешенек. Бизнес Романа неожиданно начал… не то чтобы шататься, но возникли у директора нескольких модных ночных клубов временные трудности с комиссиями по борьбе с коррупцией, с налоговой инспекцией и, вовсе уж некстати, с отделом по борьбе с наркотиками. Поэтому Роману приходилось львиную долю своего времени проводить в разных присутственных местах столицы, а в Пантыкино за хозяина утвердился Вася Леков, которого все соседи давно уже прекрасно знали и относились к нему как к своему.
Правда, «хорошо знали» — еще не значит «любили».
— Здравствуйте. Старший следователь капитан Буров, — представился Шурику высокий подтянутый мужчина в кожаной куртке и черных джинсах. Под рубашкой на мускулистой шее виднелась золотая цепь средней толщины. Бритая макушка, крутые, покатые плечи… Единственное, что как-то не вязалось с хрестоматийным обликом бандита, — это высокий, открытый лоб и умные проницательные глаза, в которых не было и намека на наркотический туман.
— Рябой Александр Михайлович. Я, так сказать, продюсер Лекова. А если проще — я для него в Москве и мать, и отец, и нянька.
— Я знаю, — кивнул Буров. — Вот, видите, что приключилось. — Следователь развел руками.
— Пока, честно говоря, не вижу, — пожал плечами Шурик. — Где он сам-то?
— Сам-то? — переспросил Буров, покосившись на то, что осталось от дома. — Хотите посмотреть?
— Хочу.
— По правде говоря… Вообще, официальное опознание еще нужно проводить… в морге. Но и сейчас можно. Пойдемте. Если уж так хотите.
Буров повернулся и зашагал к пожарной машине.
Возле «скорой» стояли двое санитаров с папиросами в уголках губ.
— Где тело? — спросил Буров.
— А вот, — кивнул один из санитаров, совсем молодой, лет, наверное, двадцати. — Скажите, это правда, что ли, Леков?
— Посмотрим, — буркнул Буров, взглянув туда, куда показал мальчишка в грязном белом халате.
Когда Шурик, следом за капитаном, прошел мимо санитаров, он вдруг почувствовал очень знакомый за много лет общения с музыкантами и деятелями шоу-бизнеса запах. Санитары, вне всякого сомнения, смолили косяки, причем весьма крутые. Шурик знал толк в конопле и мог сказать, что папиросы ребят в белых халатах забиты очень хорошей травой, ну просто очень хорошей!
Буров, однако, вроде бы не обратил на запах конопли никакого внимания. Он подошел к лежавшим на земле носилкам и встал над ними, глядя на Шурика.
— Вот это? — спросил Александр Михайлович.
— Это, это.
Второй санитар, постарше, с редкой бородкой на длинном худом лице, похожий на монаха, иссушенного многодневным постом, наклонился над носилками и дернул за «молнию» черного пластикового мешка.
— Вот он, родимый. Боксер.
— Заткнись, Юра, — рявкнул Буров.
Шурик быстро отметил про себя, что капитан, оказывается, довольно близко знаком с санитарами — интонация, с которой следователь обратился к «монаху», была допустима только между людьми, давно друг друга знающими.
— Ну? Что скажете? — снова спросил Буров у Шурика.
— А черт его знает… Это точно он?
Александр Михайлович разглядывал то, что лежало в раскрытом теперь блестящем пластиковом мешке.
Очевидно было, что эта черная масса, в которой отчетливо угадывались очертания человеческой фигуры, и была некогда человеком, только вот определить, мужчина это или женщина, молодой парень или взрослый мужчина, с первого взгляда представлялось совершенно невозможным.
Неровный, словно неряшливо вылепленный детской рукой из смеси черного и коричневого пластилина, мятый шар вместо головы, переплетения немыслимо изогнутых толстых змей вместо рук и ног, спутавшихся липким клубком на месте груди, короткий, неправильной формы прямоугольный обрубок вместо тела…
Мертвец лежал в так называемой «позе боксера» — остатки рук прижаты к груди, ноги, согнутые в коленях, подтянуты к животу…
— Да-а, — зажав нос, наконец-то выдавил из себя Шурик. — Так, на взгляд, и не скажешь — он, не он…
— Я боюсь, что и не только на взгляд, — покачал головой Буров. — Можно основываться на показаниях свидетелей.
— А что они там показывают? — спросил Шурик, продолжая разглядывать обгоревший труп.
— Свидетели, Александр Михайлович, говорят, что точно уверены — Леков был один в доме. Вот… — Буров достал из папки лист бумаги. — Львова Екатерина Семеновна… Она, по ее словам, день и ночь наблюдала за домом Кудрявцева. Пенсионерка, делать нечего. Кудрявцев уехал ночью, на своей машине, с девчонками. Леков утром вышел, посидел на лавочке, покурил, она еще ругалась, кричала на него, что окурки бросает вокруг, запалить может. Вот, как она говорит, и запалил, наверное. Только изнутри.
— Пьяный был?
— Пьяный, пьяный, — поглядывая на блестящее черное месиво, утвердительно кивнул Буров. — Не просыхал несколько дней. Запойный он, что ли, у вас был?
— Не то слово, — ответил Шурик. — Такой кадр поискать еще надо.
— А чего искать? — растягивая слова, спросил подошедший на разговор молоденький санитар. — Нашли уже. Вот он, родная душа. Лежит сми-ирно. Больше выпивать не будет. Спокойный стал…
Следователь внимательно посмотрел в лицо санитара, потом повернулся к его коллеге.
— Юра! Сделай так, чтобы я этого торчка больше здесь не видел.
— Пойдем, Сулим, в машине посидим. — Старший санитар обнял младшего за плечи, увлек в глубь «скорой», усадил там на лавку и, снова вынырнув на свет божий, встал рядом с носилками.
— Ты, Юрик, не охуевай так-то уж… — Буров взглянул на санитара — словно ледяной водой из ведра окатил. Однако санитар Юрик, видимо, был закаленным человеком. Тяжелый арктический взгляд следователя его не смутил. Юрик улыбнулся и вставил в рот новую папиросу.
— Слушай, ну чего ты, Петрович? — ответил он следователю. — Ну чего ты?
— Не въезжаешь? Борзеете впрямую!
— Петрович, у нас работа адовая!
— Чего?
— Работа адовая! Маяковский прямо про нас написал. Помните, Андрей Петрович, поэму великого советского поэта?
— Помню, помню. Я все помню, ты не волнуйся… А у меня, ты, значит, считаешь, райская жизнь?
— Не-е. Какое там! У тебя, Петрович, тоже не фунт изюму. Город-сад строишь, тут не на одно поколение…
Шурик, потоптавшись на месте, кашлянул и посмотрел на санитара.
— Слушай, мастер, может, закроешь его уже?
— Жмура-то? Закроем, конечно. Что, запах достал?
— Есть немного.
Александр Михайлович совершенно спокойно переносил вид крови и не смущался видом мертвецов, которых за свою насыщенную самыми невероятными событиями жизнь видел во множестве и самых разных. От утопленников и повешенных до сбитых машинами, выпавших из окна высотного дома и вот таких, обгоревших до неузнаваемости. Был даже один случай, когда Александру Михайловичу пришлось лицезреть поле, на котором были разбросаны останки некоего администратора, зашедшего за ограждение и попавшего под невидимые в своем бешеном вращении лопасти ветродуя на киносъемке.
Снимали клип мурманской группы «Молоток». Группа Шурику не нравилась, она вообще никому не нравилась — парни в черной коже извлекали из своих гитар старомодный скрежет, грохотали барабаны, длинноволосый солист на ломаном английском выкрикивал строчки своих незамысловатых сочинений, в переводе на родной язык звучащих примерно как «Ты меня не любишь, а я тебя люблю, хорошая девочка Маша…»
Деньги у ребят были, и были в достаточном количестве для того, чтобы настоять на собственном сценарии клипа. Им нужен был ветер, раздувавший их гривы (то, что представляли собой волосы музыкантов, сложно было назвать прическами), и местный, мурманский администратор раздобыл для натурных съемок древний ветродуй, переделанный из старенького авиационного мотора, который был укреплен в кузове побитого временем, русскими дорогами и шалопаями-водителями грузовичка-"зилка".
Процесс съемок шел уныло и нервно, музыканты «Молотка» принялись командовать, выдвигая такие идеи, от невыразимой пошлости которых даже у Шурика, привыкшего ко всему и поставившего себе за правило вообще не обращать внимания на то, что касалось творческой стороны работы, даже у него, испытывавшего полное равнодушие к художественной части, ползли по телу мурашки.
Кроме того, группа исповедовала настоящий культ алкоголя и отказывалась делать что-либо, предварительно не выпив. Шурик не привык так работать, но, поглядев на мурманских музыкантов и посчитав деньги, плюнул на собственные принципы. Кто платит, в конце концов, тот и заказывает. Музыку, не музыку — в общем, то, что ему в данный момент больше по душе. А душе «Молотка» больше всего требовалась, как убедился Шурик, выпивка.
В процессе съемок, которые все затягивались и затягивались — главные действующие лица постоянно поправляли здоровье, — съемочная группа, включая и Александра Михайловича, махнула рукой на творческий процесс и разделила способ времяпрепровождения артистов. Кончилось это тем, что бедолага администратор, совсем еще молодой и слабый на алкоголь, дождавшись того момента, когда артисты начали действовать по сценарию и камера наконец включилась, решил посмотреть на игру своих земляков поближе и шагнул за ограждение.
Лопастями ветродуя его буквально разнесло на куски и разметало по всей съемочной площадке. Отдельные части администратора попали и в артистов, и в представителей технического персонала, забрызгали кровью камеру, испачкали декорации.
Александр Михайлович тогда пережил один из сильнейших в своей жизни стрессов.