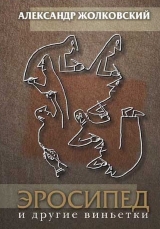
Текст книги "Эросипед и другие виньетки"
Автор книги: Александр Жолковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
Голубой кит
Тележка нашего университетского почтальона пестрит разнообразными стикерами. Среди них такой: GO NUKE A GAY WHALE FOR JESUS! Подрывом чуть ли не всех популярных клише – политически корректных и наоборот – дышит здесь каждое слово. Может, еще не все потеряно?
Народ книги
Я любил смотреть телевизор, Катя нет. Начитанная (как и приличествует «коэну» – потомку Аарона), она отказывалась смотреть даже образовательные программы.
Как-то вечером шла передача о легендарном escape artist’е начала века Гарри Гудини (Houdini).
– Катя, иди смотреть, тут документальная хроника, – кричу я сверху.
– Кончится – расскажешь.
– Катя, скорее, тут кое-что интересное выясняется!
– Ну, что там может выясниться – что он еврей?..
– Как ты догадалась?
– А что еще может выясниться?! Все остальное и так известно.
Оказалось, что Гудини – псевдоним Эриха Вайсса (Erich Weiss), еврейского эмигранта, с еврейской мамашей, позаимствовавшего свое звучное имя у знаменитого предшественника, Робер-Удена (Robert-Houdin), разоблачению магии которого он посвятил одну из своих книг. Он собрал уникальную библиотеку по магии и фокусничеству и завещал ее Библиотеке Конгресса.
В другой раз была передача о Нострадамусе.
– Катя, иди смотреть, очень интересно.
– Когда выяснится, что он еврей, скажешь.
– Уже…
Такое выясняется, как правило, близко к началу, потом герой и сам забывает о своем происхождении. Нострадамус крестился и принял ультракатолическую фамилию («Богородицкий») ради поступления в медицинскую школу. Литературное его наследие известно – даже моей парикмахерше.
Очередным объектом выяснения стал аббат (!) Лоренцо да Понте, либреттист «Фигаро» и «Дон Жуана». Имя он взял у монсиньора, крестившего его и братьев вместе с отцом, который после смерти первой жены женился на католичке. Моцартовский эпизод был одним из многих в жизни да Понте. Последние три десятка лет он прожил в Америке, где торговал вином и книгами, основал итальянскую кафедру Колумбийского университета и Итальянскую оперу и написал книги по итальянской литературе и «Мемуары».
На телефильм о кровожадных Борджиа я заманивал Катю как художницу – обилием картин и интерьеров, но она держалась твердо. По окончании я спустился к ужину.
– Я, помнится, где-то читала, что Борджиа были из испанских евреев…
– Ну, это ты зарываешься. Ничего такого не выяснилось. Давай проверим.
Я достал две увесистые еврейские энциклопедии – одну российскую, царских времен, другую сравнительно новую, американскую. Борджиа в них не было.
– Это, конечно, не доказательство, – сказал я. – Энциклопедии однотомные. Надо посмотреть в полную. Но если и там не будет…
– Там будет. Полная еврейская энциклопедия тем и отличается от однотомной, что в однотомной евреями оказываются некоторые, а в полной – все.
P. S. Семейству Борджиа не помогла и полная. Это бывает. Даже с выходцами из Испании. Да вот и Лимонову пришлось написать о себе: «Такой интеллигентный нееврей».
Но, что характерно, сбой произошел по ветхозаветной формуле 3+1, обычно (например, в «Книге Даниила») применяемой для особо сильного взлета на четвертом витке. Ссылки на литературу опускаю.
Сексминимум
Уже пару лет я являюсь старейшим членом своего кооператива – как по возрасту, так и по длительности обитания. Американцы очень мобильны: средний срок владения недвижимостью семь лет. И это именно владение, инвестиция, а не проживание, nothing personal, в доме не столько живут, сколько поддерживают его обобщенно-товарный вид в ожидании скорой продажи. За девять лет на моих глазах, как по команде, сменились все жильцы, в некоторых квартирах дважды.
Чуть короче стаж у председателя кооператива (я – бухгалтер), Энн, одинокой, но бодрой, разумной, невредной. Узнав, что Катя художница, Энн заказала фреску для прихожей. В остальном ее квартира стерильно чиста (все белое), в ней никого не бывает, и сексуальная ориентация Энн остается загадкой. Ее внешность, как бы это сказать, схематична – природа, по слову классика, долго над ней не мудрила. В ее резком голосе без нюансов есть что-то мужеподобное, но, судя по всему, из волнующих античных приставок (гетеро-, гомо-, би-, авто-, пан-…) ей больше всего подходит а-.
Власть мы с ней захватили давно, в борьбе с интриганами первого состава. Энн купила свою квартиру у сослуживца, бывшего председателя кооператива, который, несмотря на начальственное положение и мужественную стилистику (именем ему служили инициалы – Джей Би, роднившие с маркой виски), не вынес склок и продал, не торгуясь. Но для старого советского воробья, даже не самого стреляного, американские интриги, будь то на кафедре (я имею в виду свой корнелльский опыт) или в кондоминиуме, элементарны, Ватсон. Склочников я пересидел («он живо у меня квартиру поменяет»), положительную Энн, взяв на себя бухгалтерию, убедил занять президентский пост, и в доме, наконец, стало тихо.
У себя в фирме аудио– и видеозаписи Энн начальник среднего звена с десятком подчиненных, и звонить ей надо через секретаршу. Тут все, казалось бы, стабильно, как вдруг мы замечаем перемену – она совсем перестает бывать дома. Встает она в 4 утра, бегает, уезжает в офис, но после работы ее тоже нет, а в 9 вечера она уже спит. Неужто, думаем, грянула-таки сексуальная революция? Но тогда почему Энн доступна в воскресенье – самое романное время?
Оказывается, мобильность нашла себе другой типичный выход – career change. Энн надоела роль бюрократки, и она решила переквалифицироваться в консультанты по вопросам семьи и брака. Каждый вечер в будни и весь день в субботу она без отрыва от производства посещает соответствующие курсы, почему и занята под завязку.
Проходит несколько лет, и однажды вместе с кооперативными бумажками я получаю от нее небольшую рекламку – извещение об открытии ею психотерапевтического кабинета (еще один адрес и телефон), пока что в качестве практиканта (intern), под наблюдением более мощно дипломированной специалистки, но тем не менее. Она даже дает мне несколько таких карточек, на случай распространения среди знакомых. Слово psychotherapy выгравировано крупным жирным шрифтом, зато с дружественной маленькой буквы, а под ним, мельче, но без излишней скромности, намечен круг потенциальных клиентов: individuals • couples • families • groups.
Кто к ней пойдет, недоумеваем мы с Катей, когда ее квакающий голос на автоответчике напрочь отсекает всякую мысль об интиме? Время от времени я справляюсь о ее успехах на новом поприще. Она отвечает, что не все сразу, предстоит постепенное завоевание репутации, но в общем она довольна, что последовала внутреннему позыву и нашла себя. Если дело пойдет, она продаст квартиру и купит дом.
– Как она может советовать, не имея личного опыта? – продолжает гнуть свою линию всесторонне развитая Катя.
В ее речи мне слышатся интонации, знакомые по дискуссиям на эстетические темы («В живописи понимают только художники»). Почуяв угрозу собственной спекулятивной профессии, я занимаю оборону на дальних подступах.
– Исследуют же литературоведы литературу, хотя сами не пишут…
Но Катя настроена мирно. Ей достаточно крови Энн.
– Ну, не пишут, но хоть читают!..
Диагноз
Среди приятелей на родине я слыву ультразападником – «американцем», но, конечно, знаю за собой неизбывные пережитки почвенничества. Я люблю останавливаться не в гостинице, а у знакомых, и вообще привык полагаться на личные связи – будь то в починке компьютера, ремонте квартиры или сборе материала для статьи. Со своей стороны, я исправно устраиваю приезжим соотечественникам лекции, встречаю их в аэропорту, поселяю у себя, кормлю, пою и развлекаю. В одних случаях мне это просто приятно, в других естественна дружеская услуга, в третьих долг платежом красен, но многие можно объяснить только действием незримых клановых уз. Их власть над собой я осознал давно, давно смирился, расслабился и стараюсь получать удовольствие. Бывают, однако, случаи, когда и психология, казалось бы, бессильна.
Начать лучше всего, пожалуй, старыми словесы, по испытанным образцам стилистической корректности. В одном департаменте служил один чиновник… Вообразим себе одну вечно идейную коллегу, сочетающую потребительский нахрап с возвышенной риторикой; без устали морализирующую по личным и общественным поводам; безошибочно бьющую на ваше чувство вины, а пробудив его, требующую новых приглашений, гонораров, транспортных, магазинных и иных крупных и мелких услуг; видящую себя не только научной и политической фигурой, но и интересной рассказчицей, очаровательной женщиной, желанной гостьей. Добавим, для пущего невероятия, что свои проповеди и отповеди, полные ленинского сарказма, она интонирует на ерническом распеве, выдающем знакомство с Бахтиным, Зощенко и Булгаковым. А теперь представим, что она относится к числу ваших старых знакомых и, хотя вы знаете ее насквозь, напросилась к вам на обед, а перед этим на прогулку по городу, в связи с чем в амплуа бедной родственницы вытребовала, примерила и подвергла придирчивой критике ряд предметов вашего гардероба; что за обедом она долго отчитывала вас за неправильное обращение с уважаемым коллегой, а парой дней раньше публично приравняла вашу деконструкцию Ахматовой к поведению провербиального советского мужа, вынуждающего усталую от работы и беготни по магазинам жену саму покупать себе цветы на 8 марта (для нее что Анна Ахматова, что Клара Цеткин, лишь бы шла в дело); что вы, будучи скованы по рукам и ногам законами гостеприимства, с виноватой улыбкой целый вечер сносили все это и вот, наконец, захлопнули за ней дверь.
…– Нет, Катя, не пойму, как получается, что я сам в энный раз приглашаю ее, чтобы потом терпеть ее беспардонность?! – восклицаю я. – Я ведь далеко не ангел. Что заставляет меня так попадаться?!
Катя, как всегда, наготове.
– Мазо-нарциссизм.
– Как-как? Мазо-нарциссизм? Ну, мазохизм еще понятно, хотя вообще он мне не свойствен. А нарциссизм-то мой здесь при чем?
– При том, что ты упиваешься не только собственными мучениями, но и собственным превосходством. Молчишь и думаешь: как я там ни плох, она хуже.
Sigmund, please copy. (Учись, Зигмунд!)
В тисках формы
Мы с Анатолием Найманом сверстники, познакомились в Ленинграде в начале 70-х, не виделись лет двадцать, летом юбилейного 89-го столкнулись во дворике ИМЛИ, и он подарил мне только что вышедшие «Рассказы о Анне Ахматовой» (с зияюще спондеическим о Анне – чтобы, не дай Бог, не получилось о бане). Прочел я их лет через пять, по ходу своей ахматоборческой кампании, и нашел в них не просто ценное военное сырье, а готовый склад оружия, хотя и замаскированный под мирный объект.
С тех пор Найман напечатал уже откровенно скандальное «Б. Б. и другие», где со своим бывшим приятелем церемониться не стал (Б. Б. – не А. А.), так что писать о нем одно удовольствие: все заранее позволено. Тем более, что на мою ахматовскую статью он отозвался полублатным наездом под названием «Витек и Алик». Noblesse, однако, oblige. Затаив в душе некоторую грубость, я решил дожидаться санкций на жертвоприношение Толика непосредственно от Аполлона.
Божественный глагол застал меня погруженным в заботы суетного света на посткоммунистической конференции в Иерусалиме, собравшей, по манию Д. М. Сегала, цвет российской гуманитарии (весна 1998 г.). Заседания проходили при переполненном местной интеллигенцией зале. Выступающие говорили с массивной радиофицированной трибуны несколько сбоку, а в центре высился монументальный стол президиума, за которым располагались председатель и участники данной секции каждый со своим микрофоном; надо всем этим хэппенингом демиургически царил сам Дима Сегал с, так сказать, микрофоном номер один. Для реплик с места имелось еще несколько микрофонов на длинных шнурах, которые по знаку свыше специальные связисты тянули в гущу публики.
Мы с Найманом держались взаимно настороженно, но корректно. При первой же встрече я заверил его, что ожидаемого этического шока от «Б. Б.» не испытал, а вот некоторые конструктивные просчеты не мог не констатировать. Этот двойной удар он принял, не дрогнув, и вполне парламентарно заслушал мои соображения.
Вообще, после десятилетнего перерыва я с удовольствием отметил его неизменное изящество, по-прежнему складную фигуру и хорошо сохранившуюся красоту – все еще свежее лицо со все еще светящимися глазами в обрамлении все еще черных волос, – и задним числом снова отдал должное вкусу Анны Андревны. Он появлялся в элегантном вельветовом пиджаке с аккуратными замшевыми заплатами на локтях, за столом демонстрировал отменные манеры, а сразу после ужина вежливо откланивался и исчезал до утра. Заинтригованный этой неукоснительностью, я понимающе приписал ее толково налаженным тайным свиданиям, но высказав свое предположение вслух, получил от застольцев успокоительное разъяснение, что после перенесенного сердечного приступа Найман строго соблюдает режим и диету, какие свидания, ничего лишнего, инфаркт залог здоровья.
Заседания между тем шли своим чередом, пришло время выступать и Найману. Выйдя на трибуну и извинившись, что начнет издалека, он заговорил о том, каким знаменательным событием является настоящая конференция, как долго она готовилась, и как он помнит, как несколько лет назад, когда еще жив был сэр Исайя, он в Лондоне (или Оксфорде?) рассказал ему об этой идее, тот поддержал ее, и вот теперь, наконец… Но тут его в свой микрофон громовым голосом перебил Сегал:
– Этого ничего не надо. Переходите к докладу.
– Я только хотел…
– Не надо, Анатолий Генрихович. Переходите к докладу на заявленную тему. Ваше время уже идет.
После некоторого замешательства Найман, приняв позу неоцененного благородства, приступил к докладу, из которого не помню ничего, кроме уже знакомого внеметрического О – в словах поэт, поэзия, поэтический.
На другое утро мы с Найманом оказались самыми ранними пташками за завтраком, сели вместе, и он тут же заговорил о вчерашнем инциденте.
– Произошло недоразумение. Меня не так поняли.
– По-моему, Толя, вас поняли именно так – в смысле, что вы, вместе с Исайей Берлином и покойной Анной Андревной, а вовсе не Дима Сегал, организовали эту конференцию.
– Ну, эти инсинуации, Алик, я оставляю на вашей совести, – произнес Найман с достоинством, и наш table talk потек дальше как ни в чем не бывало.
А вечером состоялось последнее заседание той секции, на которой выступал Найман, и заключительное слово было предоставлено председательствовавшей на ней Г. А. Белой. Большинство участников располагались в первом ряду, под трибунами; мы с Найманом сидели рядом на крайнем левом фланге. Раздавая оценки докладам, Белая особенно критически отозвалась о наймановском (не исключаю, что из-за «Б. Б.»). Найман зашептал:
– Ну, я ей сейчас дам…
– Сомневаюсь.
– Не сомневайтесь, я уже знаю, как я ей врежу… – Он застрочил на листке бумаги.
– Не-а, не врежете.
– Почему это? – он начал кипятиться.
– По причине, которая вам как мастеру художественной формы должна быть понятна…
– Это по какой же?
– По той, что особенностью формы является ее завершенность, замкнутость. – Двумя указательными пальцами я обрисовал в воздухе круг, почти замкнув его, но оставив внизу некоторый зазор.
– Ну, и что?
– А то, что речь, которую мы сейчас слушаем, является в жанровом отношении заключительной, – я, наконец, позволил пальцам соприкоснуться, – и по закону композиции не предполагает никаких дальнейших высказываний. – Я еще раз описал пальцами круг перед носом Наймана и победительно замкнул его. – Вам просто не дадут слова.
– Пусть попробуют, – сказал Найман и всем телом изготовился к прыжку.
Белая, наконец, кончила и стала сходить с трибуны. В ту же секунду Найман устремился вперед, требуя слова, и протянул руку к микрофону. Навстречу ему из-за главного стола поднялся Сегал со своим микрофоном в руках. Найман защитно выставил вперед свободную руку, но Сегал продолжал на него надвигаться. Зрелище их повторной стычки вызвало шум и оживление в публике, когда раздался подчеркнуто членораздельный, усиленный громкоговорителями, все перекрывающий голос Сегала:
– Анатолий – Генрихович – я – вам – ДА-Ю – микрофон!
Раздался общий хохот, в котором потонул наймановский отпор инсинуациям Белой, так что я мог поздравить себя с полным успехом постановки, оставшейся, впрочем, анонимной.
Гордиться ли этим, не знаю. С одной стороны, вроде бы правильно – режиссер умирает в актере, но с другой, получается какое-то трусливое закулисное подзуживание. Тем более, что в свое время подобное обвинение мне уже предъявлялось.
На офицерской стажировке в военном лагере зимой 1959 года филологи подыхали от безделья. Валялись на нарах, слонялись по казарме, пили, пели, доходило до драк. Аркадьев и Баумов схватились с примененеим технических средств – солдатских ремней; на бритых головах пряжки оставляли яркие следы. Я бросился разнимать, и общими филологическими усилиями побоище было прекращено. В дальнейшем по ряду причин именно мне комсомольское бюро факультета вынесло выговор с занесением в личное дело (об этой истории я уже писал). А на комиссии по распределению ее председатель, печально известный декан факультета Р. М. Самарин, спросил с нарочитым безразличием к фактам:
– Жолковский, что у вас там вышло с Баумовым?
– У меня ничего, Роман Михайлович.
– Зачем вы на него полезли?
– Я не лез, Роман Михайлович.
– Ну, не лезли, так подзуживали.
– Я не подзуживал, Роман Михайлович, я разнимал.
– Подзуживал, разнимал… какая разница?! Не подзуживайте, Жолковский, – закончил он на отечески поучающей ноте и выдал мне направление в Пензу (от которой меня спасла лишь причастность к как раз забрезжившему машинному переводу).
Действительно, какая разница? В обоих случаях человек действует со стороны, в миротворческой ли, провокаторской ли, но не героической роли, претендуя, однако, на некое превосходство, в одном варианте явное моральное, в другом – тайное эстетическое. Устыженный этими соображениями, я в дальнейшем старался по возможности «лезть» и брать ответственность на себя; я даже стал перебарщивать в этом направлении, а потом для корректировки табанить в обратном. На Ахматову вот полез с открытым забралом, а с Найманом спрятался за его же спину.
…Вспоминается старинный советский анекдот об иностранном корреспонденте, ранним утром наблюдающем очередь в булочную и драку сумками с хлебом.
– Что, перебои с продуктами? Дерутся из-за хлеба? – спрашивает он у сопровождающего.
– Да нет, хлеба навалом, а это… гурманы, стоят за какой-то особой выпечкой.
Сомнительное блядство
Перечитывая эти записи, я замечаю, что мои воспоминания о знакомствах с великими людьми носят минималистский характер, сохраняясь в масштабе ровно единой виньетки. Иногда выветривается даже ощущение личного контакта – в памяти остаются лишь цитабельные словечки.
Эйзенштейна, долгие годы моего кумира, я точно никогда не видел (когда он умер, мне не было одиннадцати). А вот с одной из его «жен», Перой Аташевой, я как будто встречался. «Как будто» – потому, что за подлинность своего впечатления я поручиться не могу. Но тогда откуда эта неповторимая пуанта рассказа о ее хождении по инстанциям после смерти мэтра? Она хлопочет о вступлении в права наследства (на квартиру, сберкнижку, библиотеку, рукописи), ее посылают из кабинета в кабинет, и в одном из них некий начальник от кинематографии говорит ей (видимо, в 48-м), а она со смаком пересказывает (в 62-м, то есть всего 14-ю годами позже):
– Много тут вас, блядей, ходит…
Общаться с Аташевой я мог в музее-квартире Эйзенштейна на Смоленской (где сам он никогда не жил), когда с легкой руки В. В. Иванова познакомился с кружком собиравшихся там «эйзенщенят» – будущих классиков эйзенштейноведения (Наумом Клейманом, Леней Козловым и другими). Даты сходятся – Аташева умерла лишь в 1965-м. Ее облик отчетливо стоит перед моим мысленным взором. Маленькая с непропорционально большой головой и огромными, странно косившими глазами навыкате, она была похожа на тех ацтекских женщин, которых любил снимать и рисовать Эйзенштейн. Впрочем, такова она и на известных фотографиях.
Что касается недоверия чиновника, то оно не вовсе лишено оснований. Формально Эйзенштейн и Аташева были женаты, но официальной его женой считалась Телешева (ум. 1943), не говоря уже о сомнительности супружеских отношений в обоих этих «браках», да и каких-либо половых связей Эйзенштейна с женщинами вообще.
Так что мои колебания законно вписываются в общий контекст двусмысленностей эйзенштейновской биографии. Если что и удостоверяет для меня аутентичность собственного свидетельства, так это сугубо теоретическое соображение, что при передаче из третьих уст слова о множественности блядей прозвучали бы не столь убедительно. Увы, здесь они передаются именно так.








