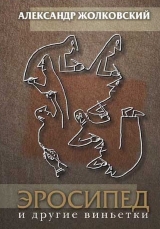
Текст книги "Эросипед и другие виньетки"
Автор книги: Александр Жолковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
Акмеизм в туфлях и халате
В доме No. 41 по Метростроевской ул. (ныне опять Остоженке), где я прожил всю свою советскую жизнь, бывал Мандельштам. Он бывал там у своего собрата-акмеиста Михаила Зенкевича. Сын Зенкевича Женя был другом моего послевоенного детства, и я много времени проводил у них в квартире. Сначала они, как и до войны, занимали полуподвальную квартиру No. 1, а потом переехали в лучшую, бельэтажную, No. 27, где, насколько я знаю, Женя с семьей живет и сейчас.
У Зенкевичей я чувствовал себя, как дома. Меня родители держали строго, а Женьку баловали. Он мог без ограничений собирать марки и покупать рыбок. У него, а не у меня, проходили наши детские игры, в частности, в пуговичный футбол; я располагал всего одной командой, а Женька – целой лигой «А», так что мы по всем правилам разыгрывали собственный чемпионат. У Зенкевичей же я впервые смотрел телевизор и слушал магнитофон. Меня совершенно не стеснялись, и поэта-акмеиста я привык видеть в сиреневых кальсонах, а его жену Александру Николаевну, располневшую актрису былых времен («красавицу пленную турчанку», согласно прочитанным в дальнейшем мемуарам Надежды Яковлевны), – в халате. К ней в возрасте лет шести-семи я питал эдиповские чувства, которыми как-то раз поделился с поднявшим меня на смех Женькой.
В квартире было много книг, Михаил Александрович занимался переводами из американской поэзии, но о литературе речи практически не было. Сам М. А. вообще разговаривал мало. Александра Николаевна нигде не работала, проводила много времени на лавочке во дворе и готова была говорить о чем угодно, только не на рискованные литературные темы. Старший сын Зенкевичей, красавец-спортсмен Сергей, выбрал профессию физика-ядерщика и молодым умер от лейкемии. Женька был большим выдумщиком (сказывались писательские гены), окончил в дальнейшем ИнЯз, но словесностью не интересовался. «Канальскими стишками» (как окрестили Мандельштамы верноподданические стихи Зенкевича, напечатанные после поездки писателей на Беломорканал), было оплачено не только благополучие семьи, но и его литературно-самоубийственная изнанка. В результате, о Мандельштаме я узнал не от них, а как все, – прочитав где-то в конце пятидесятых годов машинописное самиздатовское собрание. Но узнав, стал спрашивать.
В ответ на мое проснувшееся любопытство Михаил Александрович однажды изобразил, как Мандельштам с завыванием и озорным выделением похабной клаузулы скандировал строчки из «Зверинца»: Я палочку возьму суХУЮ/, Огонь доБУду из нее,/ Пускай уходит в ночь глуХУЮ/ Мной всполошенное зверье! В другой раз Александра Николаевна рассказала, как Мандельштам приходил занимать деньги.
– Бывало, истратится, придет перехватить десятку. Ну, Михаил Александрович ему дает. Он уходит, смотрим, – тут я ясно представил себе, как, поднявшись по лестнице из подвала, она смотрит вслед Мандельштаму, удаляющемуся вдоль дома и через скверик выходящему на улицу, – смотрим: он уже извозчика берет!
Неожиданная посмертная слава безалаберного Мандельштама задевала Александру Николаевну. В ревнивых тонах говорила она и о Пастернаке. В дни осенней травли 1958 года она возмущалась тем, что его письмо Хрущеву с отказом от Нобелевской премии, опубликованное в «Правде», начиналось словами «Уважаемый Никита Сергеевич!»:
– «Уважаемый»! Попробовал бы он Сталину так написать!
В счет Пастернаку Александра Николаевна ставила также то, как хорошо он устроился в эвакуации в Чистополе, где его можно было видеть разъезжающим в санях с «хозяйкой города» (женой предгорисполкома?).
Сурово обращалась она и с собственным мужем-поэтом. Как-то много позже, наверно, в начале 70-х, я встретил ее в скверике перед домом. Речь зашла об М. А. и выходе его книжки стихов.
– Он хотел мне подарить, но я не взяла. Он включил в нее те стихи, неприличные. Я говорила, чтобы он их не печатал. Он бегал их читать к Маруське Петровых. Вот пусть ей и дарит.
Я не помню, да, кажется, не понял и тогда, в чем состояла суть обвинения: в том ли, что Зенкевич «бегал» к Марии Петровых в эротическом смысле слова; в том ли, что он посвящал ей и читал у нее стихи, будь то любовные или нет; в том ли, наконец, что, ослушиваясь жены, позволял себе сочинять нечто рискованно амурное, неважно кому адресованное. В расспросы я не пустился и даже стихотворение идентифицировать не попытался (в специально просмотренном мной сейчас сборнике 1973-го года ничего даже отдаленно эротического нет). Запомнилось другое.
Меня поразила несвобода литературы от житейских обстоятельств. Ладно там Беломорканал, Воронеж, Гулаг, Жданов, нобелевская травля – на то и диктатура. Понятно и про «страх влияния» – бумаги не хватает, пишешь на чьем-то черновике, какая уж тут свобода?! Но чтобы восьмидесятилетний поэт, так ли, эдак ли проживший сквозь весь подобный опыт, должен был при составлении первой за многие годы самостоятельной книжки оглядываться на жену, – это было настоящим откровением. Слава богу, Зенкевич хоть тут не сплоховал и сориентировался на Маруську.
Несвобода эта очень знакомая. В мемуарных заметках, да и в критических эссе, все время опасаешься, как бы не сказать что-нибудь не то и кого-нибудь не того не так назвать. Особенно много приходится слышать, как нехорошо снижать образы наших кумиров неприглядными деталями. Для острастки обычно призывается Пушкин, сказавший, что великие люди, даже если и мерзки, то, врете, и мерзки-то они не так, как вы, – иначе!
Пожалуй. Но именно поэтому кумирам никакое снижение не страшно. Ну, тратил Мандельштам чужие деньги на извозчика, напевая про палочку суХУЮ, ну, любезничал Пастернак с хозяйкой Чистополя ради поддержания сестры своей жизни, – все это теперь лишь ценные штрихи к портретам великих. Хуже Зенкевичу, о кальсонах которого я упоминаю уже с некоторой морально-этической дрожью (другое дело, если бы я мог пролить новый свет на исподнее Мандельштама или Пастернака), и тем более Александре Николаевне. Какой неблагодарностью отвечаю я на ее квази-материнство и даже некоторое квази-иокастовство, а заслониться ей нечем, разве что знакомством с тем же Мандельштамом. И совсем плохо мне, настолько рядовому, что я не решаюсь выписать здесь тот по-детски нескладный глагол, которым я объяснял Женьке, что бы я мечтал делать с его матерью (ничего, кстати, такого палочного). Не решаюсь, ибо понимаю, что мои скромные персона и стилистика не выдержат его нелепости. То есть, робею еще больше моего канальского соперника.
Очерки бурсы
Школу полагается ненавидеть; у меня этого не было. Я посещал ее охотно и благодарен ей за немногие прочные знания. Проблематичность школьного опыта дошла до меня не сразу.
1. Мальчики
В средних классах литературу преподавал высокий, плотный, в потертом щегольском костюме Алексей Дмитриевич К-ов. Его приветливое, но какое-то голое лицо с большой румяной бородавкой стоит у меня перед глазами. На его уроках требовалось выйти к столу и, руки по швам, бодро рапортовать об образе Онегина или идейном содержании «Муму».
В этом стандартизованном порядке не все, однако, было так уж стандартно. Ал. Дм. становился позади отвечавшего и своим праздничным фальцетом объявлял: «Сейчас мальчик такой-то расскажет нам образ Онегина. Встаньте прямо, мальчик такой-то. – Он брал ученика за плечи, расправлял их, проводил вниз по его рукам, разворачивал его к классу. – Вот так. Ну, теперь отвечайте образ Онегина».
О нем, кажется, ходили соответствующие слухи, но в мое сознание они как-то не проникали. Его любимцем был Володя Дж-дзе, рослый, красивый, старательный. Вызывая Володю, Ал. Дм. исполнял ритуал объятий, замаскированных под уроки выправки, с особой нежностью. «Сейчас мальчик Дж-дзе, – Ал. Дм. смаковал каждый из четырех слогов этой шикарной фамилии, – прочитает нам наизусть стихотворение Лермонтова Смерть поэта». Оглаживая и поворачивая Володю, он добавлял: «Вот какой у нас отличный ученик – мальчик Володя Дж-дзе».
Я был более бесспорным отличником, но на подобное special treatment претендовать не мог. До восьмого класса я был щупл и непрезентабелен. «У тебя только и есть, что чистенькое личико», – вздыхала мама. Впрочем, никаким драматическим унижениям я не подвергался (если не считать позорного поражения в драке – «стыкнемся?!» – с одним из слабейших одноклассников), тем более что имел покровителя в лице пышущего энергией Миши Р-ейна.
На переменах Миша взахлеб пересказывал мне очередные главы из «Трех мушкетеров» и бесконечных лет спустя. Самые яркие места он воспроизводил дословно: «О, женщины! Кто поймет их?! Вот женщина хочет мужчину, и вот она уже не хочет его!! – вскричал Портос и поскакал прочь». Но это не исчерпывало Мишиного напора, и он то и дело хватал меня за грудки со словами: «Ты понял это, маленький уродец? Ведь ты же знаешь, что я все равно тебя убью?!»
Соперничество с Володей Дж-дзе продолжалось до окончания школы, но было напрочь лишено сюжетной остроты. (В итоге оба кончили с золотыми медалями.) Настоящим вызовом моему лидерству стало появление в классе ученика по фамилии Ш-нь. Он был детдомовцем из Белоруссии, жил у дальних родственников и носил всегда одну и ту же серо-зеленую сиротскую одежду с большим красным галстуком поверх курточки. Он шепелявил, походил на Буратино, но назвать его «маленьким уродцем» язык ни у кого бы не повернулся – жестокость далась бы слишком дешево.
Ш-нь тянулся изо всех сил, получал пятерку за пятеркой, я же с аристократической небрежностью позволял себе и четверки. Мама не могла этого слышать. У нее были твердые взгляды на все, в частности на элитарность. «Ты из профессорской семьи, у тебя отдельная комната и стол для занятий, и ты просто не имеешь права учиться хуже того, у кого нет таких условий». Беспризорный Ш-нь в дальнейшем опять куда-то переехал, и соревнование прекратилось, но мамины прецепты остались при мне.
2. Вечно женское
Школа была мужская – образование оставалось раздельным, хотя где-то существовали и смешанные школы. (Когда пришло время записывать меня в школу, мама спросила, в какую я хочу: где одни мальчики или где мальчики и девочки? Где одни девочки, отвечал я.) В старших классах начались совместные вечера с женскими школами, но и в ранние годы интерес к сексу задавался не одним только монастырским гомоэротизмом Алексея Дмитриевича. Волнующее das ewig Weibliche присутствовало; его воплощением была преподавательница начальной школы Анастасия Ивановна.
Она вела не наш, а один из соседних классов, но своей учительницы я не помню, помню только ее. Она была полновата, с большими глазами, дугообразно выщипанными бровями, пробором посередине и симметрично уложенными косами; ее лицо напоминало бабочку. У нее был, как я теперь понимаю, слащавый мещанский выговор. Говорила она размеренно, видимо, стараясь казаться изящнее и интеллигентнее, чем была. Ее с удовольствием слушались.
Она жила в здании школы, у нее был муж-офицер, но школьный фольклор упорно связывал ее то с одним, то с другим из преподавателей, одно время – с приблатненным, похожим на мартышку физкультурником. Кто-то из нас прослышал, что по утренней походке женщины можно определить, чем она занималась ночью, и иногда мы, с риском быть застигнутыми завучем вне класса, дежурили после звонка у лестницы, чтобы подсмотреть, как будет ставить ноги идущая на первый урок Анастасия.
Старшие ребята позволяли себе и более прямые, разумеется чисто словесные, посягновения. «На Асеньке я бы попрыгал», – авторитетно заявлял многократный второгодник Валера З-в. Мне такое в голову не приходило, но облик Анастасии Ивановны ушел на дно моего подсознания, откуда определил, полагаю, не один любовный выбор. Задним числом я бы возложил на нее ответственность за мои скифские вкусы, как на маму – за семитские.
3. Уроки Октября
Верховную власть представлял директор школы Федор Иванович Ш-в, по прозвищу Колобок. Он был лыс, кругл, невысок ростом, и хотя страх быть вызванным к директору традиционно висел над нами, я не припомню особых строгостей с его стороны.
Помню другое. Если заболевал кто-нибудь из учителей и его некому было заменить, на помощь приходил Колобок. Делал он это ровно одним способом. Сославшись на свое былое амплуа историка, он рассказывал, как «на VI съезде партии, летом 1917 года, когда встал вопрос о переходе от мирного периода развития революции к немирному, товарищ Сталин задал троцкисту Преображенскому вопрос:». Каверзный вопрос товарища Сталина выветрился из моей памяти, хотя слушал я каждый раз с удвоенным интересом, потому что товарищ Сталин был жив и боготворим, а сын троцкиста Преображенского под другой фамилией проживал в нашем доме.
Олицетворял власть директор, но настоящий страх внушал не он, а завуч, молчаливая седая женщина в очках, по имени, кажется, Зинаида, отчества не помню. Вообще, я ничего о ней долгое время не помнил, пока где-то в 70-е годы не прочел книгу корреспондента «Нью-Йорк Таймс» в Москве Хедрика Смита «The Russians». В этом поразительно адекватном этнографическом компендиуме нашей туземной жизни целый раздел был посвящен советской школьной системе – на основании опыта собственных детей, специально отданных Смитом в разные московские школы. Мне открылась мрачная картина унифицирующего угнетения юных душ, в которой я не мог не узнать своего вытесненного прошлого. Я вдруг вспомнил два сна, мучивших меня на протяжении многих лет, а потом успешно забытых.
В одном я якобы проболел больше месяца, страшно отстал по алгебре, грядет контрольная, я к ней не готов и просыпаюсь в холодном поту. В другом, времен начальной школы, я должен был после летних каникул явиться в школьную библиотеку и признаться в потере двух книг, взятых на лето, но страх, что библиотекарша отправит меня к завучу, заставлял бесконечно откладывать явку с повинной.
В результате я не помню ни имени-отчества математички, ни отчества завуча, ни какого-нибудь их словечка, ни чьего-нибудь словечка о них, как ничего не помню и об учительнице четырех начальных классов.
Маму помню ясно – тут Фрейд бессилен.
What’s in a name?
У меня было двое друзей-сверстников по имени Феликс. В Америке это не очень солидное имя – так обычно зовут котов (по линии не лат. felix, «счастливый», а англ. feline, «кошачий», в том числе в смысле биологического вида); в России же за ним долгие годы однозначно слышался Дзержинский.
У одного Феликса (Д.) отец действительно, еще со времен ЧК, служил в органах. Судя по рассказам Феликса, он был садистом на работе и дома, и Феликс носил в себе отпечаток этого опыта. Возможно, отсюда его неуживчивость и сравнительно ранняя смерть (на пятом десятке). Но у другого Феликса (Ф.) отец был физик, да и вообще советская ономастика – вещь тонкая, колебавшаяся от года к году вместе с линией партии. Не исключено, что в 37-м Дзержинский мог для кого-то по-эзоповски символизировать не органы как таковые, а их ранний, «чистый», «рыцарский» (в противовес ежовскому) имидж.
(Помню, как в начале перестройки, году в 87-м, у нас на кафедре выступал представитель советского Министерства культуры, некто Генрих Т., по виду и замашкам типичный гэбист, но, так сказать, с человеческим лицом, которое, впрочем, сидело на нем немного криво. Во время доклада он держался со мной, эмигрантом-антисоветчиком, настороженно, но вечером на парти, видимо, решил навести мосты. Мы разговорились. На вопрос, где он так хорошо выучил английский, он ответил, что учился в Рангунском университете. Он явно имел в виду блеснуть мировыми масштабами своего образования, мне же, естественно, бросилась в глаза его принадлежность к выездной прослойке.
– Это в какие же годы? – спросил я.
– В середине 50-х. Ведь мы с вами, наверно, однолетки.
– Я думаю, – сказал я внятно, – что вы минимум на год старше. Я 37-го года рождения.
Намек он, видимо, понял, потому что набиваться в друзья перестал. Действительно, откуда у русопятого и, вероятно, потомственного партработника импортное имя Генрих? Вряд ли от Гейне; скорее все-таки от Ягоды, в 36-м снятого с должности главного чекиста и в дальнейшем расстрелянного.)
Феликс Ф. появился в нашей 50-й школе поздно, классе в восьмом. Он был крупный, внушительный, развитой. Он уже твердо знал, что станет физиком. От него я впервые услышал имена Дирака и Гамова. Мы подружились.
Я был круглым отличником и признанным интеллектуалом номер один нашего класса. Моей популярности способствовало то, что я не был учительским любимчиком, со своими знаниями не высовывался, сидел на последней парте, среди хулиганов и двоечников, и давал списывать. Но с появлением Феликса я стал смотреть ему в рот, сразу признав в нем старшего. Сохранился снимок, где мы сидим на одной парте – задней в среднем ряду.
Старшим Феликс был и потому, что уже летом после 9-го класса, т. е. в 16 с небольшим, имел роман с настоящей женщиной, женой некоего отбывшего за границу дипломата. Феликс по-мужски немногословно поделился этой новостью со мной, совершенно еще невинным юнцом.
Смерть Сталина застала нас в 9-м классе. Ее осмысление, тем более официальное, наступило далеко не сразу, но Феликс каким-то образом, видимо, почуял перемену. Так или иначе, он стал первым встреченным мной в жизни диссидентом. Диссидентом в миниатюре и avant la lettre, но вполне типичным – пострадавшим за литературную деятельность.
В конце учебного года обычно задавалось сочинение на тему «Как я провел майские праздники». Первомай 1953-го был первым после смерти Сталина, и Феликс написал что-то вольное, смешное, весеннее – про то, как валяли дурака на демонстрации и после. Прямой антисоветчины там не было, но крамольным было уже само нарушение канонов этого самого массового из соцреалистических жанров.
Расправа последовала незамедлительно. Инициативу взяла на себя наша классная руководительница, англичанка Лидия Филипповна. Я хорошо помню ее извилистый нос, стервозное лицо и инквизиторские манеры. (Еще с одной подобной доброхоткой-надзирательницей мне пришлось столкнуться в первый же год на филфаке, но это особая история.) Меня она не любила – отчасти, наверно, потому, что английский я знал лучше нее, отчасти потому, что я не входил в круг тайных клевретов, собиравшихся у нее дома выпивать и наушничать.
Феликсу было предложено перед всем классом отречься от своего сочинения, но он продолжал его отстаивать как в худшем случае безобидную шутку. Тогда на него повели массированное идеологическое наступление, наверно, заранее подготовленное Лидией, а впрочем, столь стереотипное, что мысль о специальном сговоре мне тогда в голову не пришла.
Выступил и я. Выступил, мысленно любуясь адвокатской зрелостью своего примирительного рассуждения о том, что, с одной стороны, большого политического греха в сочинении Феликса я не вижу, а с другой – что ему, конечно, следует овладеть элементарными правилами общежития: так, в помещении не принято сидеть в шапке, а в первомайском сочинении – нести дешевую жеребятину.
Но Феликс не покаялся, и на голосование был поставлен вопрос об исключении из комсомола. Это предложение прошло единогласно, т. е. за него спокойненько поднял руку и я! Голосовать против – «против советской власти» – такого я помыслить не мог.
Лишь постепенно я научился стыдиться этого поступка, дал себе слово в сходных ситуациях быть на высоте и в конце концов преуспел в этом настолько, что и сам стал подвергаться единогласным отлучениям. Феликс же на меня тогда не обиделся, как не внял и моим нравоучениям: несмотря на всю искушенность моей проповеди социальной адаптации, в нашей дружбе я оставался младшим партнером. Каким-то образом исключение не помешало ему в следующем году поступить в желанный вуз (инженерно-физический), успешно окончить его и по распределению остаться в Москве, в одном из ядерных институтов.
Однако он и тут уклонился от стандарта – завербовался на метеостанцию где-то на Камчатке. Там он жил совершенно уже джеклондоновской жизнью, охотился, ездил на собаках, выходил в море на байдарке стрелять уток. Один раз он приехал в отпуск, примеривался остаться в Москве, женился, но на следующий год уехал снова. Его там уже так хорошо знали, что пограничники позволили ему выйти в море перед началом шторма, хотя и предупреждали об опасности. Байдарка перевернулась, и на берег его вынесло уже мертвым.
Цинковый гроб с его телом долго в жару ехал с Дальнего Востока поездом. На похоронах я впервые увидел его отца – седого, надломленного, но очень на него похожего и похоже говорившего.
Это произошло, я думаю, летом 1961 года, т. е. нам было по 24. Но он уже успел побывать моим старшим другом, чуть ли не отцовской фигурой (даже погиб он почти так же, как мой родной отец, утонувший, переплывая на байдарке Белое море), успел немного наворожить мне («В своей области ты будешь известным человеком»), а главное – преподать первый урок аутсайдерства. Вопреки советской символике своего имени, он выступил в роли жертвы, а не карателя («железного Феликса»), каковым оказался скорее я, не справившийся с программой, закодированной в моем (Александр – «защитник мужей»). Свою короткую жизнь Феликс, «счастливый», прожил, как хотел.








