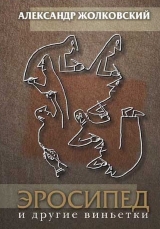
Текст книги "Эросипед и другие виньетки"
Автор книги: Александр Жолковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
Постой, паровоз…
Стажировку в военном лагере после 4-го курса (лето 1958 г.), филологи проходили вместе с журналистами, из которых мне навсегда запомнился вирильный Валера Кузьмин.
Валера был боксер, с мощным торсом, шеей и бицепсами, с маленькими глазками, низким лбом и блатным выражением лица – очки, узкие, в железной оправе, не спасали. Но его блатные манеры и интонации излучали не столько угрозу, сколько обходительность, и венчалось все это пением под гитару, собиравшим вокруг Валеры толпу почитателей, меня в том числе.
Блатные песни уже тогда – до Высоцкого – пелись достаточно широко, неся дозволенную антисоветскую и контркультурную дозу, и Валера был, в своем кругу и масштабе, признанным мастером жанра. От него даже я, лишенный музыкального слуха, кое-чему научился. Может быть, потому, что Валера как-то выделял меня, ища моего интеллектуального союзничества не меньше, чем я его компанейского, силового, витального.
В его репертуаре были такие песни, как «Воровку не заделаешь ты прачкой…», «Вот мчались мы на тройке, х*й догонишь…», «Постой, паровоз, не стучите, вагоны…» (вскоре растиражированная), и университетские частушки, вроде:
Мы Шиллеров и Гетев не читаем, да-да,
Мы этих чуваков не понимаем, да-да.
Раз-другой их почитаем, —
Как зараза, хохотаем, —
Ничего в дугу не понимаем, да-да.
Я от МГУ, а ты от Чили, да-да,
Мы были на приеме у Черчиля, да-да.
У него бостон в полоску
И вобще он парень в доску, —
Где они такого зачепили?
Блатной прононс наводился заунывной назализацией гласных; в унисон с ней постанывали и исконно наличные носовые:
Постой, паровоз, не стучите-мм вагоны-мм,
Кондуктор, нажми на тормоза-мм.
Я к мамыньке родной с последним поклономм
Спешу-мм показаться на глаза-мм.
За недолгий лагерный месяц Валера стал моим кумиром – одним из чреды мужественных покровителей, помощных волшебников, житейских наставников. Он жил, умел жить, обладал заразительным вирусом жизненности.
Как-то в лагере показывали кино. На открытой площадке рядами поставили скамьи для зрителей, а экран натянули, не помню, то ли просто на открытом месте, то ли на сцене типа раковины. Рядов было много, зрителей – сотни и сотни, естественно, одних мужчин в военной форме. Валера просил занять для него место, но долго не появлялся и вынырнул уже из темноты, в самый последний момент – с пальцем, поднесенным к губам (тихо!), и «с бабой»! В лагере, откуда, казалось бы, три года скачи, ни до какой бабы не доскачешь, это было чудо. Посильнее, чем в «Фаусте» Гете, ибо Валера обошелся без помощи Мефистофеля.
Потом в Москве мы иногда сталкивались в университетском садике на Моховой, но постепенно я потерял его из виду. А через год мы вообще окончили, и сталкиваться стало негде. Однако я вспоминал его с нежностью и как-то спросил о нем у общего знакомого.
– Валера? Умер.
– Как умер!? Такой здоровяк!
– От менингита. В 22 года.
…С тех пор прошло столько и еще раз столько; я напеваю его песенки и даже пытаюсь вызвать его дух мемуарной каббалистикой. В общем, как зараза, существую, да-да.
Пусть оно меня и моет
Когда после 2-го, кажется, курса, мы были посланы в колхоз, Юра Щеглов поражал всех полным уходом от цивилизации: не брился, не заботился о мытье, ходил в пиджаке, заправленном в брюки (острили, что получается визитка). На советы, как устроиться с мытьем и проч., он отвечал:
– Меня это совершенно не интересует. Я приехал не по собственной воле. Государство меня сюда привезло, пусть оно меня и моет.
Однажды, много позднее, он в очередной раз стал обвинять государство во всех своих бедах, включая долги знакомым. Я спросил его, каким образом одолжившая ему три рубля сотрудница – государство. Он ответил:
– Почему Нина – государство?! Потому что… потому что государство – это не я!
Другое оригинальное определение он дал в письме из колхоза домой: «… Мы живем хорошо, много сачкуем. Сачкование же есть отдых без отрыва от работы».
Иногда на него нападала экзистенциальная тревога.
– Все так бессмысленно, что неясно, зачем жить.
– Ну как же, вот ты занимаешься поэтикой. У тебя к этому явно талант.
– Ну и что, кому это нужно? Никто моих работ не понимает.
– Почему? Умные люди понимают. Вот даже NN тебя похвалил. Тебя прочтут, оценят.
– Ну, и кому от этого польза, кроме окружающих?
Надо себя показать
Стремление к privacy, к тому, чтобы оградить себя от вторжения извне, было характерно для Юры во все периоды и моменты его жизни. В Ленинской библиотеке его раздражали знакомые, подходившие к нему в фойе поболтать.
– Алик, почему они думают, что я в любую минуту свободен для общения с ними?
– Очевидно, потому, что они видят, что ты вышел отдохнуть.
– Но из чего они заключают, что разговаривать с ними – это отдых?
Особенно раздражали его многочисленные аспирантки, с несчастным видом проводившие все свое время в библиотеке.
– Алик, зачем они взваливают на себя этот груз? Ведь даже мне – мне! – трудно.
Как-то в другой раз он сказал:
– Знаешь, когда я встречаю на улице С., я весь напрягаюсь. Я мобилизую всю свою память, думаю, о чем бы с ним поговорить, что бы такое конспиративное вспомнить.
Оригинальные формы проблема «я и они» приняла в Юриной судьбе на военной стажировке зимой 1959 г. Прибыв в лагерь мы все были распределены по ротам и отделениям, а Юра откомандирован в распоряжение замполита батальона полковника Акимова. Первой задачей, возложенной на Юру полковником, было создание Памятной Книги Батальона. В Книгу должны были заноситься рассказы о лучших людях части. Список этих людей и краткие биографические данные были вручены Юре полковником. От Юры требовалось придать им яркую, увлекательную форму.
Сухая анкета, вроде:
«Иванов Иван Иванович, 1937 г. рожд., служил с 1956 по 1958 г., 2-я пулем. рота, отличник боев. и политич. подг., выступал за батальон на дивизионных соревнованиях по борьбе», под пером Юры Щеглова превращалась в шедевр житийной литературы:
«Невзрачным девятнадцатилетним пареньком пришел Ваня в часть.
– Что это ты, Иваныч, какой щуплый, видать, мало каши ел, – шутили бойцы. – Какой из тебя вояка?!
Ваня ничего на это не отвечал, но упорно работал над собой, повышал боевые и политические знания, занимался спортом. А вскоре, защищая на соревнованиях дивизионных богатырей честь родного батальона, отличник боевой и политической подготовки И. И. Иванов занял призовое второе место. На таких героев, как скромный Ваня Иванов, должны равняться все солдаты и сержанты нашего батальона!»
Когда с житиями было покончено, полковник Акимов бросил Юру на инвентаризацию библиотеки. В ходе инвентаризации нередко применялась операция списывание – таково, в частности, происхождение и сейчас стоящего у меня на полке «Западного сборника» со статьей Эйхенбаума. Но очередное поручение замполита, хотя оно и оставалось в рамках любезных Юре интеллигентных занятий, оказалось выше его сил. Юре было приказано сделать на собрании батальона доклад о происходившем тогда XXI съезде партии.
– Понимаешь, Алик, я в крайнем случае могу прочитать соответствующие материалы и даже написать текст доклада, но выходить с этим к народу мне бы как-то не хотелось.
– Понятно. Но, кстати, традиция подобных докладов вовсе не предполагает совмещения составителя и выступающего в одном лице. Как правило, оратор впервые знакомится с текстом своего доклада уже на трибуне, чем, повидимому, и объясняются многочисленные запинки, оговорки и даже полное незнакомство с некоторыми из зачитываемых слов. Если ты напишешь текст, то за умеренное вознаграждение, например, за банку сгущенки, я готов прочитать его перед публикой с листа.
Так и было сделано. В момент, когда полковник Акимов объявил, что доклад «О значении внеочередного XXI съезда КПСС» сделает курсант Жолковский, я получил от Юры тетрадку с одноименным текстом и, строевым шагом поднявшись на трибуну, честно отбарабанил написанное от начала до конца. После доклада была совместно разъедена банка сгущенки.
Помимо обязанностей историографа, библиотекаря и политического пропагандиста батальона, Юре, как нестроевому интеллектуалу, была поручена и роль редактора стенгазеты. Он любовно рисовал карикатуры, разоблачавшие нарушителей воинской дисциплины, а я сочинял к ним подписи, вроде:
Толстых не любит выбирать:
Увидит наволочку – хвать!
И мигом разорвет в клочки
Себе на подворотнички.
Пусть будет строг наш приговор:
Толстых, ты – просто мелкий вор!
Особенно горд я был изысканной просодией 4-й строки. Со стороны Толстых я опасался агрессивных действий, но ему, как видно, польстило попадание под лошадь – он то и дело подводил к газете приятелей.
У меня до сих пор сохранилась вырезка из батальонной стенгазеты с заметкой на темы батальной жизни – первой нашей совместной публикацией. Вот ее текст:
«НАДО СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
… На днях в комнату шестнадцати стажеров зашел командир части подполковник Дыбля.
– Что-то у вас стало много больных и увечных, – сказал он. – Начали распускаться.
Правильно. Пора уже подтянуться, пора привыкнуть к крепкому горьковскому морозцу. Ведь мы приехали сюда не болеть, а стажироваться на должность командира взвода. Мы должны не сидеть в своей комнате, а быть со взводом в поле, а после обеда находить время для подготовки к политзанятиям.
И еще кое-что. Хотя нас прислали сюда стажироваться на офицеров, это не значит, что нам нечему поучиться у солдат. Как говорится в нашей курсантской поговорке: «Солдатскую лямку не потянешь, хорошим офицером не станешь». И это надо как следует запомнить. Взять, например, заправку коек. Большинство курсантов из рук вон плохо заправляют койки. Этим товарищам не мешало бы подойти к солдатам, поучиться у них.
И тут мы вплотную подходим к большому разговору о культуре. Разве может научить солдат культуре тот офицер, который халатно, кое-как заправляет свою койку?
Денщиков у нас нет!
… Недавно мы все собрались в Ленинской комнате, чтобы поговорить о нашей стажировке. Разговор получился серьезный, взволнованный. Были и такие голоса: «А не придется ли нам слишком трудно? Все ли выдержат тяготы и лишения военной службы»? И тут кто-то очень к месту вспомнил слова полковника Дворкина:
– Студенты любят говорить, что в нужный момент они себя покажут. Я думаю, товарищи, что такой момент наступил. Надо себя показать…
Так и будет!
Стажеры А. Жолковский, Ю. Щеглов»
Фамилии Дыбля и Дворкин – невымышленные, как того и требует документальный жанр. Заметка прошла как будто незамеченной. Но по возвращении на факультет за свое вольное поведение в лагере я поплатился выговором по комсомольской линии с занесением в личное дело. Накануне распределения это практически означало волчий билет. О выговоре постарались друзья-комсомольцы (ныне многие из них – отчаянные демократы). Как мне объяснили тогда же люди более трезвых взглядов, основным двигательным мотивом была зависть ко мне, москвичу с пропиской, комитетчиков из числа иногородних, которым угрожало распределение на периферию. (Одно дело – говорить о поднятии целины и подъеме национальных литератур, другое – прямо туда и уехать на работу.)
Папа и Юра
1. «Что, ты не знаешь моего характера?»
Однажды в эвакуации, в Свердловске, когда мне было лет пять, папа должен был срочно уйти и оставить меня одного. Я не отпускал его, боясь грифона – четырехлапой нитяной фигурки, сплетенной в подарок ему кем-то из учениц. Страх держался на легендах, выдуманных, чтобы предохранить сувенир от моих посягательств. Не отменяя действия мифологем, папа тут же объяснил, как мне, в свою очередь, защититься от грифона – магической формулой: «Мы никого не боимся! Мы не боимся зверей!» Уже из-за двери он услышал, как я дрожащим голосом начал выводить: «Мы-ы-ы… нико-во-о… не боимся-а-а…» А вернувшись, застал меня лихо кувыркающимся на кровати и дерзко скандирующим: «Мы! никого! не боимся!! Мы!! не боимся!! зверей!!!»
Это был лишь один из преподанных им уроков сопротивления ужасам силами искусства. В те же годы у меня страшно нарывал палец (средний ноготь на правой руке так и остался утолщенным); папа ночами сидел со мной, импровизируя бесконечную стихотворную сагу с вариациями на актуальные темы. Помню строчки: Орел высоко в небо поднялся./ Вдруг видит: там висит большая колбаса. «Колбасами» назывались аэростаты воздушного заграждения, и их игрушечная съедобность была тоже призвана на помощь.
В страхах папа понимал. В детстве, в «мирное время» до Первой мировой, на пляже в Сопоте (тогда – в Восточной Пруссии) бонна бросила его в воду, чтобы он научился плавать, хотя мама пообещала ему, что этого не будет. Он захлебнулся, на всю жизнь стал заикой, а главное, навсегда сохранил болезненное доверие/недоверие к слову, обещанию, договору, порядку, власти.
Дальнейшая жизнь и особенно власть не подвели. К тридцати пяти годам он уже пережил мировую войну, революцию, гражданскую войну, частичную потерю слуха (отосклероз), препоны для непролетарского элемента при поступлении в вуз, аресты друзей и родственников (некоторых – в его присутствии), еврейский ужас перед приходом немцев, гибель любимого брата в ополчении под Москвой, хаос эвакуации (его тогдашние письма к маме дышат готовностью к смерти). Свердловск был еще сравнительно тихой гаванью. Предстояли кампании против формализма и космополитизма, изгнание из Консерватории и дальнейшие «госстрахи», превратившие его в сорок с небольшим в ипохондрика, боявшегося сквозняков и лишней десятой на градуснике, хотя я еще помню его в первые послевоенные годы любителем далеких лесных прогулок в белых парусиновых туфлях и рубашке «апаш».
Через все эти революции он, как говорится у Зощенко, сохранился. Окончил два вуза, стал, несмотря на заикание и глухоту, блестящим лектором и знаменитым музыковедом (у него или по нему практически «все» учились), не покаялся во время ждановских проработок, прожил, несмотря на тонны принятых лекарств, до 93-х лет и все это время оставался для окружающих воплощением юмора, житейской мудрости и профессиональной этики. Секрет? Четкая до маниакальности дисциплина: пунктуальность (папа родился, как и Кант, в Кенигсберге, и по нему тоже можно было проверять часы), организованность, корректность, соблюдение всех возможных правил – как разумных, так и просто действительных (это уже Гегель), инструкций, постановлений и предписаний врачей (включая ежедневную зарядку). Оборотная сторона: требование пунктуальности и буквального выполнения обещаний от других и страх, страх, страх – боязнь малейших отклонений от порядка, будь то спущенного сверху или установленного им самим. Отчитывая зависевших от него людей, в частности, меня, за нарушение слова, он страдал не меньше их, ибо, вымещая на них первичную травму, нанесенную матерью и щедро подкрепленную советской властью, тоже слабо державшей обещания, он отчаянно пытался вернуть слову надежность. Значительная часть комплекса по эстафете передалась мне.
Так что все это было до боли знакомо, когда, занявшись Зощенко, я обнаружил у него во многом те же страхи и те же рецепты. Я сказал папе, что пишу Зощенко с него. Помню, как он узнающе кивал, читая воспоминания вдовы о предсмертных страхах Зощенко по поводу оформления пенсии и его коронном аргументе: «Что, ты не знаешь моего характера? Разве я смогу быть спокоен, пока не выясню все?»
Когда моя книга о Зощенко вышла, я подарил ее папе с посвящением, в котором благодарил за многое и среди прочего за работу натурщиком. Книга ему понравилась, а надпись нет. Выяснилось это через год. В мой очередной приезд в Москву папа, сказав, что у него ко мне серьезная просьба, попросил выделить ему другой экземпляр и сделать на нем, не помню точно его слов, но в общем, нормальную, приличную надпись. Кажется, он аргументировал это желанием показывать книгу знакомым. Я пытался возражать, но, увидев, что он серьезно задет, уступил – написал что-то обтекаемое.
Его настояние на изготовлении обезличенного, формально корректного документа даже в таком интимном деле поразило меня. Диспропорция была такая же, как когда однажды по телефону через океан он сказал мне, что есть крупная неприятность. Я встревожился. Оказалось, Б. Сарнов в интервью «Известиям» пожаловался на мое ахматоборчество. Я успокоил папу, что с работы меня за это не снимут, и попросил впредь не называть крупными неприятностями ничего, кроме ухудшений его здоровья.
Приучившись с некоторых пор примерять все к себе, я, конечно, понимаю, что фигурировать в качестве оригинала не очень лестного портрета может быть неприятно. Когда Юра Щеглов двадцатью годами раньше работал над своим описанием Зощенко, он дал понять, что такую черту зощенковского персонажа, как «неспособность ответить на культурный вызов», он знает по мне. Я огорчился, но предпочел принять это как полезную критику. Юра, со своей стороны, не посыпал мне соль на раны в своих посвящениях, и никакой травмы вроде не образовалось.
Но что если это лишь защитный рефлекс, а на самом деле вся моя работа над реинтерпретацией Зощенко – заменой культурологического прочтения экзистенциальным, сфокусированным на страхах, – диктовалась не чем иным, как подспудным желанием избавиться от травмы, переведя разговор с себя на папу?!
2. «Кому интересно, тому не скучно»
Познакомленные мной, они прониклись взаимной симпатией – до какой-то степени через мою голову и как бы вопреки мне.
Папа услышал о Юре, когда я вернулся с предварительного собрания своей будущей университетской группы (август 1954 г.). Я описал участников и рассказал, что на вопрос классной «агитаторши», как кто готовился к началу занятий, один студент, Юра Щеглов, ответил слегка расслабленным голосом, что «перечитал поэтов – Тютчева, Фета…». Всего полтора года спустя после смерти Сталина открытое признание в интересе к подобным авторам было поступком необычным, можно даже сказать, смелым, с налетом диссидентства, и, ориентируясь на это и на иронически переданную мной Юрину домашне-мечтательную и уж совершенно не комсомольскую интонацию, папа, в тон мне повторив: «Тютчева, Фета…», сказал, что Юра Щеглов, наверно, очень умный мальчик и мне следует с ним подружиться.
Так что нашей пожизненной связью мы отчасти обязаны папе.
Юра папу тоже оценил, и прежде всего как эталон Профессора. Когда для публикации первой научной работы ему потребовался отзыв, он обратился к папе. Статья шла в только что основанную серию структурно-типологических исследований Института славяноведения, и в соответствии с ренессансным духом эпохи отзыв мог быть и не от узкого специалиста. Папе статья понравилась, и он охотно написал положительный отзыв, но с оглядкой на собственный литературоведческий непрофессионализм аттестовал статью как «во многом блестящую».
Юные остряки, мы тут же подхватили эту аптекарскую формулу, стыдя и смеша папу, и она навсегда вошла в наш иронический словарь. Папа не ударил лицом в грязь и припомнил установочное высказывание завкафедрой марксизма-ленинизма Института военных дирижеров (где коротал годы изгнания из Московской консерватории за космополитизм, 1949–1954) о неудовлетворительности констатации им, професором Мазелем, приоритета русской музыкальной науки в ряде вопросов: «Приоритет в ряде вопросов – не приоритет. Приоритет есть приоритет».
К папе Юра относился с подчеркнутым почтением, меня же любил прорабатывать, в частности за «неинтеллигентность». Какую-то роль в этом играл мой реальный облик, какую-то – общее Юрино недоверие к окружающим, но не последнюю, мне хочется думать, – очевидные риторические выгоды образа неинтеллигентного отпрыска профессорской семьи.
Папа тоже был не прочь прибегнуть в спорах со мной к Юриной поддержке. Он любил сочинять поздравительные стишки, с не всегда удачными претензиями на блеск, вообще-то – в разговорах и устных новеллах – ему присущий. Когда я пренебрежительно отозвался об очередном таком опусе, папа апеллировал к Юре. Юра стихи одобрил.
– Да? А вот Аля считает, что они никуда не годятся. Как же так?
– Ну что ж, Лев Абрамович, нельзя отрицать, что стихи м-м так сказать м-м в традиционном стиле…
Эта формулировка была встречена общим смехом и в дальнейшем всеми троими взята на вооружение.
Сходную дипломатичность Юра продемонстрировал уже в 90-е годы, когда начальственный коллега спросил о впечатлении от его малооригинального доклада. Я навострил уши.
– Должен сказать, – с готовностью откликнулся Юра, – что согласен буквально с каждым вашим словом.
Кстати, оказавшись в связи с этой конференцией в Москве, Юра зашел повидаться с папой и принес черновик статьи, которую намеревался ему посвятить, на что испрашивал разрешения. Папа прочел, согласие дал, но о статье отозвался сдержанно. Юра был разочарован и попросил меня уточнить папины впечатления, в частности спросить, не скучна ли статья, и обратить внимание на сходство с его собственными работами.
Папа ответил, что сходство он заметил и оно было ему скорее неприятно. Что же касается скучности, то… нет, наверно, тому, кому это интересно, тому не скучно. Юра огорчился, но оценил горькую профессиональную мудрость обоих соображений. Статья, с посвящением Льву Абрамовичу Мазелю, вышла, и папа успел получить оттиск. А после папиной смерти (2000 г.) Юра написал мне, что на меня ложится долг сохранения памяти о нем.
Вот – в меру интеллигентности – первые крупицы.








