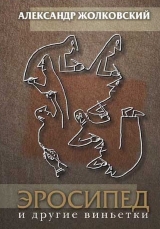
Текст книги "Эросипед и другие виньетки"
Автор книги: Александр Жолковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)
Александр Жолковский
Эросипед и другие виньетки
1. Детство, отрочество, университеты
Эросипед
Одним из моих устойчивых ранних впечатлений была фигура велосипедистки, проносившейся по пустынным улицам послевоенной Москвы, в частности, в районе, где я жил. Это была стройная черноволосая девушка, одетая в соответствующий спортивный, вероятно, импортный костюм, с интеллигентным, несколько смуглым лицом и живыми глазами навыкате, как я теперь понимаю, еврейка (в лице которой, опять-таки задним числом, мне видится сходство с мамой). Я ни разу не молвил с ней ни слова, хотя потом мы пересекались в Доме Ученых и, кажется, в Консерватории; я запомнил ее мчащейся по Кропоткинской (ныне опять Пречистенке) на своем полугоночном велосипеде. Не знаю, почему, я решил, что она дочка академика, и даже мысленно определил, безо всяких к тому оснований, какого именно (Р.). Тут действовала скорее логика сна и мифообразования, нежели здравого смысла. Никакого продолжения у этого сюжета не было – он остался лишь общим прологом к дальнейшему.
В мою собственную жизнь велосипед вошел (если не считать трехколесного, видного на довоенных снимках) летом 1951 года, перед восьмым классом и четырнадцатилетием. С тех пор с ним было связано так много, что всю мою биографию легко представить исключительно в велосипедном разрезе. Я ездил на велосипеде по Москве и Подмосковью, из Москвы в Ярославль и обратно, по Вене, Амстердаму, Итаке, Нью-Йорку, Принстону, Монтерею, Лос-Анджелесу, вдоль Санта-Моникского залива, по одному островку в Бретани, на котором запрещен автомобильный транспорт, и снова по Москве. Ездил днем и ночью, по делам, на заседания, в магазины, ради спорта и в романических целях. Я падал на велосипеде с моста в воду, пару раз был сбит машиной, однажды в пьяном виде в новогоднюю ночь (1965-го года) поскользнулся на велосипеде на рыхлом снегу около Маяковки и сломал ключицу, а несколько лет назад в Москве упал с тяжелым грузом книг и повредил руку. Велосипеды у меня крали (как-то раз я и сам купил подозрительно дешевый, видимо, краденый, и его потом тоже уперли), они ломались, сменялись – русские, японские, европейские, американские, дорожные, спортивные, горные; не было, пожалуй, только тандема.
Дачная езда на велосипеде (синем, дорожном, марки ЗИС) ознаменовала некоторое мое повзросление, но должна была укладываться в жесткие рамки родительских требований. Возвращаться, в том числе со свидания, надо было к определенному, довольно раннему часу. Мотивировались эти строгости, разумеется, волнениями родителей за меня. Главнобеспокоящимся была мама; впрочем, папа, более либеральный, но и более педантичный, держал ту же линию. Однажды у нас с ним произошел характерный конфликт на этой почве.
Мы жили на даче в Челюскинской, я вечером поехал кататься, пообещав вернуться в условленное время. Но в самой дальней точке маршрута, по другую сторону железной дороги, у меня что-то сломалось, я долго возился, наконец, кое-как починил и, в конце концов, с большим опозданием в полной темноте добрался до дачи. Папа стал неприятным тоном меня отчитывать – за нарушение слова и причиненное беспокойство. Несправедливость этого выговора меня возмутила – может быть, потому, что обнажила садистскую подоплеку всех подобных строгостей. Я ответил, что не вижу оснований для недовольства, наоборот, все получилось правильно. Он беспокоился, как бы со мной чего не случилось, – так вот именно это и произошло, со мной именно случилось, и таким образом его беспокойство и ожидание не пропали даром. Какое-то либерализующее действие эта аргументация тогда возымела, но в общем-то я и сейчас, в шестидесятилетнем с лишним возрасте, продолжаю держать перед папой нескончаемый экзамен по пунктуальности – межконтинентальных звонков и московских возвращений в квартиру, будь то пешеходных, велосипедных или таксомоторных.
А вот сравнительно недавняя история. Написав полупародийный разбор одной эротической пословицы, я послал его своему ньюйоркскому коллеге М. Я. Тот прочел и, смеясь, сказал, что статья напоминает ему меня самого. Я смущенно спросил, чем же именно – имеет ли он в виду что-то из сексуальной сферы. Нет, сказал он, не из сексуальной, а из велосипедной: она написана так, как я ездил у них на велике весной 1993-го года.
Вспомнить о своем личном рекорде было приятно. Я тогда прилетел в Нью-Йорк поработать с М. над нашей совместной книгой. У них была двухкомнатная квартирка в Гринвич Вилледж. Мы работали целыми днями, а ночевал я то у них, то у других знакомых, на противоположном конце Манхэттена, около Колумбийского университета. Курсировал между двумя квартирами я на велосипеде; это больше сотни кварталов.
Когда в работе с М. наступал перерыв, я брал стоявший в передней велосипед и пытался объехать на нем журнальный столик в гостиной. Сначала я не успевал развернуться, задевал за мебель и с позором соскакивал посреди комнаты. Но терпенье и труд все перетрут – наступил день, когда я стал свободно въезжать в гостиную, огибать столик, выруливать обратно в переднюю и даже заворачивать в спальню!
М. сочетает добродушие со злоязычием. Как-то раз, когда я стал восхищаться его умением отыскивать в букинистических магазинах редкие книги, да еще и по дешевке, он сказал, что у каждого свои пристрастия-дарования, вот, например, у меня – к велосипеду. Поэтому не исключено, что и уподобление моих дискурсивных пируэтов велосипедным задумано было как ядовитая ирония. Но я принял его как комплимент. Тем более, что, на мой взгляд, велосипед – с его рамой и твердо надутыми шинами, с посадкой в седле, руками на руле, ножной моторикой и общей телесной эквилибристикой – действительно очень сексуален. Написать про эрос на хорошем велосипедном уровне – не хухры-мухры.
Windows в Европу
Интерес к новому уживается у меня с консерватизмом. Тут много личного, но есть и общероссийское. Об этом хорошо размышлять на опыте смены стран, специальностей, интеллектуальных ориентиров, друзей, жен и других, выражаясь современным метаязыком, significant others. Но ограничусь эволюцией своих орудий письма.
В школе (1944–1954) мы писали ручками со вставными перьями. Вспоминаются: официально рекомендованное перо No. 86 (увековеченное в «Двенадцати стульях», где его гигантская модель оставляет след на спине Остапа Бендера); слегка нонконформистская, с мягким, загнутым кверху кончиком, «лягушка»; и какое-то «рондо», которым, кажется, писала мама. Авторучки («самописки») усиленно запрещались, как вредная для почерка роскошь. Еще более решительная война велась школьным истеблишментом против появившихся своим чередом шариковых ручек. Зато среди приблатненных модников принято было ношение на внешнем кармане возможно большего числа самописок, золотые держатели которых («ручейки») престижно сверкали.
Я долго держался «лягушек», со временем перешел на самописки и шариковые, но почерк у меня на всех этапах был неважный. Всерьез его негодность сказалась, когда я стал отдавать в перепечатку свои сочинения, вызывая нарекания машинисток. Начало этого периода, связанного с Лабораторией Машинного Перевода (1959–1974), в первый же день ознаменовалось выделением мне особого рабочего места – письменного стола с выдвижными ящиками и принадлежностями для письма: пачкой бумаги, карандашом, ластиком и шариковой ручкой. Помню радостное ощущение собственной профессиональной ценности, вызванное этими атрибутами признания со стороны административно-хозяйственной части Института.
Их символичность станет понятной, если учесть, что к ним более или менее сводилась материальная база Лаборатории. В ответ на просьбы иностранных визитеров показать компьютеры, пышно именовавшиеся электронно-вычислительными машинами (ЭВМ), наш шеф В. Ю. Розенцвейг молча закатывал глаза к небу, позволяя догадываться, что на такое рассекречение отечественной электроники высшие инстанции не пойдут. Ознакомившись, в ходе срочной ликвидации своей кибернетической безграмотности, с понятием «машины Тьюринга», мы острили, что работаем именно на этом идеальном устройстве. Единственным реальным автоматом, с которым мне (как никак, старшему инженеру Лаборатории – другой должности для меня в штатном расписании не нашли) приходилось иметь дело, долгое время оставалась выданная администрацией авторучка.
Тогда шли разговоры, с одной стороны, о моделировании различных языковых уровней (морфологического, синтаксического, семантического), а с другой, – о создании особых ЭВМ для машинного перевода. Я предложил взять патент на специализированную машину перевода с молдавского на румынский, действующую на основе алфавитной модели – наклеивания на клавиши латинской машинки русских букв. Перевод, причем безупречный (если угодно, трансляция из Третьего Рима обратно в Первый, ведь «румынский» это этимологически не что иное, как «римский»), осуществлялся бы на вполне осязаемом агрегате.
Между тем, претензии к моему почерку требовали практического решения, и им стало овладение машинописью. У папиной тети нашлась старая портативная машинка, и теперь машинисткам я отдавал текст, вчерне уже напечатанный. Но оставалась проблема латиницы. И тут в мою жизнь вошел предмет, буквально материализовавший чисто платоновскую до тех пор идею пишущей машинки Тьюринга.
Андрей Зализняк связал меня с уникальным мастером (по фамилии Курчев), который за умеренную плату творил небольшое чудо. Покупая у ветеранов ВОВ и их наследников трофейные машинки Mercedes, из двух латинских он сооружал одну двухалфавитную. Он вырезал каретки из корпуса; на молоточки одной наплавлял русский шрифт (а на клавиши наклеивал русские буквы); и с помощью специальных штифтов делал каретки съемными, причем так, что перестановка не сбивала строки. Потренировавшись, я довел время смены каретки до рекордных 37 секунд.
На курчевской машинке я проработал полтора десятка лет, вплоть до эмиграции (1979). Готовясь к отъезду, я решил взять ее с собой. Я, конечно, знал, что на Западе, да и у моих наиболее продвинутых машинисток, были IBM-овские электрические машинки со сменными шариками – наборами разноязычных шрифтов. Но неизвестно было, когда еще на неведомом Западе я смогу позволить себе подобную роскошь, да я и побаивался этих электротехнических агрегатов. А привычное и надежное изделие русского умельца давало шансы какое-то время продержаться.
Вызванный напоследок отрегулировать машинку, Курчев удивил меня. Он отказался взять деньги. «Вам нужнее», – повторял он, и я отступился, хотя как раз деньги, мало подлежавшие вывозу, у меня были. Я почувствовал, что, преподнося мне в дар этот прощальный сервис, он символически присоединяется к моему отъезду, возможно, надеясь, что в заветной лире созданного им западно-восточного гибрида его душа отчасти убежит советского тления.
В Итаку машинка после долгих странствий прибыла помятой и потребовала дорогостоящего ремонта, каковой, впрочем, оказался мне по карману. Более или менее за те же деньги можно было бы купить новую электрическую с шариками, но я сохранил верность доброй старой мерседесовской. В ответ она честно служила мне на Восточном берегу и последовала за мной на Западный (1983), хотя еще в Корнелле официально обрела музейный статус, когда единственная в Америке компания, производившая ручные машинки, объявила о прекращении их выпуска.
Не вдаваясь в психоанализ своего упрямства, отмечу эмблематичность этого симбиоза человека и машины. Трудно вообразить более наглядное выражение – нежели мой вдвойне коллекционный, одновременно антикварный и уникально модернизированный аппарат, – для комплекса противоречий, уживающихся в новоявленном американце, который бойко, хотя и с неистребимым русским акцентом, разглагольствуя по-английски, рекламирует на постмодерном западном рынке свой советский структурно-семиотический товар.
Году в 1986-м, подталкиваемый приятелем – энтузиастом новой техники, я купил свой первый компьютер и редакторскую систему Academic Font, изобретенную неким калифорнийским компьютерщиком-славистом. Расстался я с ней – в пользу WordPerfect’а – лишь через десяток лет, под давлением окружающей среды, причем этот переход затянулся до момента, когда впору было уже подумать о Windows. С ними я тоже долго упрямился, лелея надежду переждать их, чтобы потом перескочить прямо в то, что придет им на смену. В конце концов, сколько революций – политических и технических – может вынести один человек?!
Апология собственной косности была и на этот раз примерно та же: сила привычки, неподъемность кириллицы, убеждение, что отличное злейший враг хо-рошего. На новизну работали мощные факторы, но я упорно держался прошлого и невольно смешил коллег, говоря: «I don’t do windows» (оказалось, что это стан-дартная фраза наемных уборщиц, означающая, что мытье окон в их обязанности не входит). Неожиданную солидарность в своем цеплянии за DOS я встретил у Ирины Паперно, оснащенность научных работ которой новейшим интеллектуаль-ным арсеналом сомнению не подлежала. Мы морально поддерживали друг друга по телефону, сетуя на ненужные технические новшества и делясь домашними ре-цептами их обхода.
На Windows я перешел, но, так сказать, одной ногой. В кабинете у меня стоит старенький DOS-овский компьютер без Windows и электронной почты, который я уже скоро год, как не выключаю из сети, – с тех пор, как он однажды долго отказывался заработать. На другом столе располагается компьютер средних лет, в котором целиком скопировано содержимое его соседа и вдобавок имеется MS-Word и система перекодировки на него с DOS-а. А в другой комнате целый угол занимает новая система, где есть все – и Windows, и e-mail, и выход в Интернет, и специальный драйв для фильмов (DVD), и цветной принтер, и сканнер с системой распознавания текстов на многих языках. Скопировано туда и все мое DOS-овское богатство. Хотя дни DOS’а сочтены, эти строки я пишу на самом древнем своем компьютере без окон, без дверей. А за моей спиной, на полу около камина, так сказать, на запасном пути, стоит Mercedes со сменной кареткой – давно не пускавшееся в ход, старое, но, в принципе, грозное оружие. Недавно, работая над статьей, я по телефону изложил ее замысел Ире Паперно. Она спросила:
– И это все?
В ответ на ее недоумение я пустился объяснять, что многое еще предстоит сделать, развить, в статье, по-видимому, будет то-то и то-то, в концептуальном же плане, в общем, да, все, а чего вам, собственно, не хватает?
– Как? Без субверсии, деконструкции, демифологизации? – Она явно намекала на мои ахматоборческие работы. – Простой структурализм?
– А-а, да. Структурализм от сохи. Так сказать, статья на DOS’е.
Ира с удовольствием повторила эту формулировку и потом несколько раз мне ее напоминала.
А что, в нашей науке всегда есть место дедовским способам. Я много раз убеждался, что в любую самую изученную область, где, казалось бы, не протолкнешься, достаточно просунуть руку, чтобы поднять с полу что-нибудь никем не замеченное, хотя и давно лежащее на виду. Примерно так же думал я и смолоду. Но тогда я полагал, что подобные дерзости осуществимы исключительно с помощью новых, структурных методов. А с течением лет я пришел к мысли, что методы годятся всякие – не исключая и устаревших тем временем структурных. И в случае успеха, все равно, рапортовать ли о нем на Windows, DOS’е или Mercedes’е.
Котлеты моей мамы
Консерватизм психологически понятен еще и потому, что нашим прошлым является детство, сохраняющее притягательность, даже если проходило оно не в лучших условиях.
Два года моего детства – от четырех до шести – пришлись на эвакуацию. Мы жили сначала в совхозе под Свердловском, а потом в самом городе, на ВИЗе, т. е. в поселке Верхне-Исетского Завода. Папа работал в Свердловской и переведенной на Урал Киевской Консерватории, так что мы не голодали. Все же питались мы (папа, мама, папина мама и я) много скромнее, чем раньше; часто ужин состоял из картофельного блина, крест-накрест разрезанного на четыре части.
Последствия такой диеты для моего здоровья были самые благотворные – я излечился от мучившего меня в Москве диатеза, против которого были бессильны (или который вызывали?) бесконечно испытывавшиеся врачами комбинации соков, фруктов, бульонов и т. п. У меня развился бешеный аппетит (сохранившийся по сей день), и меня ставили в пример капризной малоежке Наде из другой музыкальной семьи, жившей в совхозе в той же избе, что наша и еще две эвакуированных. Роль образцового пай-мальчика неблагодарна, и понятно, что Надя должна была меня возненавидеть. Во всяком случае, именно так я предпочитаю объяснять себе оскорбительное равнодушие, проявленное ею к моим воздыханиям, когда восемью годами позже мы оказались в одном и том же пионерском лагере Союза Композиторов.
Интересно, что и на этот раз причиной моей отправки «в люди» послужили исторические события: папа был уволен из Консерватории в ходе кампании против «космополитизма» (1949 г.), и об отдыхе в композиторском Доме Творчества где-нибудь в Карелии или на Рижском взморье пришлось на некоторое время забыть. К удивлению родителей, я был в восторге от лагерной жизни и охотно остался на второй месяц. Помню, как ужаснули маму (из Москвы вызвавшую меня к телефону в кабинет директора, чтобы обсудить вопрос о второй смене) мои слова, что «добавки дают вволю». Она решила, что нас держат впроголодь.
Так или иначе, мой аппетит, а с ним и здоровая неприхотливость в пище остались при мне. Впрочем, неприхотливость не то слово. Вернее будет сказать – требовательная приверженность к привычному минимуму: хлебу с маслом, котлетам с картошкой, чаю с сахаром.
Мама готовила не очень хорошо, да и мало этим интересовалась. По возвращении из эвакуации, а тем более после войны, благосостояние семьи поправилось. Появились и часто сменялись домработницы, готовившие кто как. Особенно запомнилась одна довольно старая и неаппетитная женщина по имени Анна Максимовна Гилинис. Она поступила к нам по рекомендации, после смерти некого генерала, у которого долго служила сиделкой. Готовила она невкусно (при генерале ее функция состояла в том, чтобы развлекать его разговорами), в супе попадались и волосы, зато, подавая папе очередное блюдо, она приговаривала на полушепоте нечто совершенно доисторическое, откуда-то чуть ли не из Островского: «Кюшшяйте, кюшшяйте, Ваше превсс-дит-сство!»
Эта овеянная стариной формула всегда интриговала меня. Прикинув, что в 1950-м году Анне Максимовне было около шестидесяти, было нетрудно вычислить, что она вполне могла успеть до революции побывать в прислугах у какого-нибудь царского генерала или чиновника. Задуматься заставляла, однако, сохранность подобных старорежимных замашек несколько советских десятилетий спустя, наводившая на невероятную догадку, что величание «превосходительством» принято было и у одра советского военачальника. Кто знает, может быть, эта архаичность речи и обеспечила Анне Максимовне взятие на разговорную должность сиделки?! Наконец, не исключена была и возможность, что заставивший уважать себя генерал сам сохранился с царских времен, и таким образом перерыва в употреблении архиконсервативной формулы вообще не наступало.
Мама умерла, когда мне было 17 лет; с женами же мне определенно повезло – почти все они готовили вкусно, а некоторые просто замечательно. Одна из них делала это, правда, лишь по большим оказиям, зато с бесспорным искусством, являя фигуру поистине редкой хозяйки. Другая была настоящей энтузиасткой и мастерицей кулинарного дела, и ее тем более задевал мой отказ похвалить ее котлеты. Приготовленные каждый раз по новым рецептам, они никак не могли дотянуть до эталона, заданного когда-то мамой и свято хранившегося в моей внутренней палате мер и весов. Но Таня не смирялась с поражением и продолжала борьбу.
Как-то у нас была ее подруга, мы сидели на кухне, и Таня пожаловалась:
– Вот, стараюсь изо всех сил, но, конечно, опять не выйдут эти загадочные «котлеты его мамы»! То получаются слишком пышные, то слишком нежные, ума не приложу.
Подруга отреагировала неожиданно:
– Котлеты его мамы? Да ты подумай, когда она их делала! Небось, в эвакуации. Положи 90 % черняшки и все. Подумаешь, котлеты его мамы!
С ходу бухнуть столько хлеба рука у Тани не поднялась, но какую-то поправку в указанном направлении она сделала, результатом чего было заметное приближение к идеалу, и вскоре задача изготовления котлет моей мамы была решена полностью и окончательно.
Вызванный однажды из глубин прошлого и закрепленный с тех пор в нарративе, рецепт маминых котлет обеспечивает им вечное возвращение. Жены приходят и уходят, а котлеты остаются.








