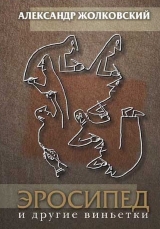
Текст книги "Эросипед и другие виньетки"
Автор книги: Александр Жолковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
Да был ли Освенцим-то?
Одна эмигрантка, живущая в Бостоне, очень страдала от наездов бесчисленных российских родственников ее мужа (оба евреи). Однажды она нашла наконец адекватное выражение для своих чувств:
– В чем дело с твоими родственниками?
– А что?
– Впечатление такое, будто ни Освенцима не было, ни Бабьего Яра…
Я долго восхищался этой фразой, полагая ее уникальной. Потом встретил нечто подобное у Шолома Алейхема. В «Блуждающих звездах» один персонаж говорит другому – настырному жулику: «Где вы были во время холеры?» Так что острота выдержана в классическом еврейском духе. Блеск же ее если и не абсолютно уникален, то тем более эффектен, ибо садомазохистски инкорпорирует еще и теорию о вымышленности Катастрофы.
Как ни садитесь…
Солженицынский заголовок «Как нам обустроить Россию» очень красноречив. О нем наверняка писалось, но за всем не уследишь.
Общая колодка – ленинская: «Как нам реорганизовать Рабкрин». (Солженицын 1918 года рождения, ходил в советскую школу с середины 20-х до середины 30-х, потом учился в советских вузах, в том числе в ИФЛИ.) Но марксистское, административно-западническое «реорганизовать» ему теперешнему, конечно, не в жилу, и он заменяет его исконным по духу «обустроить», а отталкивающую аббревиатуру «Рабкрин» – Россией.
Но, как и «Рабкрин», «обустроить» – несуществующее слово, неологизм (ни у Ушакова, ни у Даля, ни в 17-томном Академическом его нет), точнее – типичный солженицынский неоархаизм. Немного нескладный, самодельный, но, в общем, понятный. В нем слышится что-то бедняцкое, зэковское. Представляется какое-то затыкание дыр старой ветошью – «скромно, но просто» (Зощенко), и не дует.
Действительно, несмотря на двухэтажную приставку, «обустройство» явно имеет в виду обойтись минимальными наличными средствами, как само это слово обходится чисто русским языковым материалом, не прибегая к иностранному. Обернуться имеющимся – с той же нехитрой солдатской обстоятельностью, с какой нога обертывается портянкой.
Действительно, обустроить – не перестраивать. Обустройство предполагает, что обстановкой уже обзавелись, остается только обшить стены досками, обнести двор частоколом – и все образуется.
Я недаром нажимаю на приставку «об» – в ней (особенно рядом с «нам») отчетливо звучит общинное, округлое, самодостаточное, каратаевское начало, желание огородиться от посторонних. Справить обутку, обиходить деток, в тесноте, да не в обиде, с миру по нитке – бедному рубашка, по одежке протягивай ножки.
Это та же нарочито русская утопия, что в ильфовском: «Съел тельное, надел исподнее и поехал в ночное», только еще посконнее и безнадежнее. Перефразируя Радека: «Обустроить Россию можно, но жить в ней будет нельзя». Вспоминается также черномырдинско-жванецкое: «Хотели как лучше, а вышло как всегда», и пушкинское: «Боже, как грустна наша Россия!..»
О редакторах
… а то, выходит, что я не столько писатель, сколько редактор – то есть окололитературный человек.
К. Чуковский.
Мои отношения с редакторами, в общем, всегда оставляли желать лучшего. Как шестидесятник, я был склонен винить так называемую Систему и тех, кто ей слишком охотно соответствовал или недостаточно твердо противостоял. Но как честный офицер, я самокритично старался обуздывать свое авторское и гражданское самолюбие и идти на конструктивные компромиссы. Неловко признаваться в затянувшейся наивности, но лишь в достаточно зрелом возрасте, напечатав около десятка тысяч страниц, я начал догадываться, что дело тут не столько в Системе и человеческих недостатках – редакторов и моих собственных, – сколько в природе самих этих двух институтов, в дальнейшем именуемых Автор и Редактор. Ролевая структура последнего представляет собой нечто вроде трехглавой гидры из Младшего, Ответственного и Главного, соотносительные функции которых станут вскоре очевидны.
Хотя предполагается, что Автор и Редактор совместно делают общее дело, интересы их в общем случае различны, а часто противоположны. Это наглядно выявилось в моем зарубежном, а затем и российском постсоветском опыте, когда мне, по известной пророческой формуле, благодаря отсутствию советской власти, стало как-то легче, а проблема Редактора тем не менее не исчезла. Ибо при всех цивилизующих поправках суть дела не меняется – речь идет о власти. Правда, о власти всего лишь над текстом, но, во-первых, текст это вовсе не хухры-мухры, а как-никак Логос (особенно в России), и, во-вторых, власть, даже самая мелкая, по замечанию Б. Рассела, «сладостна» («Power is sweet»).
Суть не меняется, но, как мы теперь знаем, суть это еще не все, а, может быть, и не главное. Бог (и дьявол) – в деталях. Поскольку какая-то власть неизбежна, постольку особенно дороги «мелкие», «формальные», различия между способами ее реализации. Советская власть, в частности, власть советского Редактора, поучительна тем, что являет самую идею Власти в заостренном до наглядности виде. Более цивилизованные формы власти, в частности редакторской и издательской, ценны своей процедурностью, узаконивающей и тем самым сглаживающей многие властные проблемы. Особенно же интересны постсоветские феномены, в которых родимые пятна социализма лишь наскоро прикрыты новыми овечьими шкурами.
Где-то у Ильфа и Петрова сказано, что некая статья начиналась, как водится, с академических нападок на царский режим. Я тоже начну со сценок из проклятого прошлого, но ими не ограничусь, а главное, постараюсь показать, что интерес их, увы, не академический. Писать буду без имен, ибо дело не в лицах (иногда, в целях, конспирации, я даже меняю пол моих героев), но с датами (историческая привязка важна) и, как говорится, только правду. Все взято, выражаясь по-зощенковски, «с источника жизни».
… Год 1970-й, кто еще помнит, – юбилейный. Готовится выйти книжкой моя диссертация – «Синтаксис сомали». В одном из разделов рассматривается предложное управление, в этом языке очень оригинальное. Примеры взяты из передач сомалийского отдела Московского Радио, где ради сбора языкового материала я работаю на полставки. Одну из конструкций иллюстрирует оборот «памятник Мао Цзе-Дуну», – явление, в то время в Китае и соответственно в мировой прессе актуальное, но в нашей печати неупоминабельное. Звонит издательский Младший – еврей-фронтовик, член партии, человек скорее симпатичный (а ныне покойный). Обращается ко мне по-начальственному на «ты».
– Ну, что ты там пишешь?.. – Что я пишу? – Ну, что это у тебя там за памятник? – А-а… – Ну замени ты его. – У меня записи подлинные, с Радио. – Ну, что ты, ей-богу?.. – Кого же Вы хотите? – Ай, ей-богу… – Ну хорошо, пусть будет памятник Сталину. – Ай… – Тогда Гитлеру? – Ну, перестань… – Кого же Вам надо – Ким Ир Сена? Иди Амина? – Ай, ей-богу… – Ну, ладно, пишите кого хотели. – Кого я хотел? – Вы знаете и я знаю… – Ну, ладно…
Книга вышла. На стр. 251 можно видеть разные сомалийские обороты на тему о памятнике – кому же еще? – Ленину. Но это, выражаясь по-современному, всего лишь мягкое порно. Да и Мао Цзе-Дуна не особенно жаль. А вот история пообиднее.
…Начало второй половины 60-х годов, т. е. уже после Синявского и Даниэля, но до Чехословакии. Печатается наша с соавтором статья, реабилитирующая русский формализм. На решающей стадии верстки доброжелательный Младший (отсидевший в свое время в Гулаге за отца – «морально-политического урода», согласно сталинскому «Краткому курсу») приглашает нас к себе и показывает места, которые «не пойдут». Мы будем их исправлять, а он носить к Главному на утверждение. Самого же Главного (кажется, чуть ли не члена ЦК), подобно кантовской вещи в себе, нам видеть не дано. Начинается челночный процесс доводки, этакий раунд эзоповско-киссинджеровской дипломатии.
– Вот вы тут пишете: «…посмотрим, что было сделано в этом направлении русскими формалистами». Этого Он не пропустит.
– Но ведь в этом весь смысл статьи?! Почему Вы нам раньше не сказали? Если этого нельзя, мы забираем статью.
– Забирать не надо, но писать об этом на первой странице тоже нельзя. Вы придете к этому где-нибудь в середине или в конце. Он читает в основном начало, а остальное так, пробегает.
– Ну, хорошо, тогда напишем: «… учеными ОПОЯЗа».
Младший уходит к Главному и вскоре возвращается с известием, что ОПОЯЗ, увы, не годится. Этот эвфемизм давно раскрыт, к тому же заглавные буквы так и лезут в глаза. Тогда мы предлагаем «науку 20-х годов». Но Главного не устраивает и это, ибо получается нежелательное выпячивание 20-х годов как некой идеальной эпохи в укор современности; да и цифры торчат. Мы готовы дать числительное «двадцатых» прописью, но этого мало.
Тут кому-то из нас приходит в голову спасительная мысль – написать что-нибудь совсем неопределенное, например, «…в науке недавнего прошлого». Младший удаляется и – ура! – Главный дает «добро». Дальнейшее перефразирование продолжается уже без челночных операций и сосредотачивается на обеспечении эквивалентности числа печатных знаков в исходном и отредактированном тексте. Каким-то образом – каким не помню – на этом этапе «наука» заменяется синонимичными ей «учеными». Мы подписываем верстку, где-то там, в мире ноуменов, ее подписывает Главный… Номер должен вскоре выйти в свет.
Первым о долгожданном выходе нам сообщает коллега-подписчик. Он вечером звонит по телефону со словами возмущения:
– Что вы наделали?
– А что?
– Вы назвали их «учеными недавнего прошлого». Эйхенбаум, Тынянов и Эйзенштейн, ладно, умерли, но Шкловский-то и Пропп живы и продолжают работать…
Я бросаюсь писать Проппу, у которого недавно побывал, а мой соавтор звонить Шкловскому, который его привечает. К счастью, «старики» статьей в целом остаются довольны, а на ляпсус смотрят снисходительно – в свое время они прошли и не через такое.
…В конце 1970-х годов ко мне неожиданно обратился вполне «свой» Редактор (Младший) из ведущего интеллектуального журнала с просьбой написать о книге знаменитого итальянского коллеги – тем более, что я был единственным ее владельцем в Москве. Я согласился, но заранее оговорил, что никакого марксизма-ленинизма у меня не будет. Младший сказал, что марксизма у них хватает в других разделах, а от меня требуется профессиональная рецензия, которую они спокойно опубликуют без купюр.
Ну, без купюр-то это положим. Статью прочитал Главный, и она ему даже понравилась. (Это впервые что-то мое понравилось Главному с простой крестьянской фамилией типа Дронов.) Но и он потребовал выкинуть множество сомнительных имен вроде Сталина и Троцкого, а также придрался к частоте упоминаний о Романе Якобсоне, разрешив употребить эту крамольную фамилию не более двух раз. Тогда я прибег к криптографии и насытил текст прозрачными отсылками к якобсоновским работам, в том числе к его анализу предвыборного лозунга «I like Ike», протащив таким образом еще и Эйзенхауэра.
Статья постепенно продвигалась в печать, когда Младший позвонил мне и от имени уже не партийного Главного, а прогрессивного Ответственного (с, наоборот, незабываемой кавказской фамилией), сообщил, что статью надо будет сократить почти вдвое. Свое изумление я выразил – для передачи Ответственному – в столь язвительной форме, что тот почел необходимым принять меня лично.
Выслушав его аргументы (не помню их, да они и не интересны – дело не в них, а в демонстрируемой ими власти, и отвечать на них можно тоже только силой), я сухо указал ему на историю нашей договоренности о рецензии (размер, содержание, сроки), договоренности, систематически журналом нарушаемой, вопреки, кстати, его возвышенно-философскому названию и либеральной репутации. Спор затянулся, и Ответственный сказал что-то в том смысле, что он занят. Я немедленно парировал, подчеркнув, что я и сам человек занятой, профессионал (за какового они меня, собственно, и брали), и мне проще выбросить рецензию в корзину, чем продолжать эту дискуссию с людьми, не отвечающими за свои слова. В разговоре с интеллектуалом это был неотразимый ход, и рецензия вышла в заказанном размере.
Я люблю ее. В ней я первым предложил ввести в русский язык слово privacy. (Кажется, оно все еще не позаимствовано, хотя от маркетингов, дилеров и киллеров рябит в глазах.) Итальянец в дальнейшем приехал в Москву и обнаружил знакомство с моей рецензией, в частности – с критикой неточности его методов.
– Ты не обиделся? – спросил я его.
– Наоборот. Итальянские коммунисты любят обвинять меня в чрезмерном техницизме, а теперь я им говорю: Guardate, Mosca! («Глядите – Москва!»)
Ответственный тоже в какой-то мере прославился, но потом умер. Младший стал уважаемым ученым. Итальянец тоже жив и знаменит донельзя. Главный возвысился было при перестройке, но с тех пор о нем не слыхать. Автор уехал и приезжает ругаться с новыми Редакторами…
Полудиссидентстсво и ученость Ответственного кавказской, как говорится, национальности (дело, разумеется, не в ней) перебрасывают мостик в теперешние времена и нравы, когда диссидентская утопия оказалась у власти (по крайней мере, в СМИ). Вот еще одна аналогичная фигура. Опять-таки крупный ученый (ныне покойный), вождь научной школы, Главный Редактор целой престижной серии. Маринует статью года три, потом через Младшего мне удается узнать, что том двинулся, и даже добыть верстку. В ней я обнаруживаю критическую врезку от редакции и отсутствие дорогих мне эпиграфов, причем мой информант сообщает мне, что менять что-либо уже поздно. «Да ты позвони Ему, Он в Москве, у такого-то», – добавляет мой друг-блондин, явно предвкушая назревающее столкновение.
Звоню, застаю с первого раза, требую восстановить эпиграфы.
– Да они Вам не нужны. – Зачем они Вам?
– Во-первых, они кратко выражают суть, во-вторых, я считаю, что их автор незаслуженно забыт или замалчивается. (В частности, Вами, – не говорю я.)
– К тому же у нас нет места.
– Позвольте, но моя статья не так уж длинна, лежит у Вас давно, и Вы ни разу не заикнулись о размере… Места вполне хватит, если Вы снимите свою врезку, которая мне действительно не нужна.
– Я бы не выставлял этих эпиграфов.
– Но Вы их и не выставляете. Это моя статья, а не Ваша.
– Знаете что, я спешу на лекцию и вынужден прервать разговор. До свидания.
– До свидания.
Свиданию, однако, не суждено было состояться, ибо, утомленный истеблишментом и антиистеблишментом почти в равной мере, я эмигрировал. Статья же через некоторое время вышла – с эпиграфами и без врезки. Вопреки официозу напечатать диссидента-отъезжанта было для этого Главного делом чести, доблести и геройства – тут уж не до тонких семиотических разногласий… Поведение, конечно, насквозь советское, и противостоять ему можно лишь более сильным оружием – непостижимой для Редактора-тоталитариста решимостью забрать статью, а то и вообще уехать.
Вот еще аналогичный эпизод, где в роли Главного выступает Проректор по научной работе моего Института (тоже уже покойный; читатель должен понять неизбежно эдиповский – по отношению к отцовским фигурам Редакторов – характер этих упоминаний о смерти). Готовится к печати сборник трудов нашего отдела, с моим предисловием. Год 1964-й, мы молоды, полны научного энтузиазма и вселенских претензий. Эпиграфом к своему предисловию о семантическом подходе к словарю я беру гамлетовское «Words, words, words» («Слова, слова, слова»). Мой непосредственный начальник (так сказать, Младший) сообщает мне, что Главный эпиграфа не пропускает. «В таком случае я снимаю Предисловие, а заодно и две другие свои статьи в сборнике». Эпиграф остается.
Уверенность Редакторов советского закала, что это ИХ текст (а не Автора), имеет глубокие социальные корни, идеологические и культурные. С одной стороны, на Редактора была возложена роль партийного комиссара при политически незрелом Авторе-интеллигенте; с другой – ему приходилось «доводить» язык, стиль и интеллектуальный уровень полуграмотного Автора-выдвиженца. («Сирожь, – говорил своему ученому Редактору, моему знакомому, один такой Автор, – ти если найдошь у мэня какую-нибудь мисэл, ти ее нэ вичеркивай, ти ее развэйй…» Акцента у него могло бы и не быть, а вот ситуация с отсутствием «мысли», увы, была частой.) Со временем оба типа Автора смешались в сознании Редактора, и он счел себя полноправным хозяином как содержания, так и формы текста. Его абсолютная власть опиралась, помимо эксплуатации естественного авторского желания напечататься, на баснословные тиражи и гонорары официальной печати. (Помню, как ошеломлены были мы с соавтором статьи об «ученых недавнего прошлого», когда получили гонорар из расчета 300 рублей за лист, т. е. трех месячных зарплат начинающего специалиста, – за то, что мы написали бы все равно, да еще приплатили бы, если б было чем; тут-то мы впервые почувствовали подлинную цену Слова.)
Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Вот история, происшедшая не со мной, а с почтенным ученым старшего поколения. Молодая женщина-Редактор, его бывшая ученица, решительно правит его статью. Он по возможности соглашается, но во многом отстаивает свой вариант, указывая ей на возникающие в результате правки несообразности. Она извиняется:
– Знаете, я спешила, исправляла на ходу.
– Простите, но почему же Вы полагаете, что Вы можете быстро, на ходу, исправить то, что я писал не на ходу, а тщательно обдумывая?..
Тут очень характерно полное отсутствие какой-либо личной злобы, интеллектуального неуважения или идеологической цензуры – Редактор безмятежно уверена, что делает полезное и доброе дело. Власть въелась в ее клетки и применяется автоматически.
… – В Вашей статье надо заменить слово «педалирует», – говорит мне году в 1969-м году молодой коллега, он же Младший в соответствующем журнале.
По идеологической линии статья, несмотря на отравленность «структурализмом», уже одобрена Главным (евреем, и потому членом не всесоюзной Академии Наук, а, выражаясь по-современному, Академии Ближнего Зарубежья). Он начертал ленинского типа резолюцию: «Печатать, но дать оценку в комментарии от редакции», т. е., опять-таки врезке. (А вот еще курьез из тех же времен и в том же роде. Киевский коллега, занятый в качестве Младшего в некой украинской Энциклопедии по нашей науке, просит меня написать о работах нашей группы, – дескать, мне и карты в руки. Пишу. Печатают, но мой приятель для смеха присылает мне автограф-резолюцию Главного, известного официального поэта: «Треба вказати на небезпеку iдеалiстичного потрактування природноi мови».) Но вернемся к педалированию.
– А что, это слово внесено в какой-то запретный список?
– Нет, просто Вы его употребляете не в том смысле.
– Тогда приведите мне, пожалуйста, пример его правильного употребления.
– Ну, может быть, Вы и правы, но я бы его не употреблял.
– Но Вы его и не употребляете. Его употребляю я. Скажите, Лева, Вы как-то подспудно убеждены, что владеете русским языком лучше меня?
– Ну, Вы просто не представляете себе, какую галиматью иногда приходится править?!..
В общем, слово «педалирует» удалось отстоять. О дальнейшей судьбе Младшего у меня сведений нет. Скорее всего, он жив, хотя жизнью это, конечно, не назовешь.
Переходя к несоветской ситуации, можно начать с метаморфоз, претерпеваемых бывшими носителями официальной идеологии. В разгар перестройки некий Главный спрашивает, нет ли у меня статьи об одном воскрешенном писателе, которому вот-вот исполняется сто лет со дня рождения, а у журнала нет подходящего материала. Такая статья у меня как раз есть, я им ее даю, и она быстро продвигается к выходу. Младший никаких препятствий не чинит, но на стадии верстки Ответственный (тогда еще партийный, в общем, не вредный, но удручающе ограниченный и, видимо, снедаемый каким-то внутренним недугом, отравляющим его взгляд на мир), сделав мне различные мелкие замечания (которые я, как всегда, принимаю), вдруг выдвигает содержательное – и какое!
– Вот Вы тут пишете о соцреализме и его влиянии на этого писателя.
– Ну и..?
– Но ведь никакого соцреализма не было.
–???
– Ну, бездарь всякую мы же не будем называть «-измом», да еще влиятельным. В общем, это надо убрать.
– Позвольте, мы с Вами знакомы почти тридцать лет. То у вас нельзя без соцреализма, то надо без него. А где в вашем репертуаре «можно»? Оно было бы тем более уместно, что власти-то у вас прежней больше нет. И статью просите напечатать вы, а не я, и других журналов полно, и гонорар мой обесценится быстрее, чем номер выйдет. Так что давайте-ка я впишу, что соцреализм понимается в смысле Андрея Синявского и Катерины Кларк.
Тогда это звучало провокационно; что касается Гройса, то у нас еще о нем не знали девы…
Ослабление редакторской власти благодаря фактору рынка лишь очень медленно отлагается в сознании и навыках Редактора. Где-то в начале 90-х дружественный Младший в одном прогрессивном журнале вдруг сообщает мне, что лежащая у них статья (вполне актуальная) не пойдет. Почему? Начальство (Ответственный? Главный?) считает, что у них уже напечатано несколько моих материалов.
– Прекрасно, – говорю я, – не будем перегружать журнал моими опусами. Давайте я отдам статью куда-нибудь еще. Не можете ли Вы, уже как мой друг, посоветовать, куда именно лучше всего?
– Ладно, я попробую поговорить с начальством (?) еще раз…
Статья выходит в следующем же номере.
Кстати, дальнейшее взаимодействие (мое и известных мне других Авторов) с тем же Редактором, но уже в роли Главного, вынуждено строиться по той же схеме. Возможно, он и ему подобные полагают, что овладели законами капиталистической конкуренции, не подозревая, что в западном издательском деле (как и на рынке вообще, за исключением разве наркобизнеса) конкуренция давно введена в цивилизованные рамки, избавляющие партнеров от постоянных силовых эксцессов.
Надо сказать, что само наличие у Редактора власти над Автором недостаточно для объяснения его установки на присвоение текста. Тут действует еще один фактор. Подобно тому, как Критик (= Автор) это, как правило, несостоявшийся Писатель (ecrivain manque), Редактор – это несостоявшийся Автор. Соответственно, его болезненно раздражает настырная плодовитость Авторов, вечно теребящих его по поводу скорейшего опубликования их опусов. Поэтому, наряду с разнообразными внетекстовыми проявлениями власти (садистическими играми с Автором, вымогательством у него денег, борзых щенков или мелких услуг и т. п.), Редактор с особым упорством направляет ее, скажем так, на «авторизацию» чужого текста.
Некоторые типичные приемы такой авторизации нам уже встретились. Это замена отдельных слов, выбрасывание кусков текста, врезка. С последней мне вновь пришлось столкнуться пару лет назад, когда один вполне уважаемый мной Ответственный, на которого в моей статье было несколько отдающих ему должное ссылок, разразился целым полемическим послесловием. Оно состояло на одну треть из фактографических придирок и поправок, которых он, манкируя собственно редакторскими обязанностями, не высказал мне за те два года, что статья лежала в журнале; на вторую – из аргументов в защиту чести мундира того деятеля советской культуры, о котором у меня шла речь (в старые времена его принято было то хвалить, то травить, то подходить к нему с одной стороны – с другой стороны, но теперь он ненадолго вошел в пантеон новых святынь, и Ответственный, видимо, решил, что моему субверсивному анализу необходимо «дать отпор»); а на третью – из каких-то ревнивых полуприсоединений к моей точке зрения. Мысль, что Автор есть автономная пишущая личность, отдельная от журнала и Редактора и, значит, в отмежевании нет необходимости, как видно, все еще не пустила достаточно глубоких корней в постсоветском редакторском менталитете. Более того, не выступая более в роли проводника постыдного официоза, Редактор (часто бывший диссидент) тем увереннее и с совершенно чистой совестью вторгается в авторский текст.
Уже совсем недавно (когда я пишу это, статья, о которой пойдет речь, еще находится в печати) мой давний приятель, не замеченный ранее ни в чем таком советском, оказавшись вдруг Редактором (то ли Ответственным, то ли даже Главным) одного нового журнала, заявил мне по электронной почте, что его настолько «ранит» мое покушение на некие культурные святыни, да к тому же со ссылками на «Прогулки с Пушкиным» Синявского-Терца, что он этих ссылок «в своем журнале» не потерпит. Я упоминаю об электронной почте потому, что читать такое на экране компьютера в Лос-Анджелесе было особенно дико. Я стал разъяснять ему что-то про принцип Let us agree to disagree («Давайте согласимся иметь разногласия») и т. п., и призывать его не злоупотреблять своим служебным положением в интересах своих личных вкусов, но проблема была разрешена только силой – когда я на чисто процедурных основаниях (они имелись) добился отстранения его от работы с данной группой материалов. Мы даже помирились, но понять, что соблюдение процессуальных норм важнее содержательных разногласий и что его первая задача как Редактора – это отделить свою личность от своей общественной функции, он так и не смог. Ведь современный российский человек полагает, что наступившая наконец свобода означает полный отказ от каких-либо правил и ответственности – настоящий беспредел. (Как проницательно заметила одна моя американская аспирантка, бывшая здесь на стажировке, «они строят капитализм, а представляют его себе по Марксу – как всемерное ограбление и эксплуатацию кого и как можно». Победил, так сказать, не капитализм, а «Капитал» из семинара по марксизму-ленинизму.)
Кастрирующие ножницы Редактора (не забудем о его отцовской, по Фрейду, природе) безошибочно нацеливаются, как правило, на самое новое, интересное, оригинальное, словом, живое в тексте. Так, еще в старое время некий Младший, похвалив конкретный разбор, содержавшийся в поданной ему в журнал статье, обещал ее протолкнуть – при условии, что я выброшу из нее все свои «теории». «Спасибо, – ответил я, – но я не смогу воспользоваться Вашим непочетным предложением. Мне дороги именно «теории», на которых, кстати, и держится понравившийся Вам разбор». Тут я понес почти полное поражение, которое смог лишь слегка компенсировать публикацией статьи без купюр (включая «педалирование») в другом журнале, с последующим преподнесением Младшему (ненавистнику «теорий», хотя и служившему в Отделе Теории) оттиска, где ему была высказана благодарность за ценные замечания.
В своих кастрационных действиях Редактор, особенно Младший, часто руководствуется спускаемыми ему «сверху» установками, воплощающими, в полном согласии с Фрейдом, цензуру «Сверх-Я», т. е. традиционной официальной культуры. Однако, для того чтобы служить ее идеальным проводником, недостаточно быть безразличным исполнителем директив. Страсть, чутье и глазомер, необходимые Редактору для ампутации самых живородящих органов текста, обеспечиваются его собственной, личной завистью-ненавистью ко всему тому новому и живому, что отличает Автора от него самого.
Жаловаться на такой расклад Автору, конечно, не приходится. Помню, как давным-давно, когда мы с соавтором работали над одной программной статьей, его отец, человек далекий от будней гуманитарной науки, сказал:
– Вот вы стараетесь, пишете, а кто знает, может, спорить будут, скажут, неверно, ошибочно.
На это мой соавтор ответил:
– Уверен, что скажут. Вообще, авторы «спорных» сочинений редко заблуждаются на этот счет. Они заранее знают, что их текст окажется ошибочным, и изо всех сил стараются написать как можно поошибочнее. Их заботит только одно – чтобы их ошибочное произведение увидело свет…
Теперешний Редактор, конечно, уже не так страстно лезет в текст, как прежний. У него меньше власти, средств, штата, ему некогда (он работает еще в трех местах и старается провести большую часть времени заграницей или хотя бы на даче). Тем не менее, леопард не может переменить свои пятна. Многое ему еще подвластно.
Так, Редактор ревниво отстаивает свою власть над важнейшей частью текста – его заглавием. Написав однажды по просьбе Младшего некие юбилейные воспоминания о нашем с ним общем друге, я вскоре увидел их в печати под заголовком, совершенно уникальным в моем списке публикаций: «Грани таланта». Это было в Нью-Йорке, в диссидентско-эмигрантском кругу, то есть, в совершенно, казалось бы, несоветском хронотопе (и решение, наверно, принадлежало Главному, а не моему другу), и тем не менее…
Еще одна подобная эмигрантская виньетка – невозможность (в начале 1980-х годов) получить в библиотеке Корнеллского Университета роскошный и представительный альманах «Аполлон-77», изданный на собственные деньги Михаилом Шемякиным, сумевшим под одной обложкой собрать чуть ли не всю тогдашнюю литературную и художественную эмиграцию. Причина, как разъяснил мне один видный русский писатель макабрического направления, работавший в этой библиотеке на подноске книг (ныне он в полной славе), – нежелание двух русских женщин-библиотекарш предыдущей, так называемой второй, волны эмиграции выдавать этот «непристойный» том.
А много позднее, уже в начале 90-х, мне пришлось снять свой доклад на международной конференции, посвященной столетию очередного великого русского еврея, поскольку Ответственная за программу недавняя русская эмигрантка сочла недопустимыми мои вполне академические сопоставления этой ныне культовой фигуры с одним современным литератором, для нее и некоторых других одиозным. Дискриминация меня как Автора, а «одиозного» писателя как объекта исследования продолжается и на собственно редакторской стадии издания трудов конференции. Мой давний знакомец-полудиссидент, выступающий в роли Главного Редактора этих трудов, разделяет линию Ответственной. Человек он в высшей степени ученый, но плюрализм у него, скажем так, прихрамывает – его стандартный отзыв о многих писателях: «Он не существует!» (Осенью 1994 года в Лос-Анджелесе он же с пеной у рта отстаивал передо мной прошлогоднюю тогда стрельбу по парламенту, в ответ на что я более или менее предсказал ему Чечню…) Подобное проникновение дремучих российских нравов в сферу западной культуры можно сравнить с происшедшим в последние годы выходом русской мафии на арену международной организованной преступности.
Но вернемся к собственно редактуре. Власть над заглавием – лишь верхушка айсберга, не растаявшего и после всех оттепелей. Ту же природу имеет, например, понятие «тематического выпуска», в котором характерным образом сталкиваются интересы Автора и Редактора. Автор статьи, естественно, хочет увидеть ее напечатанной как можно скорее – чтобы, наконец, осчастливить мир своими новыми идеями, прославиться, увеличить список публикаций, продвинуться по службе, получить гонорар, наконец, просто забыть об этой статье и перейти к следующей. Статья, однако, не появляется. Ибо Редактору нужна не отдельная статья, пусть даже блестящая, но чужая, а – нечто свое. Это «свое» и есть тематический выпуск, составленный Редактором (часто с его предисловием) путем придерживания соответствующих статей. Вместо того чтобы печатать статьи Авторов по мере их поступления, как то приличествует периодическому органу (в буквальном переводе с французского, «журнал» значит «ежедневный», от слова jour, «день»), Редактор предпочитает издать нечто, по возможности приближающееся к собственной книге…








