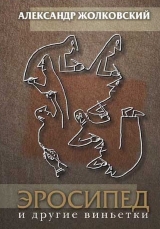
Текст книги "Эросипед и другие виньетки"
Автор книги: Александр Жолковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
В чужом пиру
В старое советское время, если и удавалось посмотреть западный фильм, многое в нем оставалось задрапированным складками все того же железного занавеса. Было неясно – то, что показывают, это у них обыденный факт или художественный эффект? А ведь остраняющий контраст между практическим рядом и поэтическим – основа искусства.
Вот он (Бельмондо, «Нежный негодяй», 1966) звонит ей из Брюсселя по автомату, как будто он рядом, в Париже, – это что, суперловкость рук или каждый может? Вот его (не помню, кого, кажется, Филиппа Нуаре) будит горничная, принесшая завтрак в номер, и он тут же затаскивает ее в постель – это как, нормальная часть сервиса или донжуанский подвиг?
Незнакомое не всегда восхищало. Вот он (Гэри Купер) ухаживает за ней (Одри Хэпберн), приводит ее в свой огромный номер, а там уже ждет заказанный им небольшой ансамбль, и они танцуют и любезничают при этих посторонних («Любовь после полудня», 1957). Было не завидно, нарушался интим, privacy, но витала надежда, что такого не бывает – кроме как в безвкусных фантазиях киношников.
Одной из загадок был эпизод даже не в иностранном, а «нашем», но футурологическом и полузапретном «Солярисе» Тарковского (1972). Невероятно долгий проезд по подземному участку автострады будущего завораживал, тем более что мучил вопрос о статусе туннеля. Что это – трюковая съемка, увеличенная мини-декорация, или где-то там подобные вещи действительно существуют? (Знающие люди подтверждали, что существуют и туннель японский.)
Больше всего озадачивали, конечно, размеры личной собственности. Например, что грузовик, микроавтобус, самолет мог принадлежать частному лицу, а не только учреждению. Особенно волновал, конечно, домашний быт – категория все-таки знакомая.
В английском фильме «Чарли Бабблз» (с Альбертом Финни, 1968) все этажи и помещения в доме пресыщенного жизнью героя-писателя просматривались по внутренней телевизионной сети. Это играло организующую роль в иронической стилистике фильма, но оставалось неясным, действительно ли таков быт широких масс преуспевших литераторов.
Самое сильное впечатление осталось от лондонского дома героя (Джэка Николсона) в фильме Антониони «Профессия: репортер» (1975). Интерьер был на нескольких этажах, с лестницами, без перегородок или, во всяком случае, с большим количеством открытых стен, и на них были там и сям приколоты (прилеплены?) записки жены (к мужу? к любовнику? – на культурную неосведомленность накладывались языковой барьер и авторская некоммуникабельность). Учрежденческие масштабы помещения и способы связи, служившие декорациями хронической невстречи героев (он уезжал, она изменяла), – весь этот модернистский разброд на просторной частной территории одновременно удручал и захватывал. Хотелось то ли отвергнуть недоступную сюрреальность с порога, то ли пожить и умереть в ней.
…Пожить удалось, за умереть дело не станет. Пишу это в гостиной на нижнем этаже, с видом на внутреннюю лестницу без записок. В компьютере поет Вертинский: Как хорошо проснуться одному / В своем веселом холостяцком «флете»… («Без женщин», 1940). Кстати, британский «флэт» – одноэтажный (flat – «плоский»), а если он еще и холостяцкий, то какие записки?
«Эпикировка»
Работа с сомалийским языком в рамках истеблишмента – на радио, на киностудии «Экспортфильм» и в других местах – приводила к знакомству с образчиками не только африканской, но и советской экзотики.
Весной меня как единственного дипломированного сомаловеда иногда приглашали в МИД – принять экзамен по языку у их сотрудника. Сотрудником этим был унылый человек невзрачного вида с низким, как из бочки, голосом и безрадостной фамилией, назову его Бобылев. Экзамен требовался, чтобы подтвердить его право на двадцатипроцентную надбавку к зарплате за знание языка курируемой страны.
Язык он, несмотря на несколько лет работы в советском посольстве в Могадишо (в отличие от меня, в Сомали никогда не бывавшего), знал из рук вон, и экзамен каждый раз сводился к тому, что я уточнял у него и у заведующего учебной частью генерала Абрамяна, какова самая низкая оценка, совместимая с надбавкой, и, неизменно получая ответ «три с минусом», неизменно ставил именно столько. Ашот Абрамович Абрамян, обладавший характерной для лиц его национальности широтой взглядов, понимающе улыбался. Неизбывной же грусти Бобылева тройка с минусом не усугубляла – никаких амбиций, кроме экономических, у него вроде бы не было.
Мотивы, толкнувшие этого человека на дипломатическое поприще, не составляли загадки, хотя на свежий взгляд могут показаться парадоксальными. Беднейшую страну самого забытого Богом континента Бобылев рассматривал как источник обогащения. Дело шло неплохо, пока он работал в посольстве, получая двойную зарплату, частично в валюте, и извлекая мелкие контрабандные выгоды из доступа к иностранным товарам. Но срок службы на передовой подошел к концу, и Бобылева перебросили в тыл, на Смоленскую площадь, где я однажды и застал его еще более удрученным, чем обычно.
Причиной моего прихода был на этот раз не экзамен, а перевод на сомали речей Председателя Верховного Совета СССР Подгорного, направлявшегося в республику на экваторе с государственным визитом. Речи поступали с задержкой, я маялся, ворчал, и Бобылеву было поручено всячески занимать меня и водить в закрытый буфет. Там, за номенклатурной икрой и импортным пивом, Бобылев излил душу.
– Думаю податься на научную работу, вот, как вы, – с безысходной печалью в голосе сказал он.
Я полюбопытствовал, чем диктуется внезапная переквалификация. Оказалось, что дело в потере выгод, связанных с пребыванием «в стране».
– Но, наверно, на большой земле это как-то компенсируется? – предположил я.
Оказалось, что компенсируется, но в случае Сомали очень и очень скромно.
– За что же такая дискриминация?
– Да не дискриминация, – горестно пояснил Бобылев, – а просто оплачивают из расчета эпикировки…
– Эпикировки?..
– Ну да. Если ты работал, скажем, в Норвегии, то здесь тебе выдают в размере меховой шубы, шапки, ну и прочего. А у нас какая эпикировка – пробковый шлем и шорты?..
Низкий жизненный уровень сомалийцев настиг-таки невезучего Бобылева, хотя и с неожиданной стороны. Не задалась, надо полагать, и его научная карьера, для которой он, на мой взгляд, был тоже оснащен недостаточно. Бедному жениться – ночь коротка.
P. S. Как бы не так. По последним сведениям, Бобылев перешел свой Рубикон – написал и защитил диссертацию, а со временем получил консульскую должность в Италии. Эпикировка: тога с пурпурной каймой, кресло из слоновой кости, двенадцать ликторов с фасциями.
Бабушка-старушка
Это из Зощенко. Так в пьесе «Парусиновый портфель» обращаются к пунктирно, по ходу действия, вспоминающей о своем адюльтерном прошлом пожилой даме: «Ну! Что же было дальше? Ну, бабушка-старушка, ну…»
«Старушке», о которой пойдет речь, бабушке моего младшего коллеги Ц., в описываемый момент было не многим больше лет, чем мне сейчас. Стояло жаркое лето 1972 года. Я был в гостях на даче под Ригой, у совсем юного Ц. Приехал я с Л., в которую был бешено влюблен, возможно, ввиду сильнейшей активности солнца (под Москвой в то лето горели торфяники). Нас радушно принимали очень милые и светские родители Ц. Из кухни на веранду иногда выглядывала бабушка, представительная полуседая дама. С молчаливым достоинством занимаясь угощением, она периодически прислушивалась к разговору.
Моложавый отец Ц., известный писатель, оказался знаком с моим не менее знаменитым и еще более молодым бывшим научным руководителем К. Поскольку Ц. собирался в аспирантуру в Москву, отец был озабочен приисканием ему связей, друзей и покровителей. Я поддерживал разговор о К. несколько принужденно, ибо находился с ним в это время в сложных отношениях, чего не хотел ни афишировать, ни скрывать. Я неопределенно поддакивал, прятал глаза, краснел. Л., здоровая и совершенно уже молодая девица, не принадлежавшая к академическим кругам, скучала.
Хозяева, однако, ничего не замечали, и разговор продолжал вертеться вокруг К. – его эрудиции, работ, диссидентской славы, личного обаяния. Неожиданно раздался голос бабушки:
– Вы все в восторге от этого К., потому что он такой важный. А я не вижу в нем ничего особенного. Скучный, бледный, писклявый. Если бы он был водопроводчиком, вы бы на него и не посмотрели. А вот если бы Алик пришел в качестве водопроводчика, я бы все равно обратила на него внимание. И я уверена, что Л-очка тоже.
Так я внезапно одержал одну из столь дорогих нам эдиповских побед и унес в своей душе вечную благодарность замечательной бабушке-старушке.
Полтора десятка лет спустя, в свой первый краткий приезд в Москву из Штатов (1988 г.), справляясь о Ц. и его семье у общего знакомого, самую неожиданную – а, впрочем, как водится в крепком сюжете, исподволь хорошо подготовленную – новость я услышал о бабушке. На старости лет у нее возник роман с заезжим офицером (кажется, казахом) и, вопреки возражениям родных, она чуть не согласилась на умыкание. Я сразу вспомнил, что элементы жадного глядения на дорогу были у нее и знойным летом нашего знакомства. Увоз, однако, не состоялся – восьмидесятилетнюю бабушку не устраивало, что «он этими гадостями хочет заниматься».
И на старуху бывает проруха.
Не зря
Работая над книгой о модели «Смысл-Текст» (1974), Мельчук, как всегда, требовал от коллег критических замечаний. При чтении очередного варианта рукописи я заметил, что, несмотря на мои предыдущие протесты, пассаж о толковании близких по смыслу слов мыть и стирать опять остался без изменений. Различие между ними Мельчук связывал с тем, присутствует ли в описываемом процессе элемент «трение складок объекта друг о друга». Соответственно, смысл стирки (кстати, этимологически восходящей к тереть) он формулировал так: «X при помощи жидкости чистит объект У, тря…».
Сколько я ни морщился по поводу этой сомнительной деепричастной формы, неисправимый Игорь отвечал ссылкой на металингвистическую, а не собственно русскую, природу языка описания. Тогда я решил апеллировать к тому регистру его личности, который принес ему прозвание доктора hovnoris causa (настоящим д. ф. н. он в советские времена так и не стал). На полях против «тря» я сделал пометку: «Нельзя писать о русском языке, непрерывно сря на него». Подействовало. (См. с. 46 книги.)
Дворянское гнездо
Таня точно знала, как надо. Летом надо было жить на даче. Но дачу снимают весной, и первое лето пришлось пропустить, хотя свадьбу отпраздновали все-таки на даче – у подруги.
Временным суррогатом дачи стали поездки на озеро Валдай, где у меня оставалась лодка с парусом. Правда, Таня воды не любила, но из чувства супружеского долга ездила. Падучева сетовала на простои в работе, Таня отвечала: «Елена Викторовна, не могу. Я должна кататься на яхте».
На следующий (1974-й) год дачу стали снимать. Таня каким-то образом установила, что снимать надо в Купавне, где озеро чистое (моторки запрещены), а поселок вдоль него – генеральский, почти закрытый.
«Почти», потому что прямого запрета или ограды не было, но, как мы быстро убедились, приехав на разведку прозрачным апрельским воскресеньем, не было и желающих сдавать. Вообще, сезон еще не начинался, и мы, щелкая зубами, ходили вокруг запертых участков.
Один генерал все-таки раскололся. Сам он сдавать не стал, но по секрету дал наводку на вдову-генеральшу, Зинаиду Владимировну К-ову, дачников пускавшую. Связав нас страшной клятвой, он сообщил ее московский телефон и предупредил, что потребуются солидные рекомендации.
Это было первое брачное испытание, и его я, в отличие от большинства последующих, выдержал. Я позвонил Зинаиде Владимировне, представился, похвалил ее поместье, сказал, что мы, к сожалению, незнакомы, но пусть она назначит, от кого нужны рекомендации, и я их доставлю. Приезжайте в воскресенье, сказала она, у меня для вас есть павильон.
Генеральша оказалась крепкой, энергичной женщиной со следами былой красоты. Я назвался. Она произнесла с выражением:
– Какое у вас красивое имя, Александр Константинович!
Вслушиваясь в интонацию, я заподозрил, а узнав Зинаиду Владимировну поближе, убедился, что под красотой понималась излучаемая моим именем и отчеством аура расовой чистоты, в натуре не наблюдавшейся. Тем не менее мы поладили.
Участок был огромный. В центре стоял двухэтажный господский дом – трофей, вывезенный генералом из побежденной Германии. Он не сдавался – в нем жила генеральша со взрослой дочерью Наташей и иногда наезжавшим сыном с семьей. Но по участку были разбросаны сарайчики, вагончики, времяночки, населенные разношерстным людом, вряд ли поступившим по рекомендациям Генштаба. Отведенным нам «павильоном» оказалась осевшая изба, в которой хозяева жили когда-то сами, пока крепостные солдаты по камешку, по кирпичику воспроизводили немецкое чудо.
Одна жиличка, совсем простонародная старушка, ютилась в фургончике без окон. Ее фольклорность сыграла свою магическую роль, когда нас стали донимать крысы. Ничто не помогало. Старушка сказала: «Вы бузины наломайте, оне ее не любят». Бузина росла тут же, за забором. Мы ее, недоверчиво посмеиваясь, наломали и набросали. Крысы исчезли.
В том же дальнем углу, что фольклорная бабушка, помещение, более похожее на жилье, снимали таксист Толян с хамского вида женой – зав. винным отделом гастронома. Располагая в семье контрольным пакетом акций, она держала Толяна, робкого пьянчужку с льняными волосами, в постоянном страхе изгнания. Ее симпатичный четырнадцатилетний сынишка стал, к облегчению Тани, моим партнером по яхте.
Я наслаждался катаньем, купаньем, дачей, лесом, хотя до станции было далеко и продукты мы по-туристски таскали из Москвы на спине. Кто страдал от дачной жизни, так это безапелляционно приговоренная к ней Танина мама. Ксения Владимировна недоумевала, почему вместо благоустроенной городской квартиры она должна зябнуть на сырой даче, но с ангельской кротостью отбывала назначенные сроки. По иронии судьбы, она, будучи действительно дворянского происхождения, оказалась в двойной вассальной зависимости – от Тани, унаследовавшей командные гены отца-полковника, и от генеральши.
Иногда приезжал мой папа – тряхнуть стариной и сходить «в далекую». Это выражение осталось с детства, когда папа, повязав на голову носовой платок с четырьмя узелками по углам, отправлялся за десятки километров к другой ветке железной дороги, слал оттуда маме телеграмму и поспевал к ее сюрпризному вручению.
Выставив небольшой столик в сад, я занимался полузапретным Пастернаком, наслаждаясь соответствием антуража его дачной поэтике. Наш дом был ближе всех к озеру, стол стоял у самой дорожки, и Толян, проходя мимо, звал меня купаться. Я отвечал, что работаю, и он с неизменным недоумением повторял: «Чё ты все пишешь?!.. Писатель!..» (Как в воду глядел.)
Зинаида Владимировна вставала с рассветом и весь день, не покладая рук, поливала, удобряла, подрезала, окапывала, опрыскивала, пропалывала и пересаживала в изобилии росшие на участке цветы, ягоды, овощи и фрукты. Одновременно она распоряжалась наемными рабочими из деревни, которые что-то для нее чинили, красили, копали и заливали бетоном, а к концу дня хрестоматийно толпились у заднего крыльца в ожидании оплаты.
Рабочими она была недовольна – они явно уступали немецким стандартам.
– Моя бы воля, я б их на конюшне секла, – говорила она.
Я кивал с чувством тайной диссидентской солидарности.
Деревенскую публику Зинаида Владимировна вообще не жаловала.
– Вот у кого теперь деньги, – говорила она, мотая головой в сторону шумно колесивших вокруг участка пьяных мотоциклистов.
В ее «теперь» слышалось сожаление об уходящих в прошлое временах подлинного аристократизма.
– Какая у вас замечательная усадьба! – как-то сказал я, отчасти в дипломатических целях, но не кривя душой, и был вознагражден уникальной репликой:
– Сталин добрый был, много давал…
Покататься на яхте приезжали друзья. Однажды была американская аспирантка Джоханна Николз (ныне знаменитая лингвистка). Из валютного магазина она привезла невиданный продукт – пиво в банках. Потягивая его под деревом, она употребила изысканную английскую конструкцию: «Am I decadent!» («Ну, я и разлагаюсь!»), которую мы тут же освоили.
Яхточка ее не впечатлила – ее бывший свекор был бизнесменом как раз по этой части.
– He owns marinas…
– Marinas? Что такое «марина»?
– Пристань с прокатными лодками, яхтами и тому подобным.
– So he owns it?
– Them.
Как реалии, так и грамматика (pluralis) звучали недосягаемо. Впрочем, свекор, вместе с мужем и маринами, был все-таки бывший.
В один из первых приездов после перестройки, летом 1991 года, я совершил ностальгическое паломничество в Купавну. Я ожидал увидеть процветающий, может быть, чрезмерно коммерциализованный, курорт и был поражен зрелищем запустения. Кругом были непроходимые буераки, валялись блоки распавшейся бетонной ограды, кафе на берегу было заколочено, озеро зацвело, по нему не катались и в нем не купались. Даже погода соответствовала – несмотря на июль, было холодно.
С трудом пробравшись к даче, я привычным движением открыл внутреннюю щеколду калитки, вошел и осторожно, с извиняющейся оглядкой, направился к главному дому. Он, однако, был необитаем – завешен пластиком, как при ремонте. Меня окликнула пожилая женщина, в которой я узнал Наташу. Я сказал, что когда-то снимал здесь дачу, спросил Зинаиду Владимировну. Наташа улыбнулась и повела меня к стоявшему около «павильона» столу с лавками, за которым сидела, как Меншиков в Березове, закутанная в темное тряпье генеральша.
Мы поздоровались. Мне были рады. Наташа сказала:
– А я смотрю, кто-то иностранной походкой идет по участку.
Беззубо шамкая, Зинаида Владимировна стала жаловаться на разруху («Теперь, знаете, у кого деньги?»), расспрашивать, радостно завидуя, про наше заморское благополучие (я стушевался, сказав, что по-настоящему богата Таня, у которой бизнес и дом в Итаке, квартира в Монреале, дом и земля под Монреалем) и допытываться у меня, иностранца, «что же теперь с нами будет».
Господский дом ремонтировался, значит, было на что, но пока они жили в той же избушке, что когда-то, – у разбитого корыта. Аристократическая парадигма, разыгранная генеральшей, оказала себя с неукоснительной полнотой, явив наглядную картину разорения мелкопоместного дворянства.
Интересно, как теперь? У кого деньги?
Из России с любовью
Это было в начале 70-х годов, в эпоху застоя, в период его расцвета. Мой ученик (назову его кафкианским инициалом К.), вдвоем с которым мы практически контролировали рынок переводов на язык сомали, сообщил мне, что наклевывается новый источник халтуры: Агенство Печати Новости открывает серию переводов классиков марксизма-ленинизма на ранее не охваченные восточные языки. Заведует этим делом некто Козлов, бывший резидент в Китае.
Я ответил, что идея хорошая, лишние деньги не помешают, но времени на дополнительную халтуру у меня нет. К. меня успокоил. От меня требовалось только сходить к Козлову, напустив важности, выговорить оптимальные условия и по занятости поручить переводческую роль К., так и быть согласившись на редакторскую.
Козлов оказался невзрачным (подслеповатым? рыжеватым? лысоватым?) человечком, на которого с первого же взгляда естественно было свалить китайские промахи Кремля. Я сразу взял уверенный тон. Одобрив планы приобщения сомалийцев к трудам Ленина и заверив Козлова в высоком уровне квалификации К., я перешел к центральной теме – ставке за лист.
Козлов проявил знакомство с вопросом и выразил готовность платить двадцатипятипроцентную надбавку за «редкость» – категорию, под которую подходили все восточные, в том числе африканские, языки. Я, однако, метил выше.
Я указал на особый статус языка сомали, лишь недавно обретшего письменность. Ставя задачу перевода на него сочинений Ленина, следовало учитывать, что само слово «перевод» приобретает в этом случае качественно иной смысл. Если при работе с китайским, японским, хинди и т. п. дело сводится к переводу на языки, давно абсорбировавшие марксизм, то на сомали предстоит начинать с нуля. Речь идет не о переводе в готовые языковые формы, а о создании всей необходимой фразеологии. На переводчика – К. – ложится гигантская исто-рическая ответственность: от него зависит, как на сомали будет впредь звучать голос Ленина.
Эту импровизацию в стиле О. Бендера я заключил требованием удвоить надбавку. Козлов выслушал меня с пониманием, но сослался на отсутствие соответствующих разнарядок. Так что, 25 % – си, 50 % – но, хотите берите, хотите нет. Мое красноречие разбилось о бюрократическую стену. Программа-максимум не сработала. Можно было, конечно, гордо удалиться, но мы утерлись и согласились на программу-минимум.
… Передо мной лежат три красных книжечки на сомали, две ленинских и одна брежневская. Никаких других фамилий там не значится – ни Козлова, ни К., ни тем более моей. Не помню и получил ли я что-либо за «редактуру». Боюсь, что да. Сохранилось вложенное в Брежнева уклончивое письмо на бланке АПН от 6 февраля 1974 г.:
Козлова я больше не видел, но свою оценку его агентурных качеств пересмотрел. Не исключаю даже, что развернув мои аргументы перед начальством, он добился-таки изменений в разнарядках. И, как говорят в таких случаях американцы, laughed all the way to the bank (смеялся все время по дороге в банк).








