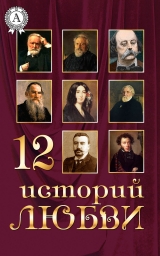
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Александр Дюма
Соавторы: Александр Пушкин,Лев Толстой,Александр Куприн,Иван Тургенев,Уильям Шекспир,Виктор Гюго,Александр Грин,Жорж Санд,Николай Лесков,Гюстав Флобер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 294 страниц)
Бедный поэт! Бедный Гренгуар! Грохот пушек на башне Сен-Жан, залп из двадцати пищалей, выстрел из знаменитой серпентины на башне Бильи, – один выстрел из которой во время осады Парижа бургундцами убил 29 сентября 1465 года семь бургундцев, – даже взрыв всего пороха, хранившегося в Тампльской башне, не так сильно поразили бы его слух в этот торжественный и драматический момент, как следующие немногие слова, вылетевшие из уст привратника:
– Его высокопреосвященство, г. кардинал Бурбонский.
Не то, чтобы Пьер Гренгуар боялся господина кардинала или презирал его. Он не был ни настолько слаб, ни настолько самонадеян; он был настоящим эклектиком, как мы выразились бы теперь, он принадлежал к числу тех возвышенных и твердых, умеренных и спокойных людей, которые всегда умеют всюду найтись, попасть в точку, к числу здраво– и свободно-мыслящих философов, воздававших, однако же, должное философам, к тому драгоценному и никогда не переводящемуся племени философов, которым их мудрость как бы дала в руки Ариаднину нить, с помощью которой они безбоязненно могут пройти по лабиринту жизни. Они встречаются во всякое время, все те же, т. е. постоянно приноравливающиеся ко времени. Не говоря уже о нашем Пьере Гренгуаре, который мог бы считаться представителем их в XV столетии, если бы нам удалось оттенить его так, как он того заслуживает, – не подлежит сомнению, что ничем иным, как их духом вдохновлялся дю-Брёль в то время, когда он, в шестнадцатом столетии, писал следующие наивные слова достойные перейти из века в век: «Я парижанин по рождению и парижанин по манере говорить, ибо «parrhisia» по-гречески означает свободу слова; а я этой свободой пользовался даже в сношениях моих с гг. кардиналами, дядей и братом г. принца Конти, относясь, понятно, с должным уважением к их высокому сану и не оскорбляя никого из их свиты, которая была немалочисленная».
Итак в неприятном впечатлении, произведенном на Пьера Гренгуара появлением кардинала, пи малейшей роли не играла ни ненависть, ни презрение к нему. Напротив, у нашего поэта было слишком много здравого смысла и слишком потертый балахон, чтобы не придавать особенного значения тому, чтобы до уха высокопреосвященного дошел тот или другой намек его пролога, а в особенности прославление дельфина, сына французского льва. Но дело в том, что у поэтических натур личный интерес обыкновенно отступает на задний план. Если представить себе, что целое поэта изображается цифрой 10, то химик, подвергнув его тщательному анализу и разложив его на части, нашел бы 9/10 самолюбия и только одну десятую соображения со своими интересами. Ну, так вот именно в то самое время, когда привратник распахнул двери перед кардиналом эти девять десятых самолюбия Гренгуара, еще раздувшиеся и увеличившиеся в объеме вследствие лестного для него одобрения публики, окончательно поглотили в себе ту ничтожную частицу интереса, которую мы только что отметили в натуре поэта, – эту, впрочем, драгоценную составную часть его существа, этот реальный и человеческий балласт, не будь которого, он бы никогда не прикасался к земле, а все парил бы в воздухе. Гренгуар наслаждался тем, что чувствовал, видел, так сказать, ощупывал целое собрание, – ротозеев, правда, но что ему было за дело до этого, – пораженное, окаменевшее и как бы задыхавшееся от нескончаемых тирад сыпавшихся, как из рога изобилия, из всех частей его свадебной поэмы. Я смело утверждаю, что он сам разделял всеобщий восторг, и что совершено наоборот тому, как поступил Лафонтен, который при представлении его комедии «Флорентин» спрашивал: «какой это болван написал такую чушь?» – он готов был спросить своего соседа: «Чье это прекрасное произведение?» Можно представить себе поэтому, какое впечатление произвело на него шумное и столь неуместное появление кардинала.
К сожалению, опасения его вполне оправдались. Прибытие его преосвященства переполошило всю аудиторию, все головы повернулись к предназначенной для кардинала эстраде, и из всех уст раздались восклицания:
– Кардинал! Кардинал!
Несчастный пролог был прерван вторично.
Кардинал остановился на минуту у входа на эстраду и обвел аудиторию довольно равнодушным взором. Шум усилился; всякий хотел видеть кардинала, вставал, поднимался на носки.
И, действительно, кардинал был достоин того, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. Карл, кардинал Бурбон, архиепископ и граф Лионский, примас Галлии, находился одновременно в родственных отношениях и с Людовиком XI, через брата своего Пьера, герцога Боже, женатого на старшей дочери короля, и с Карлом Смелым, герцогом Бургундским, по матери своей, Анне Бургундской. А между тем, преобладающим и выдающимся отличительным качеством характера примаса Галлии были раболепие перед властью и низкопоклонство. Можно представить себе многочисленные затруднения, возникавшие для него из его двойного родства. Сколько подводных камней ему приходилось обходить, чтобы не разбить свое духовное судно ни об Людовика, ни об Карла, чтобы миновать и Харибду и Сциллу, эту Сциллу, пожравшую уже герцога Немурского и коннетабля Сен-Поля. Однако, ему, благодаря Бога, удалось совершить довольно счастливо свое путешествие и достигнуть кардинальской мантии, не потерпев серьезного крушения. Но хотя он добрался уже до гавани, и именно потому, что он добрался до гавани, он не мог спокойно вспоминать различных перипетий своей тревожной и бурной политической жизни. Он имел обыкновение говорить, что 1476 год был для него и черен, и бел, разумея под этим, что он лишился в этот год и матери своей, герцогини Бурбонской, и двоюродного брата своего, герцога Бургундского, и что последняя потеря утешила его за первую.
Впрочем, это был человек добрый. Несмотря на свой духовный сан, он вел веселую жизнь, охотно попивал вино Шальо из королевских виноградников, ухаживал за Гишардой Ла-Гармуаз и Томазой Ла-Сальярд, любил благотворить более красивым девушкам, чем старухам, и за все это пользовался большою популярностью среди парижского населения. Он окружил себя особым маленьким двором, составленным из епископов и аббатов, принадлежавших к хорошим семействам, веселых, любезных и любивших пожуировать; и не раз набожные женщины прихода Сен– Жермен-Л'Оксерруа, проходя по вечерам под освещенными окнами Бурбонского дворца, были не мало скандализованы, слыша, как те же голоса, которые еще недавно распевали духовные песни во время вечерен, распевали, при чокании стаканов, застольную песенку папы Бенедикта XII: «Будем пить по-папски».
Эта-то, вполне заслуженная им популярность, избавила его, по всей вероятности, при появлении его в зале от всякого враждебного приема со стороны собравшейся здесь толпы, еще за минуту перед тем столь недовольной и нерасположенной относиться с особенным уважением к папе в тот самый день, когда она собиралась избрать папу. Но парижане – народ, вообще, не злопамятный; и к тому же, настояв на том, чтобы представление началось ранее прибытия кардинала, они чувствовали, что одержали победу над последним, с них было достаточно этого торжества. Наконец, кардинал Бурбонский был красавец собою, пурпурная мантия шла к нему как нельзя лучше, а из этого следует, что на его стороне были все женщины, т. е. добрая половина аудитории; а в глазах их было несправедливо и бестактно освистать такого красивого и нарядного кардинала только за то, что он заставил несколько подождать себя.
Итак, он вошел, поклонился присутствующим с шаблонной в таких случаях улыбкой, с которою сильные мира сего обыкновенно кланяются народу, и медленно направился к приготовленному для него креслу алого бархата, думая, однако, очевидно, о чем-то совершенно ином. Свита его, или то, что мы назвали бы ныне его штаб, состоявший из епископов и аббатов, последовала за ним на эстраду, тоже привлекая на себя внимание и возбуждая любопытство присутствующих. Всякий старался указать на того или другого из них своему соседу, назвать по имени, обнаружить, что и он знает этих важных особ: тот называл монсеньора Алоде, если память не изменяет мне, епископа марсельского; другой – Робера де-Леспинасса, аббата Сен-Жерменской церкви, этого развратного брата одной из фавориток Людовика XI; и все это сопровождалось разными шуточками и насмешками. Особенно шумели школьники: это был их праздник, день всяческих дурачеств, их сатурналии, ежегодная оргия школяров и писцов. В этот день все дозволялось, всякая пошлость. К тому же в толпе были и известные всему городу женщины лёгкого поведения: Симона Катрливр, Агнесса Ла-Гадин, Робона Пьедебу. Неужели же не посквернословить и не побогохульствовать в такой день, в такой честной компании? Они и не упускали делать это, и в воздухе так и носились разные крепкие словца, срывавшиеся с уст школяров, которые в другое время не решались бы и разинуть рта, из опасения различных, довольно неприятного свойства дисциплинарных наказаний. Бедный Людовик Святой, во что превратился в этот день бывший его дворец! Каждый из этих сорванцов избрал предметом своих насмешек какую-либо из появившихся на эстраде черных или белых, или серых, или фиолетовых ряс. Что касается Жанна Фролло-де-Молендино, то он, в качестве брата протодиакона, избрал предметом своих насмешек пурпурную мантию и распевал во всю глотку, нагло уставив глаза свои на кардинала:
– Голова, набитая соломой!
Но все эти частности, о которых мы повествуем читателям, до того покрывались общим шумом и гамом, что едва ли достигали почетной эстрады в определенных членораздельных звуках. А, впрочем, даже и в противном случае кардинал вряд ли обратил бы на них особое внимание, так как в праздник шутов принято было смотреть на многое сквозь пальцы. К тому же у него была другая забота, и это читалось даже на его лице, – а именно фландрское посольство, вошедшее почти одновременно с ним на эстраду. Не то, чтобы он был глубокомысленный политик и чтобы его особенно занимали возможные последствия брака кузины его, Маргариты Бургундской, с кузеном его Карлом, наследным принцем австрийским; его мало беспокоило и то, как долго продержится этот искусственным образом созданный союз между королем Франции и австрийским герцогом, и как отнесется король Англии к этому пренебрежению его дочери. Он каждый вечер попивал свое доброе вино Шальо, ни мало не подозревая, что несколько бутылок этого самого вина (правда, несколько подправленного доктором Коктье), радушно предложенных Людовиком XI Эдуарду IV, в одно прекрасное утро избавят первого от последнего. Многоуважаемое посольство господина герцога Австрийского не причиняло кардиналу никаких подобного рода забот, но оно было неприятно ему в другом отношении. Ему было досадно, как мы говорили уже выше, что ему, Карлу Бурбонскому, приходилось чествовать каких-то мещан, ему, кардиналу, любезничать с какими-то мещанами, ему, веселому жуиру-французу, возиться с какими-то потребителями пива, – и притом еще публично. Во всяком случае, это было одно из самих неприятных для него одолжений, которые ему когда-либо приходилось делать королю.
Однако когда привратник возвестил звучным голосом: – Господа посланники герцога австрийского! – он, как истый царедворец, с самой любезной улыбкой повернулся к входной двери; нечего и говорить, что туда же обернулись и взоры всех прочих присутствующих.
Затем стали входить попарно, с важным видом, составляющим резкий контраст с веселой духовной свитой самого кардинала, сорок восемь послов Максимилиана Австрийского, с преподобным Иоанном, сен-бертенским аббатом, канцлером ордена Золотого Руна, и с Яковом де-Гуа-Доби, старшим бургомистром Гента, во главе. В зале водворилось молчание, лишь изредка прерываемое сдержанным смехом, когда привратник провозглашал неудобопроизносимые фламандские имена и странные титулы гг. послов, безбожно коверкая первые. Тут были и Лоис Ролов, бургомистр города Лёвена, и Клас фан-Этульде, бургомистр Брюсселя, и Павел фан-Бейст-Вормозель, президент Фландрской провинции, и Ян Колегенс, бургомистр Антверпена, и Георгий де-ла-Мур, старший ратман города Гента, и Гельдольф-ван-дер-Хаге, младший ратман того же города, и какие-то господа Бирбек, Пиннок, Демарзель и пр., и пр., – и все бургомистры, ратманы, старшины, старшины, ратманы, бургомистры. И все они держались прямо, точно аршин проглотили, все они были одеты по-праздничному в бархат и парчу, с черными бархатными шапками на голове, украшенными золотыми кисточками. Вообще, это были добрые фламандские лица, почтенные и строгие, в роде тех, которые Рембрандт так мастерски вывел на темном фоне своего «Ночного патруля». На всех этих лицах как будто так и написано было, что Максимилиан Австрийский имел полное право, как сказано было в его манифесте, «вполне положиться на их здравый смысл, бдительность, честность, осторожность и рассудительность».
Впрочем, один из послов составлял некоторое исключение. У него было умное и хитрое лицо, представлявшее собою как бы смесь морды обезьяны и лица дипломата. Кардинал сделал ему навстречу несколько шагов и отвесил ему низкий поклон. Это был Вильгельм Рим, советник и пенсионер города Гента.
В то время мало кто знал, кто таков был Вильгельм Рим. А между тем, это был человек недюжинный, который в другие, более беспокойные времена не преминул бы всплыть на поверхность и играть видную роль, но который по тогдашним обстоятельствам, в XV веке, должен был ограничиваться мелочными интригами и заниматься подпольной работой, как выражается герцог Сен-Симон. Впрочем, его оценил по достоинству первый сапер тогдашней Европы: он находился в постоянных сношениях с Людовиком XI и часто помогал этому королю в его темных делишках. Но все это было неизвестно собравшейся в зале толпе, которая поэтому немало удивлялась предупредительности кардинала по отношению к этой невзрачной фигуре фламандского бургомистра.
Между тем, как гентский пенсионер и кардинал обменивались низкими поклонами и несколькими, сказанными шепотом, словами, – к Вильгельму Риму подошла высокая, широкоплечая, широколицая особа, производившая рядом с последним впечатление бульдога, поместившегося рядом с лисицей. Его простая войлочная шляпа и его кожаный плащ составляли резкий контраст с окружавшими его бархатом и шелком. Предполагая, что это какой-нибудь затесавшийся не в свое место конюх, привратник остановил его словами:
– Эй, приятель, сюда нельзя!
Человек в кожаном плаще оттолкнул привратника плечом и произнес громким голосом, обратившим на него внимание всех присутствующих:
– Чего этому шуту нужно от меня? Разве ты не видишь, кто я?
– Ваше имя? – спросил привратник.
– Жак Коппеноль.
– Ваше звание?
– Чулочник, под вывеской «Трех цепочек», в Генте.
Привратник отступил. Докладывать о бургомистрах и ратманах – еще куда ни шло; но докладывать о чулочнике, – это уже ни на что не было похоже. Кардинал стоял точно на иголках. Вся публика смотрела в его сторону и слушала. Вот уже два дня, иго его преосвященство старался как-нибудь оболванить этих фламандских медведей и сделать их сколько-нибудь способными явиться в публичном месте, – и вдруг такой казус! Однако, Вильгельм Рим, ехидно улыбаясь, приблизился к привратнику и сказал ему шепотом:
– Доложите: Жак Коппеноль, секретарь совета старшин города Гента.
– Привратник, – повторил кардинал вслух: – доложите – Жак Коппеноль, секретарь совета старшин славного города Гента.
Это, с его стороны, было ошибкой. Вильгельму Риму, быть может, и удалось бы одному устранить затруднение. Но, услышав слова кардинала, Жак Коппеноль воскликнул громовым голосом:
– Нет, черт возьми! Доложи: Жак Коппеноль, чулочник. Слышишь ли, привратник? Не более и не менее. Разве чулочник не человек? Г. эрцгерцог не раз забирал у меня чулки для себя!
Раздались рукоплесканий и смех. Парижане всегда любили подобные выходки и поэтому отнеслись к оригиналу весьма благосклонно. Нужно еще заметить, что Коппеноль был человек из народа, и что его окружало преимущественно простонародье. Поэтому он сразу расположил к себе толпу, увидевшую в нем своего брата. Высокомерная выходка фламандского чулочника, шокировавшая людей высокопоставленных, пришлась как нельзя более по душе простому народу, у которого уже в XV веке бродила в головах мысль о равенстве. «Молодец чулочник, являющийся к кардиналу, как равный к равному!» – вот что невольно думал каждый, которому, быть может, не раз приходилось низко кланяться лакею кого-либо из сильных мира сего.
Коппеноль не без сознания собственного своего достоинства поклонился его высокопреосвященству, который вежливо ответил на этот поклон нового союзника Людовика XI. Затем, между тем как Вильгельм Рим, этот хитрый и пронырливый человек, следовал за ними с насмешливой улыбкой на устах, они добрались до своих мест, кардинал с недовольным и мрачным видом, а Коппеноль – спокойный и гордый, сознававший, по всей вероятности, в душе своей, что его титул чулочника ничем не хуже любого иного титула, и что Мария Бургундская, мать той самой Маргариты, которую приехал сватать Коппеноль, боялась бы его менее, если б он был кардиналом, а не чулочником: ведь кардинал не взбунтовал бы жителей Гента против любовников дочери Карла Смелого; кардинал не убедил бы своих сограждан не поддаваться на просьбы и слезы герцогини, когда та явилась даже у подножия эшафота просить за своих любовников. А между тем, чулочнику достаточно было только поднять свою облеченную в кожаный рукав руку, чтобы заставить покатиться по плахе головы знатных вельмож – канцлера Вильгельма Гюгонета и Гюи д’Эмберкура.
Однако испытаниям многострадального кардинала еще не наступил конец, и он должен был испить до дна чашу в такой неприятной компании.
Читатель, быть может, не забыл того наглого нищего, который с самого начала представления взобрался на балдахин, возвышавшийся над кардинальской эстрадой. Прибытие знатных гостей не заставило его покинуть своего места, и между тем, как прелаты и послы усаживались, точно голландские сельди, на местах, устроенных на эстраде, он, поджав под себя ноги, весьма удобно расположился на перекладине. Однако, в первое время никто не обратил внимания на эту дерзкую выходку, так как всеобщее внимание было отвлечено в другую сторону. Он тоже, казалось, не обращал никакого внимания на то, что происходило в зале: он покачивал головой с беззаботностью неаполитанского лаццарони, повторяя по временам машинально, среди всеобщего шума: – «Подайте милостыню, Христа ради!» И из всех присутствующих он один, вероятно, не удостоил повернуть голову в ту сторону, где происходил крупный разговор между Коппенолем и привратником. Но случилось так, что гентский чулочник, к которому толпа внезапно почувствовала такую симпатию и на которого устремлены были все взоры, уселся на эстраде в первом ряду, как раз под тем местом, где восседал нищий; и не мало было всеобщее удивление, когда фламандский посол, глянув на молодца, так комфортабельно расположившегося около него, фамильярно потрепал его по плечу, покрытому лохмотьями. Нищий обернулся; сначала они оба посмотрели друг на друга с удивлением, затем, по-видимому, узнали друг друга, и лица их просияли; наконец, чулочник и калека, не обращая ни малейшего внимания на многочисленных зрителей, принялись потихоньку беседовать, взявшись за руки, при чем лохмотья Клопена Трульефу, оттеняясь на яркой позолоте эстрады, производили впечатление червяка на апельсине.
Странность этой сцены до того поразила и развеселила толпу, что даже кардинал, наконец, обратил на это внимание. Он наклонился, но так как с того места, где он сидел, он мог разглядеть только более чем неблестящий костюм Трульефу, то он, весьма понятным образом, вообразил себе, что нищий просит милостыни у одного из послов, и, возмутившись этой наглостью, он воскликнул:
– Г. пристав, вышвырните-ка в реку этого негодяя!
– Что вы, что вы, г. кардинал! – сказал Коппеноль, не выпуская руки нищего, – это приятель мой!
– Браво, браво! – заорала толпа, и начиная с этой минуты Жак Коппеноль сделался не менее популярным у парижской черни, чем у гентской: ей понравились его простота и бесцеремонность.
Кардинал закусил себе губы, нагнулся к своему соседу, аббату церкви св. Женевьевы, и сказал ему вполголоса:
– Однако, забавных же послов прислал нам, в качестве сватов, г. эрцгерцог.
– Ваше преосвященство, – ответил аббат: – напрасно относитесь с такою предупредительностью к этим фламандским боровам. Не мечите бисера перед свиньями!
– Вернее будет сказать – свиней перед бисером… – заметил кардинал, улыбнувшись.
Весь маленький двор кардинала пришел в восторг от этой игры слов. Кардинал почувствовал некоторое облегчение: он расквитался с Коппенолем и, кстати, сказал удачный каламбур.
Теперь пусть те из наших читателей, которые имеют способность обобщить какую-нибудь картину или идею, как нынче принято говорить, позволят нам предложить им вопрос – могут ли они составить себе ясное понятие о том зрелище, которое в настоящую минуту представлял обширный параллелограмм большой залы судебного здания? Посреди залы прислоненная к западной стене, возвышалась пространная и роскошная эстрада, на которую всходили один за другим, в небольшую стрельчатую дверь, разные высокопоставленные лица, имена которых выкрикивал привратник. На первых скамейках сидели более почетные лица, укутанные в горностаевый мех, пурпур и бархат. Вокруг эстрады, на которой царило величественное молчание, под нею, насупротив, словом, всюду шум и толкотня. Тысячи взоров обращены были на эстраду, тысячи уст шепотом повторяли имена занимавших её лиц. Во всяком случае, любопытное зрелище, достойное обратить на себя внимание толпы. Но что это там, в углублении, за подмостки, с четырьмя полосатыми фиглярами на них и четырьмя другими под ними? Что это за человек стоит возле подмостков, в черном сюртуке и с бледным лицом? Увы! любезный читатель, это Пьер Гренгуар со своим прологом. А ведь мы совсем было забыли о них.
Случилось именно то, чего он опасался. С тех пор, как вошел кардинал, Гренгуар не переставал суетиться, стараясь спасти свой пролог. Сначала он убеждал актеров, остановившихся играть, продолжать и говорить погромче. Затем, убедившись в том, что никто их не слушает, он сам же остановил их, и в течение четвертьчасового перерыва не переставал топать ногою, судорожно потирать руки, обращаться к Жискетте и Лиенарде, убеждать своих соседей в том, что пролог сейчас возобновится. Но все было тщетно: никто не сводил глаз с кардинала, с послов, с эстрады, сделавшихся фокусом, на котором сосредоточились все взоры. Нужно полагать также, – и мы высказываем это с сожалением, – что пролог начал уже порядком-таки надоедать аудитории в то время, как прибытие кардинала произвело такую неприятную для автора диверсию. В конце концов, на эстраде, как и на мраморном столе, разыгрывалось, в сущности, одно и то же представление – столкновение дворянства, духовенства, торговли и труда; а многие предпочитали даже видеть представителей этих четырех классов общества живыми, дышащими, разговаривающими, кланяющимися друг другу, олицетворенными в лице фламандских послов, кардинала и его свиты, Коппеноля и его нового собеседника, чем нарумяненными, наряженными, говорящими какими-то стихами, изображающими из себя каких– то чучел, облеченных, по воле Гренгуара, в белые и желтые хламиды.
Однако поэт наш, заметив, что тишина более или менее водворилась, вздумал пуститься на такой фортель, который, по его Мнению, мог все спасти.
– А что, сударь, – сказал он, обращаясь к одному из своих соседей, добродушному на вид толстяку с лоснящейся физиономией, – что если бы начать сызнова?
– Что начать? – спросил сосед.
– Как что? Понятно, мистерию, – ответил Гренгуар.
– Ну что ж! Как вам будет угодно… – произнес сосед.
Этого полуодобрения было достаточно для Гренгуара. Замешавшись в толпу, он стал кричать, изображая собою голос из публики:
– Начните сызнова мистерию, начните сызнова!
– Ах, черт возьми! – сказал Жан дю-Мулен, – что они там горланят, на том конце? (ибо Гренгуар кричал за четверых.) – Послушайте-ка, ребята, неужели мистерия еще не окончена? А они хотят начать ее сызнова: это не порядок.
– Ненужно, ненужно! – закричали школьники. – Прочь мистерию, прочь!
Но Гренгуар не хотел сдаваться и кричал пуще прежнего:
– Начните сызнова! Начните сызнова!
Эти крики обратили на себя внимание кардинала. —
– Г. судья, – сказал он высокому, черному человеку, одетому в черное и стоявшему в нескольких шагах от него, – что эти шуты гороховые подняли за возню, точно бес перед заутреней?
Судья, которому в этот день выпало исполнять полицейские обязанности, так как представление происходило в подведомственном ему здании суда, приблизился к кардиналу и, опасаясь возбудить его неудовольствие, принялся, заикаясь, объяснять ему причину неудовольствия толпы, доложив ему, что так как в 12 часов его преосвященство еще не изволил пожаловать, то актеры и вынуждены были начать представление, не дождавшись его преосвященства.
Кардинал расхохотался и сказал:
– А жаль, что г. ректор университета не поступил таким же образом! Что вы на это скажете, г. Вильгельм Рим?
– Я полагаю, монсеньор, – ответил Рим: – что мы должны радоваться тому, что избавились от целой половины представления. Ведь это чего-нибудь да стоит!
– Могут ли эти шуты гороховые продолжать свое представление? – спросил судья.
– Пусть, пусть продолжают… – ответил кардинал: – мне все равно, – я тем временем буду читать свой требник.
Судья приблизился к эстраде и закричал, водворив молчание жестом руки:
– Граждане, обыватели и иногородние! Для того, чтобы примирить тех, которые желают, чтобы представление кончилось, и тех, которые желают, чтобы оно началось сызнова, его преосвященство изволил приказать, чтобы оно продолжалось.
И той, и другой стороне пришлось подчиниться желанию кардинала; однако, и публика, и автор остались одинаково недовольны таким его распоряжением.
Действующие лица мистерии принялись читать стихи, и Гренгуар надеялся было, что, по крайней мере, остальная часть его произведения будет выслушана публикой. Но и этой надежде его так же мало суждено было сбыться, как и остальным. Среди слушателей, действительно, водворилась некоторая тишина; но Гренгуар не заметил, что в то время, когда кардинал отдал приказание продолжать, эстрада была еще далеко не вся наполнена публикой, и что после фландрских послов явилось еще много других знатных лиц, имена и звания которых громогласно возвещались привратником среди диалогов актеров и совершенно уничтожали впечатление этих диалогов. Действительно, пусть только читатель представит себе театральную залу, в которой на сцене декламируются стихи, между тем, как привратник, между двумя стихами, или даже между двумя полустишиями, кидает восклицания в роде следующих:
– Господин Жак Шармолю, королевский прокурор при духовном судилище!
– Жак де-Гарлей, начальник ночных караулов города Парижа!
– Г. Галио-де-Женольяк, барон Брюссак, кавалер и фельдцейхмейстер короля.
– Г. Дрё-Рагье, инспектор королевских лесов во Франции, Шампани и Бри!
– Г. Луи де-Гравиль, кавалер, камергер, адмирал, хранитель Венсенского леса!
– Г. Дени Лемерсье, директор убежищ слепых в Париже!
И т. д., и т. д. – Просто становилось невыносимо!
Этот странный аккомпанемент, при котором почти невозможно было следить за ходом пьесы, тем более бесил Гренгуара, что он не мог скрыть от себя, что интерес зрителей к его произведению все более и более увеличивался и что этот интерес еще усилился бы, если б они могли спокойно выслушать его. Действительно, трудно было придумать более остроумные и драматические сочетания. Четыре аллегорических лица, выступивших в прологе, продолжали ныть и жаловаться, когда перед ними предстала Венера, одетая в красивый тюник, на материи которого были вышиты гербы города Парижа. Она явилась для того, чтобы требовать дофина, обещанного самой красивой женщине на свете.
Юпитер, гремя своим громом в гардеробной, тоже явился, чтобы поддерживать ее требование, и богиня уже готова была восторжествовать, т. е., говоря попросту, выйти замуж за г. дофина, когда ребенок, одетый весь в белое и державший в руке, маргаритку (очень прозрачное олицетворение принцессы Фландрской), явился оспаривать дофина у Венеры. Это был кульминационный пункт мистерии. После некоторых пререканий Венера, Маргарита и все четыре аллегорических лица порешили отдать дело на суд Пресвятой Богородицы. Тут же каким-то образом затесался и какой-то дон-Педро, царь Месопотамский; но среди бесконечных перерывов трудно было разобрать, какую, собственно, роль он здесь играл. Словом, все было поставлено на очень высокую ногу.
Но, увы! все эти красоты прошли непонятыми и непрочувствованными. По прибытии кардинала, точно какая– то невидимая волшебная нитка внезапно протянула все взоры от мраморного стола к эстраде, от южного конца зала к западному, и ничто не в состоянии было разрушить волшебства, под влиянием которого находилась аудитория. Все взоры продолжали обращаться к эстраде, и новоприбывшие, и проклятые имена их, и лица, и костюмы их не переставали отвлекать внимание публики. Гренгуар приходил в отчаяние. За исключением Жискетты и Лиенарды, которые по временам оборачивались к сцене, да и то тогда, когда Гренгуар дергал их за рукав, за исключением толстого, терпеливого соседа Гренгуара, никто не слушал, никто не смотрел на злополучное детище его музы. Все обратились к сцене профилем.
С какою горечью смотрел он, как отваливался один камень за другим от сооруженного им с таким трудом пьедестала поэтической славы! И подумать при этом, что эта же самая публика еще так недавно чуть-чуть не взбунтовалась против распорядителей, до такой степени доходило нетерпеливое желание ее поскорее услышать его пьесу! А теперь, когда она могла наслаждаться ею, никто и не думал о ней! А как хорошо, какими единодушными знаками одобрения началось представление! Таков уж вечный закон прилива и отлива народного расположения! И подумать, что эта самая публика чуть не повесила четырех приставов за то, что недостаточно скоро начиналось представление. Как сладок был для Гренгуара этот час торжества, но как он был и краток!
Однако, несносным монологам привратника настал-таки конец, все уже были на местах, и Гренгуар вздохнул свободнее. Актеры снова бойко принялись за свои роли. Но нужно же было случиться так, что вдруг поднимается с своего места чулочник Коппеноль и, к ужасу Гренгуара, обращается к публике, среди всеобщего внимания, с следующей ужасной речью:








