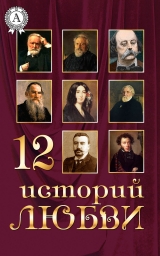
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Александр Дюма
Соавторы: Александр Пушкин,Лев Толстой,Александр Куприн,Иван Тургенев,Уильям Шекспир,Виктор Гюго,Александр Грин,Жорж Санд,Николай Лесков,Гюстав Флобер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 148 (всего у книги 294 страниц)
– Я вас понимаю, – сказал нотариус. – Человек науки не должен затруднять себя мелочами практической жизни.
Это лукавое замечание утешило Шарля: оно прикрывало его слабость лестною видимостью более возвышенных занятий.
Что было в следующий четверг, в гостинице, в их с Леоном комнате! Эмма смеялась, плакала, пела, плясала, заказывала шербеты, хотела курить папиросы, показалась любовнику экстравагантной, но великолепной, очаровательной.
Он не знал, какая реакция происходила во всем ее существе, когда она все глубже и глубже уходила в наслаждение жизнью. Она стала раздражительной, привередливой и чувственной; она гуляла с ним по улицам, высоко неся голову, и говорила, что не боится скомпрометировать себя. И все же порой она внезапно вздрагивала при мысли о возможной встрече с Родольфом: хотя они и расстались навсегда, ей казалось, что она не совсем еще освободилась от его власти.
Однажды вечером Эмма даже не вернулась в Ионвиль. Шарль совсем потерял голову, а маленькая Берта не хотела ложиться спать без мамы и так рыдала, что у нее чуть не разрывалась грудка. Жюстен на всякий случай вышел на дорогу. Г-н Омэ покинул свою аптеку.
Наконец Шарль не выдержал. В одиннадцать часов он запряг свой шарабанчик, вскочил на сиденье, стал нахлестывать лошадь и к двум часам ночи приехал в «Красный крест». Никого! Он подумал, что, может быть, Эмму видел клерк; но где же он живет? К счастью, Шарль вспомнил адрес его патрона. Он побежал туда.
Начинало светать. Шарль разглядел дощечку над дверью; постучался. Кто-то, не открывая, с криком ответил ему на вопрос и вдобавок крепко обругал всех, кто беспокоит людей по ночам.
В доме, где жил клерк, не оказалось ни звонка, ни молотка, ни привратника. Шарль застучал кулаком в ставни. Показался полицейский; тогда Шарль испугался и ушел.
«Я с ума спятил, – говорил он сам с собой. – Она, наверно, осталась обедать у господина Лормо».
Семейство Лормо уже не жило в Руане.
«Значит, она ухаживает за госпожой Дюбрейль. Ах, да ведь госпожа Дюбрейль вот уж десять месяцев как умерла!.. Так где же она?»
Ему пришла в голову новая мысль. Он зашел в кафе, спросил «Ежегодный справочник» и быстро отыскал в нем девицу Лемперер. Оказалось, что она проживает по улице Ренель-де-Марокинье, в доме № 74.
Когда он свернул в эту улицу, на другой стороне вдруг показалась сама Эмма; он даже не обнял ее, а прямо набросился с криком:
– Почему ты вчера не приехала?
– Я захворала!
– Чем?.. Где?.. Как?..
Она провела рукой по лбу и ответила:
– У мадмуазель Лемперер.
– Это я и думал! Я бежал к ней.
– О, не стоило, – сказала Эмма. – Она только что ушла. Но впредь, пожалуйста, не беспокойся так. Ты ведь понимаешь, я не могу чувствовать себя свободной, если знаю, что тебя волнует малейшее мое запоздание.
Так она установила для себя своеобразное право не стесняться в своих похождениях. И стала без всякого смущения пользоваться этим правом очень широко. Когда ей хотелось видеть Леона, она под каким-нибудь предлогом уезжала в Руан, и так как любовник ждал ее только по четвергам, то являлась прямо к нему в контору.
Сначала это всякий раз было для него великим счастьем. Но вскоре он перестал скрывать от нее истину: патрон очень недоволен его беспорядочным поведением.
– Ну, вот еще! – отвечала Эмма.
И он отмалчивался.
Эмма захотела, чтобы он одевался во все черное и отпустил эспаньолку: тогда он будет похож на портрет Людовика XIII. Она пожелала взглянуть на его комнату и нашла ее очень невзрачной; он покраснел, она этого не заметила и посоветовала ему купить такие же занавески, какие висели у нее. А когда он сказал, что это очень дорого, она рассмеялась и ответила:
– А, тебе жалко денег!
Каждый раз Леон должен был рассказывать ей все, что он делал с прошлого свидания. Она требовала стихов, стихов с посвящением, любовную поэму в свою честь; он никогда в жизни не умел срифмовать двух строчек и в конце концов списал сонет из кипсека.
Он сделал это не столько из тщеславия, сколько желая угодить ей. Он не оспаривал ее взглядов; он соглашался со всеми ее вкусами; в сущности не она, а он был ее любовницей. Она знала такие нежные слова, такие поцелуи, от которых у него замирала душа. Где впитала она в себя эту почти бесплотную, глубокую и скрытую порочность?
VIПриезжая к ней, чтобы ее повидать, Леон нередко обедал у аптекаря и однажды из вежливости счел себя обязанным пригласить его к себе.
– С удовольствием! – отвечал г-н Омэ. – Да мне и необходимо немного встряхнуться: я здесь совсем закис. Пойдем в театр, в ресторан, кутнем!
– Ах, мой друг! – нежно прошептала г-жа Омэ: ей мерещились какие-то неведомые опасности.
– Ну, в чем дело? Ведь я постоянно живу среди испарений аптечных веществ; ты думаешь, это не вредит моему здоровью? Вот они, женщины! Сперва ревнуют к науке, а потом не позволяют вам доставить себе законнейшее развлечение. Но все равно, можете на меня рассчитывать. На днях я нагряну в Руан, и мы с вами посорим мелочью.
В прежние времена аптекарь воздержался бы от подобного выражения, но теперь он вдавался в легкомысленный парижский тон, который в его глазах был признаком самого лучшего вкуса; как и его соседка, г-жа Бовари, он с любопытством расспрашивал клерка о столичных нравах и даже, желая поразить буржуа, пересыпал свою речь жаргонными словечками: тряпье, комнатенка, физия, шикозный, и вместо «я ухожу» говорил улетучиваюсь.
И вот, в один из четвергов Эмма с удивлением встретила в «Золотом льве», на кухне, г-на Омэ в дорожном костюме, то есть в старом плаще, которого никто раньше не видел. В одной руке у него был чемодан, а в другой грелка из собственной аптеки. Боясь встревожить своим отъездом клиентуру, он никому о нем не сообщил.
Его, должно быть, возбуждала мысль, что скоро он вновь увидит места, где протекала его юность; всю дорогу он не переставал рассуждать вслух; не успел дилижанс остановиться, как он поспешно выскочил из него и побежал разыскивать Леона. Как ни отбивался клерк, г-н Омэ затащил его в большое кафе «Нормандия», куда величественно вошел в шляпе: он считал, что снимать шляпу, входя в общественное место, – величайший провинциализм.
Эмма прождала Леона три четверти часа. Потом побежала к нему в контору и, теряясь во всевозможных предположениях, обвиняя его в равнодушии, а себя в слабости, простояла полдня в комнате, прижавшись лицом к оконному стеклу.
В два часа Леон и аптекарь еще сидели друг против друга за столиком. Зал пустел; золоченая листва разделанного под пальму дымохода расстилалась по белому потолку; рядом с приятелями, за стеклянной перегородкой, журчал под солнцем маленький фонтан, и брызги его падали в мраморный бассейн, где среди кресс-салата и спаржи лежали, вытянувшись, три сонных омара, а по краям – пирамидки повернутых боком перепелок.
Омэ наслаждался. Хотя роскошь и возбуждала его еще больше, чем хороший стол, но все-таки помарское немного опьянило его, и, когда подали омлет с ромом, он принялся излагать безнравственные теории о женщинах. Больше всего на свете его прельщал шик. Он обожал элегантные туалеты и хорошо меблированные будуары, в отношении же телесных качеств был неравнодушен к крошкам.
Леон безнадежно глядел на стенные часы. Аптекарь пил, ел и разглагольствовал.
– Вы, должно быть, чувствуете себя в Руане довольно одиноким, – заявил он вдруг. – Впрочем, ваш предмет живет не так уж далеко.
Клерк покраснел.
– Ну, будьте же откровенны! Неужели вы станете отрицать, что в Ионвиле у вас…
Молодой человек что-то забормотал.
– Вы ни за кем не ухаживаете у госпожи Бовари?..
– Да за кем же?
– За служанкой!
Он вовсе не шутил; но самолюбие оказалось в Леоне сильнее осторожности, и он невольно стал отрицать. Он ведь любит только брюнеток!
– Вы совершенно правы, – сказал аптекарь. – У них сильнее темперамент.
И, наклонившись к приятелю, он стал на ухо перечислять ему признаки темперамента у женщин. Он даже пустился в этнографические рассуждения: немки истеричны, француженки легкомысленны, итальянки страстны.
– А негритянки? – спросил клерк.
– Ну, это дело художественного вкуса! – сказал Омэ. – Гарсон, две полпорции.
– Что ж, идем? – нетерпеливо спросил, наконец, Леон.
– Yes.[442]442
Да (англ.).
[Закрыть]
Но перед уходом Омэ непременно захотел поговорить с хозяином и сделал ему несколько комплиментов.
Чтобы избавиться от него, молодой человек сослался на то, что ему надо идти по делу.
– О, я провожу вас! – воскликнул Омэ.
И, не отставая от него ни на шаг, заговорил о своей жене, о детях, об их будущем, о своей аптеке, рассказал, в каком упадке она была когда-то и до какого процветания он поднял ее теперь.
Дойдя до гостиницы «Булонь», Леон внезапно бросил его, взбежал по лестнице и застал Эмму в величайшем волнении.
Услышав имя аптекаря, она вышла из себя. Но Леон засыпал ее оправданиями: он не виноват, разве она сама не знает г-на Омэ? Неужели она может подумать, что он предпочел его общество? Она все отворачивалась; он цеплялся за ее платье, потом опустился на колени и, обеими руками охватив ее за талию, застыл в томной позе сладострастной неги и мольбы.
Эмма стояла неподвижно, ее огромные пылающие глаза глядели на него серьезным и почти страшным взглядом. Потом они затуманились слезами, дрогнули розовые веки, она перестала отнимать руки, и Леон уже подносил их к губам, как вдруг постучался слуга и доложил, что его спрашивает какой-то господин.
– Ты вернешься? – спросила Эмма.
– Да.
– Но когда?
– Сейчас же…
– Это просто трюк, – воскликнул аптекарь, увидев Леона. – Я хотел прекратить этот визит: мне показалось, что вам он неприятен. Пойдем к Бриду, выпьем желудочной.
Леон клялся, что ему пора в контору. Тогда фармацевт стал вышучивать бумажные дела, судебные кляузы.
– Да бросьте вы на минуту всех этих Кюжасов и Бартоло, черт побери! Что вам мешает? Будьте молодцом! Идем к Бриду; вы увидите его собаку. Это очень любопытно!
И когда клерк заупрямился, он заявил:
– Я иду с вами. Пока вы будете работать, я почитаю газеты или просмотрю ваш Свод законов.
Леон, подавленный гневом Эммы, болтовней Омэ, а может быть, и плотным завтраком, колебался, словно поддавшись какому-то гипнозу аптекаря; а тот все повторял:
– Идем к Бриду! Это всего в двух шагах на улице Мальпалю.
И Леон, по слабости, по глупости, из-за того неопределимого чувства, которое толкает нас на самые нелепые поступки, позволил увести себя к Бриду. Они застали его во дворе: он приглядывал за тремя парнями, которые, запыхавшись, вертели большое колесо машины для сельтерской воды. Омэ стал давать им советы; он обнялся с Бриду; выпили желудочной. Двадцать раз Леон собирался уходить, но Омэ удерживал его за руку и говорил:
– Сейчас! Я тоже иду. Мы забежим в «Руанский фонарь», повидаем всех этих господ. Я вас познакомлю с Томассеном.
Но Леон все-таки отделался от него и бегом бросился в гостиницу. Эммы там уже не было.
Она уехала вне себя от бешенства. Теперь она ненавидела его. Не прийти на назначенное свидание! Это казалось ей оскорблением, и она искала новых и новых оснований, чтобы порвать с Леоном: он не способен на героизм, он слабый, заурядный человек, он мягче женщины, и к тому же скуп и малодушен.
Понемногу успокоившись, она поняла, что клевещет на него. Но всякий раз, как мы осуждаем того, кого любим, это как-то отдаляет нас от него. Нельзя прикасаться к идолам: их позолота остается у нас на пальцах.
С тех пор они стали чаще говорить на темы, не относящиеся к их любви; в письмах к Леону Эмма толковала о цветах, о стихах, о луне и звездах – наивных источниках слабеющей страсти, пытающейся внешними средствами влить в себя новую жизнь! От каждого свидания Эмма ждала глубочайшего счастья, а потом невольно признавалась, что ничего необычайного не испытала. Но вскоре разочарование уступало место новой надежде, и Эмма возвращалась к любовнику еще более воспламененной, еще более жадной. Она раздевалась резкими движениями, выдергивала тонкий шнурок корсета, и он свистел на ее бедрах, как скользящая змея. Босиком, на цыпочках, она еще раз подходила к порогу проверить, заперта ли дверь, и вдруг одним жестом сбрасывала с себя все одежды и, бледная, без слов, без улыбки, с долгим содроганием прижималась к груди Леона.
Но на этом покрытом холодными каплями лбу, на этих лепечущих губах, в этих блуждающих зрачках, в этих ее объятиях было какое-то отчаяние, что-то смутное и мрачное; Леону казалось, что оно потихоньку проползает между ними, разделяет их.
Он не осмеливался задавать ей вопросы; но, думал он, она так опытна, что, наверно, уже успела в прошлом испытать все муки и все наслаждения. То самое, что когда-то очаровывало его, теперь вызывало в нем страх. Кроме того, он начинал восставать против растущего день ото дня порабощения его личности. Он не мог простить Эмме ее постоянной победы над ним. Он даже пытался разлюбить ее, но при одном звуке ее шагов снова чувствовал себя бессильным, как пьяница при виде спиртного.
Правда, она не уставала расточать ему тысячи знаков внимания, начиная с утонченности стола, кончая элегантностью туалета и томными взглядами. Она у себя на груди привозила из Ионвиля розы и осыпала ими его лицо; она выражала беспокойство о его здоровье, давала ему советы, как вести себя; чтобы крепче привязать его к себе, она, в надежде на помощь неба, повесила ему на шею ладанку с изображением пречистой девы. Она, как добрая мать, расспрашивала его о товарищах. Она говорила ему:
– Не встречайся с ними, не ходи никуда, думай только обо мне, люби меня!
Она хотела бы проследить весь образ его жизни, ей даже пришло в голову нанять человека, который наблюдал бы за ним на улице. Близ гостиницы постоянно приставал к путешественникам какой-то бродяга; он, конечно, не отказался бы… Но тут возмутилась ее гордость.
– Нет, все равно! Пусть он меня обманывает, – какое мне дело! Разве я так уж держусь за него.
Однажды, когда она раньше обычного рассталась с Леоном и одна возвращалась пешком по бульвару, ей бросились в глаза стены ее монастыря; и вот она присела на скамейку под вязами. Как спокойно жилось в те времена! Какими завидными казались ей теперь те неизъяснимые любовные чувства, которые она тогда пыталась вообразить себе по книгам!
Первые месяцы брачной жизни, лесные прогулки верхом, вальсирующий виконт, пение Лагарди – все прошло перед ее взором… И вдруг ей явился Леон – в таком же отдалении, как и прочие.
«Но ведь я его люблю!» – подумала она.
Пусть так! Все равно у нее нет и никогда не было счастья. Откуда же взялась эта неполнота жизни, это разложение, мгновенно охватывающее все, на что она пыталась опереться?.. Но если есть где-то существо сильное и прекрасное, благородная натура, исполненная и восторженных чувств, и утонченности, сердце поэта в ангельском теле, меднострунная лира, возносящая к небу трогательные эпиталамы, то почему бы им не найти случайно друг друга? О, это невозможно! Да и нет ничего, что стоило бы искать; все лжет! За каждой улыбкой скрывается скучливый зевок, за каждой радостью – проклятие, за блаженством – пресыщение, и даже от самых сладких поцелуев остается на губах лишь неутолимая жажда более высокого сладострастия.
В воздухе разнесся металлический хрип; на монастырской колокольне прозвенело четыре раза. Четыре часа! А ей казалось, что здесь, на этой скамейке, она провела целую вечность. Но в одной минуте может сосредоточиться бесчисленное множество страстей, как в узком закоулке – толпа народа.
Эмма всецело была поглощена этими страстями и о деньгах заботилась не больше какой-нибудь эрцгерцогини.
Но однажды к ней явился какой-то тщедушный, краснолицый, лысый человек и заявил, что его прислал г-н Венсар из Руана. Он вытащил булавки, которыми был заколот боковой карман его длинного зеленого сюртука, воткнул их в рукав и вежливо подал бумагу.
Это был подписанный Эммой вексель на семьсот франков: Лере нарушил все свои обещания и передал его Венсару.
Г-жа Бовари послала за Лере служанку. Он не мог прийти.
Тогда незнакомец – он все стоял, с любопытством поглядывая направо и налево из-под нависших белесых бровей, – с наивным видом спросил:
– Что сказать господину Венсару?
– Ну… – ответила Эмма, – передайте ему… что у меня нет… На той неделе… Пусть подождет… Да, на той неделе.
И человек ушел, не сказав ни слова.
Однако на другой день, в двенадцать часов, Эмма получила протест; и при одном виде гербовой бумаги, на которой в разных местах было написано большими буквами: «Судебный пристав города Бюши, мэтр Аран», так испугалась, что сейчас же побежала к торговцу тканями.
Она застала его в лавке; он перевязывал пакет.
– Ваш покорнейший слуга! – сказал он. – К вашим услугам.
Лере все же не прервал своей работы; ему помогала горбатенькая девочка лет тринадцати, которая служила у него и приказчиком и кухаркой.
Потом, стуча деревянными башмаками по ступенькам, он поднялся из лавки на второй этаж, – Эмма шла за ним, – и ввел ее в тесный кабинет, где на большом еловом письменном столе лежала стопка конторских книг, прижатая железным бруском на висячем замке. У стены виднелся за ситцевыми занавесками несгораемый шкаф, такой огромный, что в нем, наверно, должны были храниться вещи покрупнее денег и векселей. В самом деле, г-н Лере занимался закладами, – и именно здесь лежали у него золотая цепочка г-жи Бовари и серьги бедного дядюшки Телье, которому в конце концов пришлось продать свой трактир и купить в Кенкампуа крохотную бакалейную лавочку; там он стал желтее свечей, пачками громоздившихся вокруг него на полках, и умирал от катара.
Лере уселся в большое соломенное кресло и спросил:
– Что нового?
– Вот, поглядите.
И Эмма показала ему бумагу.
– Что же я могу сделать?
Тогда она вспылила, напомнила ему, что он обещал не пускать ее векселей в ход; он не стал спорить.
– Но мне больше ничего не оставалось; самому деньги были нужны дозарезу.
– Что же теперь будет? – снова заговорила Эмма.
– О, тут все очень просто: сперва суд, а там и опись… Дело табак!
Эмма сдерживалась, чтобы не ударить его. Она мягко спросила, нет ли возможности урезонить г-на Венсара.
– Ну да, как же! Урезонить Венсара! Вы его еще не знаете – он свирепей всякого ростовщика.
А все-таки г-н Лере должен вмешаться и как-нибудь помочь.
– Но послушайте! Я, кажется, до сих пор был с вами достаточно любезен.
Он открыл одну из своих книг:
– Вот!
И стал водить пальцем по странице:
– Сейчас… сейчас… 3 августа – двести франков… 17 июня – полтораста… 23 марта – сорок шесть… Апрель…
Он остановился, словно боясь допустить какую-нибудь оплошность.
– Я уже не говорю о долговых обязательствах господина доктора, – одно на семьсот франков, другое на триста! А что до ваших уплат по мелочам, рассрочек, процентов, то этому просто конца нет, запутаться можно. Я умываю руки!
Эмма плакала, она даже назвала его «милым господином Лере». Но он все взваливал на «эту собаку Венсара». К тому же у него сейчас ни сантима: никто не платит долгов, и все только тянут с него; такой бедный лавочник, как он, не может давать авансы.
Эмма умолкла; г-н Лере покусывал перо; ее молчание, должно быть, беспокоило его; вдруг он заговорил снова:
– Но, конечно, если на этих днях у меня будут какие-нибудь поступления… Я тогда смогу…
– Во всяком случае, – сказала Эмма, – как только будут остальные деньги за Барневиль…
– Что такое?..
Узнав, что Ланглуа еще не расплатился окончательно, Лере, казалось, чрезвычайно удивился. А потом заговорил медовым голосом:
– Так вы говорите, мы столкуемся?..
– О, все, что вам угодно!
Тогда он закрыл глаза, подумал, потом набросал на бумаге несколько цифр и, заявив, что все это ему очень неприятно, что дело очень скверное, что он просто пускает себе кровь, продиктовал четыре векселя по двести пятьдесят франков. Срок каждого истекал через месяц после предыдущего.
– Только бы Венсар стал меня слушать! Но как бы то ни было, решено; я не вожу за нос, у меня все начистоту.
Затем он небрежно показал кой-какие новые товары; по его мнению, ничто здесь не заслуживало внимания г-жи Бовари.
– Подумать только, вот эта материя на платье идет по семи су метр, да еще с ручательством, что не линяет! И все-таки ее так и расхватывают! Вы сами понимаете, им не рассказываешь, в чем тут дело.
Признаваясь, что он обманывает других покупателей, Лере хотел окончательно убедить Эмму в своей честности.
Потом он снова задержал ее и показал три локтя гипюра, – этот кусок ему недавно удалось найти на распродаже.
– Какая прелесть! – говорил Лере. – Теперь этот товар много берут на накидки к креслам; он в большой моде.
И тут же ловко, точно фокусник, завернул гипюр в синюю бумагу и вложил Эмме в руки.
– Но скажите по крайней мере…
– Ах, об этом после, – отвечал Лере и повернулся на каблуках.
В тот же вечер Эмма заставила Бовари написать матери, чтобы та немедленно выслала все, что осталось ему от наследства. Свекровь ответила, что у нее ничего больше нет; ликвидация закончена, и, кроме Барневиля, на долю супругов приходится шестьсот ливров годового дохода, которые она и будет аккуратно выплачивать.
Тогда г-жа Бовари отправила двум-трем пациентам счета и скоро стала очень широко пользоваться этим удачным средством. В постскриптуме она никогда не забывала добавить: «Не говорите об этом мужу: вы знаете, как он самолюбив… Извините меня, пожалуйста… Готовая к услугам…» Пришло несколько протестующих писем: она их перехватила.
Чтобы как-нибудь раздобыть денег, она принялась распродавать свои поношенные шляпки и перчатки, железный лом; она торговалась свирепо, – в ее стремлении побольше заработать сказывалась крестьянская кровь. Она решила, что во время своих поездок в город станет покупать всякие безделушки, которые у нее, конечно, будет брать г-н Лере, если не другие. И вот она накупила страусовых перьев, китайского фарфора, шкатулок; она занимала деньги у Фелиситэ, у г-жи Лефрансуа, в гостинице «Красный крест» – у всех без разбора. Получив, наконец, всю сумму за Барневиль, она оплатила два векселя; но тогда наступил срок новому – на полторы тысячи. Она снова задолжала. И так до бесконечности!
Иногда она, правда, пыталась подвести счета; но положение оказывалось таким ужасным, что она сама себе не верила. И тогда она начинала пересчитывать, очень скоро запутывалась и, махнув рукой, переставала об этом думать.
Дом ее имел теперь самый жалкий вид. Поставщики выходили оттуда в ярости. По всем каминам валялись носовые платки; маленькая Берта, к великому ужасу г-жи Омэ, ходила в дырявых чулках. Если Шарль позволял себе какое-нибудь робкое замечание, Эмма резко отвечала, что она не виновата.
Откуда эта раздражительность? Бовари объяснял все старой нервной болезнью жены; он упрекал себя, что принимает ее нездоровье за нравственные недостатки, обвинял себя в эгоизме, готов был бежать к ней с распростертыми объятиями.
«О, нет, – думал он сейчас же, – не надо ей надоедать».
И не решался подойти к ней.
После обеда Шарль один гулял в саду; он сажал к себе на колени Берту, открывал медицинский журнал и пробовал показывать ей буквы. Но девочка никогда ничему не училась; она широко открывала грустные глазки и начинала плакать. Тогда отец принимался утешать ее: приносил в лейке воду и устраивал на песке ручейки, обламывал бирючину и втыкал ветки в клумбу, будто это деревья, что не слишком безобразило сад, и без того заросший высокой травой: Лестибудуа уже так давно не получал денег! Потом Берта начинала зябнуть и спрашивала, где мама.
– Позови няню, – говорил Шарль. – Ты ведь знаешь, детка: мама не любит, чтобы ее беспокоили.
Наступала осень, уже падал лист, – совсем как два года назад, когда Эмма лежала больная. Когда же все это кончится! И он все шагал по дорожкам, заложив руки за спину.
Эмма сидела у себя в комнате. К ней никто не смел входить. Здесь она проводила целые дни, сонная, кое-как одетая, и только время от времени приказывала покурить росным ладаном, который купила в Руане у алжирца. Чтобы ночью рядом с ней не лежал и не спал ее муж, она бесконечными капризами заставила его перебраться на третий этаж и до самого утра читала нелепые романы с картинами оргий и кровавыми интригами. Часто ей становилось страшно, она вскрикивала; прибегал Шарль.
– Ах, уйди! – говорила она.
А порой, когда ее сильнее обжигало внутреннее пламя, раздуваемое преступной любовью, она, задыхаясь, взволнованная желанием, открывала окно, жадно глотала холодный воздух, распускала по ветру свои тяжелые волосы и, глядя на звезды, мечтала о прекрасном принце. Она думала о нем, о Леоне. В такие моменты Эмма с радостью отдала бы все за одно утоляющее ее свидание.
А когда оно наступало, то был ее праздник. Эмма хотела, чтобы дни свиданий с любовником были великолепны! И если он не мог покрыть всех расходов, она, не считая, тратила свои деньги; это случалось почти всякий раз. Леон пытался внушить ей, что им было бы так же хорошо и в какой-нибудь более скромной гостинице, но она находила бесконечные возражения.
Однажды Эмма вынула из ридикюля полдюжины золоченых ложечек (то был свадебный подарок дядюшки Руо) и попросила Леона сейчас же заложить их от ее имени в ломбарде; Леон побоялся себя скомпрометировать.
Подумав как следует на досуге, он нашел, что его любовница начинает вести себя как-то странно, и, пожалуй, было бы неплохо отделаться от нее.
В самом деле, его мать уже успела получить длинное анонимное письмо, в котором сообщалось, что сын ее губит себя с замужней женщиной; добродушной старушке сразу представилось вечное пугало всех семей – какое-то непонятное роковое существо, сирена, фантастическое чудовище, обитающее в глубинах любви, – и она тотчас же написала патрону своего сына, мэтру Дюбокажу. Тот повел себя в этом деле как нельзя лучше. Битых три четверти часа продержал он Леона у себя в кабинете, стараясь открыть ему глаза, указать на зияющую перед ним пропасть. Подобная интрига может впоследствии испортить молодому человеку карьеру. Он умолял его порвать эту связь, если не в своих собственных интересах, то хоть ради него, Дюбокажа!
В конце концов Леон дал слово, что больше не будет встречаться с Эммой; и он упрекал себя, что не держит обещания, вперед высчитывал все ссоры и неприятности, какие может в будущем навлечь на него эта женщина, не говоря уже о том, что по утрам, у печки, товарищи по работе и теперь донимали его насмешками. К тому же он должен был скоро получить место старшего клерка: пора стать серьезным человеком. Он уже отказался от флейты, от восторженных чувств, от воображения, ибо какой буржуа в пылу своей юности хотя бы один день, одну минуту не считал себя способным на безмерные страсти, на высокие подвиги? Самый пошлый распутник в свое время мечтал о султаншах; каждый нотариус носит в себе обломки поэта.
Теперь Леон только скучал, когда Эмма вдруг разражалась на его груди рыданиями; подобно людям, чей слух выносит музыку лишь в известном количестве, сердце его равнодушно дремало под шум страсти, в тонкостях которой не могло более разобраться.
Любовники слишком хорошо знали друг друга, чтобы испытывать ту изумленную растерянность, которая во сто раз увеличивает радость обладания. Эмма настолько же пресытилась Леоном, насколько и он устал от нее. В преступной любви она вновь видела всю будничность любви супружеской.
Но как положить этому конец? Как ни ясно ощущала Эмма всю унизительность такого жалкого счастья, она, по привычке или по испорченности, все цеплялась за него; с каждым днем она набрасывалась на него все ожесточеннее, иссушая всякую радость тоской по более высокому блаженству. Она обвиняла Леона в том, что не сбылись ее надежды, словно он нарочно обманул ее; ей даже хотелось катастрофы, которая заставила бы их разлучиться: сделать это самой у нее не хватало духу.
И все же она не переставала писать ему влюбленные письма – она была убеждена, что женщина всегда обязана писать своему любовнику.
Но, набрасывая эти письма, она видела перед собой другого человека – призрак, созданный из самых жарких ее воспоминаний, самых прекрасных книг, самых мощных желаний; понемногу он становился так реален и доступен, что она трепетала в изумлении – и все же не могла отчетливо представить его себе: подобно богу, он терялся под множеством своих атрибутов. Он жил в голубой стране, где с балконов свисают, качаясь, шелковые лестницы, жил в запахе цветов, в лунном свете. Она чувствовала его близко, – сейчас он придет и всю ее возьмет в одном лобзании. И наконец, измученная, она падала пластом: эти порывы призрачной любви были утомительнее самых крайних излишеств.
Теперь она всегда и всюду чувствовала себя совершенно разбитой. Получая вызовы в суд, гербовые бумаги, она еле глядела на них. Ей хотелось бы не жить или не просыпаться.
В праздник ми-карэм она не вернулась в Ионвиль, а пошла вечером на маскарад. На ней были бархатные штаны и красные чулки, пудреный парик с косичкой, цилиндр набекрень. Всю ночь она проплясала под яростный рев тромбонов; люди теснились к ней со всех сторон; утром она оказалась под театральной колоннадой, вместе с пятью-шестью масками из приятелей Леона, одетых матросами и грузчиками. Все говорили, что пора ужинать.
Соседние кафе были переполнены. Нашли очень посредственный ресторанчик на набережной; хозяин отвел компании крохотную комнатку на пятом этаже.
Мужчины шептались в уголке, вероятно, обсуждая предстоящие расходы. Был один клерк, два студента-медика и приказчик: какое общество для Эммы! Что касается женщин, то по одному звуку их голосов Эмма скоро догадалась, что почти все они были самого последнего разбора. Тут ей стало страшно, она отодвинулась со своим стулом подальше и опустила глаза.
Все прочие принялись за еду. Она ничего не ела; лоб ее был в огне, в веках покалывало, по коже пробегал ледяной озноб. После бала ей все еще казалось, что в голове у нее гудит, а пол ритмически сотрясается под ногами танцующих. Потом ей стало дурно от запаха пунша и сигарного дыма; она потеряла сознание, ее отнесли к окошку.
Начинало светать, и на бледном небе, в стороне холма св. Екатерины, ширилось большое пурпурное пятно. Свинцово-серая река трепетала от порывов ветра; на мостах не было ни души; гасли фонари.
Между тем Эмма пришла в себя и вспомнила о Берте, которая спала там, в Ионвиле, у няни в комнате. Но тут под окнами проехала телега, нагруженная длинными железными полосами, и оглушительный металлический грохот ударил в стены.
Эмма вдруг убежала, сбросила свой маскарадный костюм, сказала Леону, что ей пора домой, и, наконец, осталась одна в гостинице «Булонь». Все было ей невыносимо, в том числе и она сама. О, если бы можно было птицей улететь куда-нибудь далеко, в незапятнанные пространства, чтобы обрести новую молодость.








