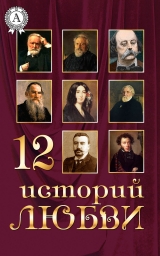
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Александр Дюма
Соавторы: Александр Пушкин,Лев Толстой,Александр Куприн,Иван Тургенев,Уильям Шекспир,Виктор Гюго,Александр Грин,Жорж Санд,Николай Лесков,Гюстав Флобер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 294 страниц)
Известный в то время кабачок «Яблоко Евы» находился в университетском квартале, на углу улиц Рондель и Батонье. Он занимал залу в нижнем этаже, довольно обширную, но очень низкую, со сводом, средняя пята которого опиралась на высокий, деревянный, выкрашенный желтой краской, свод. Она была вся уставлена столами и стены были увешаны блестящими, оловянными жбанами; большое окно выходило на улицу, а возле дверей росла виноградная лоза. Комната была переполнена посетителями, в числе которых можно было заметить немало и женщин легкого поведения. Над входной дверью красовалась, скрипевшая на крюках, вывеска, на которой изображены были какая-то женщина и яблоко. Вывеска эта вся заржавела и ходуном ходила при малейшем дуновении ветра, как бы заманивая к себе посетителей.
Уже вечерело, а переулок не был освещен. Поэтому кабачок со своими огнями светился издали, точно кузница во тьме ночной. Слышен был звон стаканов, гул попойки; сквозь разбитые окна до слуха прохожего долетали брань и крупные слова. Из-за запотелых стекол видны были сотни самых разнообразных лиц, и от времени до времени раздавался раскатистый смех. Прохожие, спешившие по своим делам, проходили мимо этого шумного окна, не заглядывая в него. Лишь по временам какой-нибудь мальчишка в лохмотьях вскарабкивался на фундамент дома и выкрикивал звонким голосом:
– Эй вы, пьяницы-бражники!
Какой-то человек прохаживался взад и вперед мимо шумной харчевни, постоянно заглядывая и не удаляясь от нее дальше, чем часовой от своей будки. Он был окутан в плащ, в который он прятал лицо свое; он только что купил этот плащ у старьевщика, открывшего свою лавочку возле самого кабачка, быть может, для того, чтобы защитить себя от холода, а, быть может, и для того, чтобы скрыть свой костюм. По временам он останавливался перед окном со свинцовой рамой, прислушивался, всматривался, топал ногами.
Наконец, дверь кабака отворилась. По-видимому, он этого то и ждал. В ней показались два бражника; сноп света, вырвавшийся из полуотворенной двери, осветил их красные и веселые физиономии. Человек, укутанный в плащ, перешел на другую сторону улицы и стал наблюдать оттуда.
– Сто тысяч чертей! – воскликнул один из бражников, – сейчас пробьет семь часов! Пора отправляться на свидание!
– Уверяю вас, – проговорил его товарищ заплетающимся языком: – что я не живу в улице сквернословия. Я живу в улице Мягкого Хлеба, по соседству с Иоанновской церковью, и вы более рогаты, чем единорог, если станете утверждать противное. Всякому известно, что тот, кто раз ездил верхом на медведе, ничего не боится. А вы… вы большой лакомка!
– Друг мой, Жан, – проговорил первый, – вы совершенно пьяны!
– Говорите, что вам угодно, Феб, – ответил второй бражник, покачнувшись, – а, тем не менее, доказано, что у Платона был профиль лица, напоминающий профиль охотничьей собаки.
Читатель, без сомнения, узнал уже обоих наших приятелей, – капитана и школяра. По-видимому, человек, следивший за ними с другой стороны улицы, также узнал их, ибо он медленными шагами следовал за обоими приятелями, из которых один выписывал ногами разные «мыслете», между тем, как капитан, более привыкший к попойкам, шел довольно твердым и верным шагом. Внимательно прислушиваясь к их разговору, укутанный в плащ человек успел подслушать следующий интересный диалог:
– Черт возьми! Да постарайтесь же идти по прямой линии, г. студент! Ведь вы знаете, что мне скоро придется покинуть вас. Уже семь часов, а у меня назначено рандеву к этому времени.
– Оставьте меня в покое! Я вижу звезды и огненные языки! А вы… вы похожи на замок Дампмартен, который покатывается от смеха.
– Клянусь прыщами моей бабушки, Жан, вы городите такую чушь, что уши вянут слушать вас. Кстати, Жан, что у вас осталось еще сколько-нибудь денег?
– Г. ректор, здесь нет ошибки: «parva boucheria» означает: «маленькая мясная лавка».
– Жан, друг мой Жан, вы знаете, что я назначил свидание этой девочке на мосту Сен-Мишель, что я могу отправиться с нею только к Фалурдель, этой торговке на мосту, и что мне придется заплатить за комнату. Неужели же, друг мой Жан, мы пропили все, что было в кошельке вашего брата? Неужели у вас ничего не осталось денег? Ведь эта старая карга не поверит мне в долг…
– Сознание, что с пользой употребил свое время, стоит дороже всяких денег.
– Черт вас побери! Перестаньте городить вздор! Скажите же, наконец, осталось ли у вас сколько-нибудь денег, или нет? Если осталось, то давайте их сюда, или я вас обыщу, хотя бы вы были такой же прокаженный, как Иов, и такой же шелудивый, как Цезарь!
– Милостивый государь, улица Галиам выходит одним концом на улицу Стекольщиков, а другим концом на улицу Ткачей.
– Да, да, мой друг Жан, мой бедный товарищ, это вы совершенно верно сказали относительно улицы Галиам. Но только, ради Бога, придите в себя. Мне нужно немного денег, а теперь уже семь часов.
– Молчать и слушать! – пробормотал Жан и затянул заплетающимся языком какую-то песню.
– Чтоб ты подавился первым же куском, который попадет тебе в глотку, проклятый школяр! – с сердцем воскликнул капитан, терпение которого окончательно лопнуло, и он сильно толкнул Жана, который, стукнувшись сначала о забор, повалился затем на мостовую. Руководимый тем чувством братского сострадания, которое никогда не покидает бражников, Феб положил голову Жана на одну из тех подушек, которые всеблагое Провидение приуготовило для бедных на всех парижских перекрестках и которые богачи презрительно клеймят названием «куча мусора». Капитан заботливо уложил голову Жана на наклонную плоскость, составленную из кочерыжек капусты, и в то же мгновение школяр захрапел густым басом. Однако, в сердце капитана все еще оставалась некоторая злоба портив Жана.
– Тем хуже для тебя, – проговорил он, обращаясь к крепко спавшему школяру, – если тебя мимоездом подберет чертова повозка! – и затем он удалился.
Давно уже следивший за ними человек, укутанный в плащ, остановился было на минуту перед лежавшим на улице Жаном, как бы не зная, на что решиться; затем, испустив глубокий вздох, он последовал за капитаном.
И мы также, следуя их примеру, оставим Жана спать под открытым небом и последуем за ними, если читатель ничего не имеет против этого.
Войдя в улицу Сент-Андре, капитан Феб заметил, что кто-то следит за ним. Случайно обернувшись, он увидел нечто вроде длинной тени, кравшейся по его следам вдоль стен. Он остановился – и тень остановилась; он снова зашагал – и тень зашагала. Это, впрочем, мало его тревожило.
Пускай его, – сказал он про себя, – ведь у меня нет ни гроша!
Перед Отенским училищем он остановился. Здесь он когда-то учился, и, вследствие оставшейся у него с отроческих лет школьнической привычки, он никогда не проходил мимо здания училища без того, чтобы не нанести поставленной против дверей училища статуе кардинала Пьера Бертрана то оскорбление, на которое так горько жалуется Приап в одной из сатир Горация, и он делал это с таким озлоблением, что надпись на подножии статуи «Епископ Эдуи» почти уже совершенно стерлась. Итак, он, по усвоенной им себе привычке, остановился перед статуей. Улица была совершенно пуста. Но в эту самую минуту, когда он небрежно застегивал пуговицы своего мундира, подняв голову кверху, он увидел приближавшуюся к нему медленными шагами тень; она приближалась столь медленными шагами, что он успел разглядеть на этой тени шляпу и плащ. Подойдя к нему, тень остановилась и стояла более неподвижная, чем статуя кардинала Бертрана, устремив на Феба два глаза, блестевшие так же, как кошачьи глаза ночью.
Капитан был нетрусливого десятка, и он не испугался бы разбойника с дубиной в руке; но, тем не менее, при виде этой ходячей статуи, этого окаменелого человека, мурашки забегали у него по спине. В то время по городу ходили разные россказни о каком-то буке, о каком-то привидении, расхаживающем ночью по парижским улицам, и эти россказни смутно пришли ему теперь на ум. Он несколько минут молча глядел на привидение и, наконец, проговорил с притворным смехом:
Милостивый государь, если вы, как я надеюсь, вор, то позвольте вам заметить, что вы представляетесь мне цаплей, ловящей орешью скорлупу. Я разорился в пух и прах, мой милый. Вот куда вам следует обратиться. В этой часовне хранится кусок дерева от настоящего креста, в оправе из чистого серебра.
Рука тени высунулась из под плаща и опустилась на плечо капитана, не менее тяжелая, чем медвежья лапа. В то же самое время тень проговорила:
– Капитан Феб де-Шатопер!
– Каким это образом, черт побери, вам известно мое имя? – воскликнул Феб.
– Я знаю не только ваше имя, но и то, что у вас па сегодняшний вечер назначено свидание! – продолжал громовым голосом человек, укутанный в плащ.
– Совершенно верно! – ответил удивленный Феб.
– В семь часов.
– Да, через четверть часа.
– У вдовы Фалурдэль.
– Именно.
– У торговки на мосту Сен-Мишель.
– Св. архангела Михаила, как говорится в молитвах.
– Безбожник! – пробормотало привидение. – Свидание с женщиной?
– Ну, конечно же, не с мужчиной!
– И эта женщина называется…
– Смеральда! – весело воскликнул Феб, к которому мало-помалу возвратилась вся его беззаботность.
При этом имени тень яростно потрясла Феба за плечо и воскликнула:
– Ты лжешь, капитан Феб де-Шатопер!
Всякий, кто увидел бы в эту минуту гневное лицо капитана, отскочившего назад с такой силой, что ему удалось вырваться из железных клещей, обхвативших его руку, гордый вид, с которым он схватился за эфес своей шпаги, и в виду этого гнева – мрачную неподвижность человека, укутанного в плащ, – невольно испугался бы. Картина эта напоминала собою свидание Дон-Жуана со статуей командора.
– Сто тысяч чертей! – воскликнул капитан, – вот слово, которое редко долетает до слуха одного из Шатоперов! Ты, конечно, не осмелишься повторить его!
– Ты лжешь! – спокойно повторила тень.
Капитан заскрежетал зубами. В эту минуту он забыл все – и буку, и привидения, и всяческие предрассудки. Он видел перед собою только человека, нанесшего ему оскорбление.
– А! коли так, хорошо же!.. – проговорил он голосом, сдавленным от злости. Он выхватил шпагу и проговорил, заикаясь, ибо и гнев заставляет человека дрожать так же, как и страх. – Сюда! Немедленно! Ну же! Обнажайте же шпагу! Пусть эта самая мостовая обагрится чьей-нибудь кровью!
Однако противник его не шевелился. Увидев капитана, вставшего в позитуру и готового ринуться на него, он проговорил голосом, дрожавшим от горечи:
– Капитан Феб, вы забываете о вашем свидании.
Вспыльчивые люди, вроде Феба, похожи на молочный суп, в который достаточно впустить каплю холодной воды, чтобы прекратить кипение его. Этого простого слова оказалось достаточным, чтобы заставить капитана опустить шпагу, сверкавшую в его руке.
– Капитан, – продолжал человек в плаще, – завтра, послезавтра, через месяц, через десять лет, вы найдете меня готовым перерезать вам горло; но прежде отправляйтесь на ваше свидание.
– Действительно, – проговорил Феб, как бы обрадовавшись сам этому предложению, – и поединок, и свидание имеют своего рода прелесть; но только я не понимаю, почему бы нам не покончить разом.
– Отправляйтесь на ваше свидание… – повторил незнакомец.
– Очень вам благодарен за вашу любезность, милостивый государь, – проговорил Феб, несколько смутившись, вкладывая свою шпагу в ножны. – Действительно, я успею еще и завтра проколоть вашу шкуру; а пока я вам бесконечно обязан за то, что вы не лишаете меня возможности провести приятный часок. Правда, я еще успел бы уложить вас спать в канаву улицы и все-таки попасть вовремя к красотке, тем более, что в подобных случаях даже полезно заставить женщину несколько ждать. Но в вас, как мне сдается, я встречу достойного себя соперника, и потому вернее будет отложить дело до завтра. Итак, я отправляюсь на свидание! Ведь вы знаете, что оно назначено в семь часов. – Тут Феб почесал у себя за ухом и воскликнул: – Ах, черт возьми, совсем было позабыл! Ведь у меня нет ни копейки для того, чтобы заплатить за комнату, а старая сводня потребует, чтобы ей заплатили вперед. К тому же, она имеет основание не особенно доверять мне.
– Вот вам чем заплатить… – проговорил незнакомец, и Феб почувствовал, как холодная рука незнакомца всунула в его руку какую-то крупную монету. Он не мог удержаться от искушения принять эту монету и пожать эту руку.
– Клянусь Богом, – воскликнул он, – вы славный малый!
– Только с одним условием, – проговорил незнакомец, – докажите мне, что вы были правы, а я неправ. Спрячьте меня в каком-нибудь углу, откуда я мог бы видеть, действительно ли эта женщина та самая, которую вы назвали.
О, это для меня совершенно безразлично! – ответил Феб. – Я возьму комнату Марты, и вам отлично можно будет разглядеть, что в ней происходит, поместившись в соседней собачьей конуре.
– Ну, так пойдемте же! – проговорил незнакомец.
– К вашим услугам! – ответил капитан. – Я не знаю, быть может, вы и сам олицетворенный дьявол; но, во всяком случае, будемте друзьями сегодня вечером. Завтра я заплачу вам все мои долги и деньгами, и шпагой.
И они быстрыми шагами двинулись в путь. По прошествии нескольких минут плеск воды возвестил им, что они достигли моста Сен-Мишель, в те времена застроенного домами.
– Я сначала проведу вас, куда следует, – сказал Феб своему спутнику, – а затем я отправлюсь за красоткой, которая должна была ожидать меня возле Малого Шатлэ.
Товарищ его ничего не ответил, и, вообще, с тех пор, как они шли вместе, он не проговорил ни слова. Наконец, Феб остановился перед какою-то низенькою дверью и сильно постучал. Сквозь щели двери показался огонь и какой-то беззубый голос спросил:
– Кто там?
Капитан ответил каким-то ругательством, служившим, очевидно, условным знаком, так как дверь немедленно отворилась, и глазам обоих гостей предстала старая женщина, державшая в руках старый светильник; и тот, и другая дрожали. Старуха вся сгорбилась, одета была в лохмотья, голова ее была повязана какою-то тряпицей, подслеповатые глаза ее смотрели тупо, лицо, руки, шея ее были в морщинах; губы ее впали, и по обеим сторонам верхней губы торчали седые волоски, придававшие ей вид кота.
Внутренность квартиры была не привлекательнее хозяйки ее. Столы были выбелены известью, почерневшие от времени балки поддерживали потолок, печь на половину развалилась, во всех углах была протянута паутина; посреди комнаты стояло несколько столов и скамеек с поломанными ножками; в золе копался какой-то грязный ребенок, а в глубине комнаты какая-то лестница упиралась в потолок.
Войдя в этот вертеп, таинственный спутник Феба поднял воротник своего плаща до самых глаз, а капитан, ругаясь и бранясь, показал старухе блестящий новенький экю, и проговорил:
– Комнату Марты…
Старуха низко поклонилась, взяла монету и положила ее в ящик стола. Это была та самая монета, которую дал капитану человек, укутанный в черный плащ. Когда она отвернулась от стола, взъерошенный и лохматый мальчик, копавшийся в золе, подкрался к ящику, проворно вытащил из него монету и положил на место ее сухой лист, сорванный им из связки прутьев.
Старуха жестом пригласила гостей своих последовать за нею и повела их вверх по лестнице. Взобравшись в верхний этаж, она поставила светильник свой на сундук, а Феб, как человек, хорошо знакомый с квартирой, отворил дверь, которая вела в темный чулан.
– Спрячьтесь вот здесь, мой милый… – сказал он своему спутнику.
Человек, укутанный в плащ, послушался его не произнося ни слова, а капитан затворил за ним дверь, заперев на задвижку, и минуту спустя шаги его и старухи раздались на лестнице. В комнате сделалось совершенно темно.
Клод Фролло (ибо мы предполагаем, что читатель, конечно, более проницательный, чем Феб, давно уже узнал в закутанном в плащ человеке архидиакона) в течение нескольких минут старался ощупью ориентироваться в том темном чулане, в котором запер его капитан. Это был чердак в форме треугольника, образуемый крышей и потолком комнаты. В нем не было ни обыкновенного, ни даже слухового окна, а крутой наклон крыши не позволял вытянуться Клоду во весь рост; поэтому он уселся на корточки на куче сора и мусора, на которую он случайно набрел. Голова его горела. Пошарив руками вокруг себя, он ощупал кусок разбитого стекла, который он приложил ко лбу, что несколько умерило его жар.
Что происходило в это время в глубине души Клода? – Это было известно только ему самому, да Богу. Каким образом вязались в его мыслях Феб, Эсмеральда, Жак Шармолю, его столь нежно любимый младший брат, покинутый им на парижской мостовой, его священническая ряса, его доброе имя, которое он принес с собою в этот вертеп, – все эти образы, все эти приключения? Это трудно объяснить. Но несомненно то, что все эти мысли складывались в уме его в какую-то ужасную группу.
Ему пришлось ждать всего с четверть часа, но ему показалось, что он постарел за это время на целых сто лет. Вдруг он услышал, что ступеньки деревянной лестницы заскрипели. Кто-то поднимался наверх. Трап отворился, и показался свет. В источенной червями двери его чулана была довольно широкая щель, и он сталь смотреть в нее: оказалось, что сквозь эту щель можно разглядеть все, что происходило в соседней комнате. Прежде всего, из-под трапа показалась старуха с кошачьим лицом, державшая в руке светильник, затем Феб, покручивавший свои усы, и, наконец, еще третье лицо – красивое и грациозное личико Эсмеральды. Когда она показалась из-под трапа, взорам Клода точно предстало ослепительное видение. Он задрожал, у него потемнело в глазах, кровь бросилась ему в голову, в ушах его зашумело, и все вокруг него завертелось и закружилось. На несколько минут он лишился чувств, ничего не видел и не слышал.
Когда он снова пришел в себя, старухи уже не было в соседней комнате. В ней оставались только Феб и Эсмеральда, сидевшие рядом на деревянном сундуке возле светильника, освещавшего молодые их лица и жалкую кровать в глубине каморки. Возле кровати было окно, стекла которого были побиты во многих местах, напоминая собою паутину, продырявленную каплями дождя, и сквозь образовавшиеся таким образом отверстия можно было разглядеть клочок неба и луну, как бы покоившуюся в отдалении на перине из мягких облаков.
Молодая девушка была смущена, щеки ее горели, она вся дрожала. Ее длинные, опущенные ресницы бросали тень на ее раскрасневшиеся щеки. А офицер, на которого она не осмеливалась поднять глаз, весь сиял. Машинально, с очаровательной неловкостью, она выводила концом пальца на скамейке разные причудливые узоры и смотрела на свой палец. Ног ее не было видно, так как на них улеглась ее козочка. Капитан, видимо, принарядился для этого свидания. На воротнике и на обшлагах его сюртука болтались золотые кисточки, что тогда считалось очень шикарным.
Клоду не без труда удалось расслышать то, что они говорили, – до того сильно кровь стучала ему в виски и шумела в ушах. (Впрочем, болтовня двух влюбленных, в сущности, со стороны представляется очень неинтересной. Это бесконечная вариация на тему: «я люблю тебя», т. е. на музыкальную фразу, очень ничтожную и даже очень нелепую, для посторонних слушателей, если только она не бывает разукрашена какими-нибудь фиоритурами. Но дело в том, что Клод прислушивался к их разговору далеко не в качестве равнодушного зрителя).
– Ах, господин Феб, – говорила молодая девушка, не поднимая глаз, – не презирайте меня! Я знаю, что я поступаю очень дурно.
– Презирать тебя, красавица моя, – ответил офицер любезным, но фатоватым тоном, – презирать тебя! Но за что же, ради самого Господа Бога?
– А за то, что я пришла с вами сюда.
– На этот счет мы, кажется, не понимаем друг друга. Мне бы следовало не презирать, а ненавидеть тебя.
– Ненавидеть! – воскликнула молодая девушка, взглянув на него с испугом. – Что же я такое сделала?
– Ты заставила так долго упрашивать себя.
– Что делать?.. – проговорила она со вздохом. – Я не хотела нарушить обета. Талисман утратит свою силу и мне никогда не удастся отыскать моих родителей. – Но все равно! – Пусть будет, что будет! – На что мне теперь отец, на что мне мать.
И с этими словами она взглянула на капитана глазами, влажными от радости и нежности.
– Черт меня побери, если я в этом хоть что-нибудь понимаю! – воскликнул Феб.
Эсмеральда помолчала с минуту, затем на глазах ее выступили слезы, из груди ее вырвался вздох, и она проговорила:
– Ах, если бы вы знали, как я люблю вас!
Во всем существе молодой девушки было столько целомудрия и непорочности, что Фебу стало несколько неловко возле нее. Однако последние слова ее придали ему бодрости.
– Ты любишь меня! – воскликнул он восторженным голосом и обхватил рукой талию цыганки. Он, по-видимому, давно уже ждал случая сделать это.
А Клод видел все это из своего чулана и ощупал пальцем острие кинжала, который был у него за пазухой.
– Феб, – продолжала цыганка, тихонько отстраняя от своей талии цепкие руки капитана, – вы добры, вы великодушны, вы прекрасны! Вы меня спасли, меня, бедную бродягу-цыганку. Я давно уже только и думаю, что о спасшем меня офицере. Я мечтала о вас еще раньше, чем узнала вас, Феб. Я давно уже мечтала о человеке в таком красивом мундире, как ваш, со шпагой на боку, с таким прекрасным лицом. И к тому же у вас такое красивое имя – Феб. Я все люблю в вас – и ваше имя, и вашу шпагу. Выньте-ка вашу шпагу, Феб, дайте мне посмотреть на нее.
– Ребенок! – сказал Феб, улыбнувшись, и вынул свою шпагу.
Цыганка осмотрела рукоятку, клинок, с премилой внимательностью разглядела шифр на рукоятке, и в заключение поцеловала ее и сказала:
– Ты принадлежишь храбрецу. Я люблю моего капитана!..
Феб счел нужным воспользоваться этим удобным случаем, чтобы запечатлеть поцелуй на красивой, согнутой шейке молодой девушки. Та выпрямилась, покраснев, как маков цвет, а Клод заскрежетал зубами в своей темной конуре.
– Феб, – заговорила цыганка, – дайте мне высказать вам то, что я имею сказать вам. Но походите немного по комнате, чтобы я могла видеть вас во весь рост и слышать бряцание ваших шпор. Какой вы красавец!
Капитан поднялся со своего места, чтобы сделать ей удовольствие, и журил ее с самодовольным видом:
– Какой ты, однако же, ребенок! – А кстати, красавица моя, видела ты меня в парадном мундире?
– К сожалению, нет… – ответила она.
– Вот он красив, так красив! – сказал Феб, снова усаживаясь подле нее, но на этот раз уже гораздо ближе, чем прежде.
– Послушай, моя милая… – начал он.
Цыганочка хлопнула его несколько раз по губам своей маленькой ручкой с детской, грациозной и веселой шаловливостью.
– Нет, нет, я и слушать вас не стану! – воскликнула она. – Любите ли вы меня? Я желаю, чтобы вы мне сказали, любите ли вы меня?
– Еще бы не любить тебя, ангел души моей! – воскликнул капитан, становясь на одно колено. – Мое тело, моя кровь, моя душа, – все твое, все принадлежит тебе! Я люблю тебя и никогда никого не любил, кроме тебя!
Капитану так часто доводилось повторять эту фразу при подобных же обстоятельствах, что он проговорил ее, не переводя духа, ни разу не сбившись. При этом страстном признании цыганка подняла к грязному потолку, заменявшему в данном случае небо, взор, полный какого-то неземного счастья, и проговорила:
– О! теперь я готова была бы умереть!
Феб нашел этот момент как нельзя более удобным для того, чтобы еще раз поцеловать ее, и поцелуй этот снова заставил несчастного архидиакона испытать в своей конуре самые адские муки.
Умереть! – воскликнул влюбленный капитан. – Что там такое говоришь, ангел мой! Напротив, тут-то и нужно жить, клянусь Юпитером! Умереть при самом начале такой приятной вещи! Что за странные шутки, черт побери! Дело совсем не в том. Слушай, милая моя Симиляр… Эсмеральда… Извини меня, пожалуйста, но у тебя такое басурманское имя, что я вечно перепутываю его. Это имя для меня точно какие-то дебри.
– Ах, Боже мой, – сказала бедная девушка, – а мне до сих пор имя мое нравилось именно вследствие своей странности. Но так как оно вам не нравится, то называйте меня просто хоть Марго.
– Ну, не плачь же из-за таких пустяков, милочка! Это просто имя, к которому нужно привыкнуть, вот и все. Раз я его выучу наизусть, дело пойдет уже само собою. – Так слушай же, милая моя Симиляр, я люблю тебя страстно, я люблю тебя так, что просто уму непостижимо. Одна барышня из себя выходит из-за этого…
– Кто это? – перебила его молодая девушка, в душе которой зашевелилось чувство ревности.
– К чему тебе знать имя ее? – ответил Феб, – Так любишь ли ты меня?
– Еще бы! – проговорила цыганка.
– Ну, и отлично! Я докажу тебе, насколько и я тебя люблю. Пусть меня поднимет на свои вилы этот языческий бог Нептун, если я не сделаю тебя самым счастливым созданием в мире! Мы наймем где-нибудь прехорошенькую комнату. Я проведу моих стрелков церемониальным маршем мимо твоих окон. Все они конные и хоть сейчас за пояс заткнут стрелков капитана Миньона. Одни из них выступают в строй с рогатинами, другие с луками, третьи с ручными самострелами. Я поведу тебя на большой смотр парижскому гарнизону, близ хлебных магазинов Рюльи. Это великолепное зрелище. Восемьдесят тысяч человек в строю! Тридцать тысяч человек в стальных латах, кольчугах и камзолах шестьдесят семь цеховых значков, знамена парламента, счетной камеры, казначейства, монетного двора, – словом, настоящая свита сатаны! Я поведу тебя смотреть на львов в королевском зверинце; это очень дикие звери, а все женщины это любят.
В течение нескольких последних минут молодая девушка замечталась, погруженная в самые радужные размышления, при звуках дорогого голоса, не вникая в смысл произносимых слов.
– О, как ты будешь счастлива! – продолжал капитан, тихонько расстегивая в то же время кушак цыганки.
– Что это вы делаете? – с живостью воскликнула она, пробужденная этим посягательством.
– Ничего… – ответил Феб. – Я говорил только, что тебе придется сбросить с себя этот уличный, балаганный наряд, когда ты будешь у меня.
– Когда я буду у тебя, Феб! – нежно проговорила молодая девушка и снова задумалась и замечталась.
Ободренный ее кротостью, капитан обнял ее талию. Она не оказывала ни малейшего сопротивления. Затем он стал потихоньку распускать шнурки ее корсажа и при этом до того сдвинул покрывавшую ее шею косынку, что чуть не задыхавшийся от волнения в своей конуре священник увидел вскоре показавшееся из-под косынки красивое плечико цыганки, круглое и розовое, как луна, поднимающаяся на горизонте из-за туч.
Молодая девушка все еще не оказывала Фебу ни малейшего сопротивления; она даже как будто ничего не замечала. Глаза предприимчивого капитана блестели.
– Феб, – сказала она, вдруг повернувшись к нему и взглянув на него с беспредельной любовью, – ознакомь меня с твоей религией.
С моей религией! – воскликнул капитан, расхохотавшись. – Ознакомить тебя с моей религией! Да на что она тебе, моя религия, скажи на милость!
– А на то, чтобы я могла выйти за тебя замуж, – наивно ответила она.
Лицо капитана приняло выражение, в котором сказывались одновременно и удивление, и презрение, и беззаботность, и плотские вожделения.
– Вот еще что ты выдумала! – проговорил он, – да с какой стати нам жениться!
Цыганка побледнела и печально опустила голову на грудь.
– Моя милая, – нежно продолжал Феб: – что это за ости! И что за невидаль – свадьба? Разве люди не могут любить друг друга, не будучи повенчаны попом?
Произнося слова эти самым нежным и вкрадчивым голосом, он все ближе и ближе придвигался к цыганке. Руки его снова обхватили ее гибкую и тонкую талию, глаза его разгорались все более и более ярким блеском, и все предвещало, что капитан Феб, действительно, приближался к одному из тех моментов, в которые сам Юпитер наделал столько глупостей, что добряк. Гомер нашелся вынужденным призвать к нему на помощь облако.
Однако Клод все это видел. Дверь была сколочена из досок из-под бочек, совершенно перегнивших, между которыми были такие широкие щели, что его взор хищной птицы без труда мог проникать в соседнюю комнату. Этот смуглый, широкоплечий священник, осужденный до сих пор на строгое, монастырское безбрачие, дрожал и кипел в виду этой ночной, страстной, любовной сцены. Молодая и красивая девушка, туалет которой был приведен в беспорядок предприимчивым молодым человеком, и которая вот-вот была готова отдаться ему, заставляла кровь кипеть в его жилах, точно расплавленный свинец. С ним происходило что-то необычайное. Взор его следил с какою-то похотливой ревностью за каждой вынутой булавкой, за каждым расстегнутым крючком. Если бы кто-либо мог увидеть в эту минуту лицо несчастного Клода, припавшее к щелям изъеденной червями двери, ему невольно пришел бы на ум тигр, смотрящий сквозь решетку клетки на шакала, пожирающего газель. Глаза его блестели, точно зажжённые свечи, сквозь щели двери.
Вдруг Феб быстрым движением руки, сорвал косынку с плеч цыганки. Бедная девушка, сидевшая бледная и задумчивая, как будто проснулась. Она быстрым движением отодвинулась от чересчур предприимчивого офицера, и, бросив взгляд на свои обнаженные плечи и грудь, покраснела, сконфузилась, онемев от стыда, старалась закрыть свою грудь красивыми руками своими. Если бы не яркий румянец, покрывавший ее щеки, то всякий, кто увидел бы ее в этом положении, немою и неподвижною, принял бы ее за статую стыдливости. Она продолжала держать глаза опущенными в землю.
Бесцеремонное движение капитана обнаружило таинственный талисман, висевший у нее на шее.
– Что это такое? – спросил он, воспользовавшись этим предлогом, чтобы снова приблизиться к красивому созданию, которое он только что всполошил.
– Не трогайте этого! – воскликнула она с живостью, – это мой талисман! Он поможет мне найти родителей моих, если я останусь достойна их. Ах, оставьте меня, г. капитан! Мать моя! Бедная моя мать! Мать моя! где ты? Приди ко мне на помощь! Ради Бога, господин Феб, возвратите мне мою косынку!
Феб отступил на несколько шагов и сказал холодным голосом:
– О, сударыня, теперь я отлично понимаю, что вы меня не любите!
– Я не люблю тебя?.. – воскликнула бедняжка, повиснув на шее капитана и усаживая его подле себя. – Я не люблю тебя, мой Феб! Ты это нарочно говоришь, злой человек, чтобы мучить меня! Ну, бери же меня всю! Делай со мною все, что хочешь! Я – твоя! Что мне за дело до талисмана моего! Что мне за дело до моей матери! Ты – моя мать, так как я люблю тебя! Феб, милый мой Феб, видишь ли ты меня? Это я, – гляди на меня. Я та самая девочка, которую ты не захотел оттолкнуть от себя, которая сама всюду бегала за тобой. Душа моя, моя жизнь, мое тело, я вся – все это принадлежит тебе, мой милый! Ну, хорошо, не нужно жениться, если это тебе не нравится. И что же я, в сущности? Жалкая уличная плясунья, между тем, как ты, Феб, – ты дворянин. И какая чушь пришла мне в голову! Плясунье – выйти замуж за офицера! Я, кажется, с ума сошла! Нет, Феб, нет, я буду твоей любовницей, твоей игрушкой, твоей забавой, если ты этого желаешь, девушкой, которая будет принадлежать тебе, только тебе! Я на то и создана! Пускай я буду обесчещенная, презренная, – мне все равно, лишь бы ты любил меня! Этого одного достаточно, чтобы сделать меня самою веселою и самою счастливою из женщин. А когда я постарею и подурнею, Феб, когда я буду уже недостойна любви вашей, господин мой, то вы, вероятно, не откажете мне в позволении прислуживать вам. Другие женщины будут вышивать вам шарфы, а я, служанка ваша, буду смотреть за ними. Вы позволите мне полировать ваши шпоры, чистить ваш мундир, смазывать ваши сапоги. Не правда ли, Феб, ты позволишь мне это? А покуда бери меня, Феб, я вся принадлежу тебе, только люби меня! Нам, цыганкам, только и нужны две вещи: вольный воздух и любовь!








