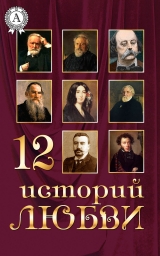
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Александр Дюма
Соавторы: Александр Пушкин,Лев Толстой,Александр Куприн,Иван Тургенев,Уильям Шекспир,Виктор Гюго,Александр Грин,Жорж Санд,Николай Лесков,Гюстав Флобер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 144 (всего у книги 294 страниц)
Свекровь несколько укрепляла Эмму прямотою своих суждений и серьезностью манер; а кроме нее, Эмма почти каждый день встречалась и с другими людьми. То были г-жа Ланглуа, г-жа Карон, г-жа Дюбрейль, г-жа Тюваш и, ежедневно с двух до пяти, милейшая г-жа Омэ, которая никогда не верила сплетням, ходившим насчет соседки. Навещали Эмму и маленькие Омэ; с ними приходил Жюстен. Он поднимался вместе с детьми в комнату и все время молча, неподвижно стоял у порога. Иной раз г-жа Бовари, не обращая на него внимания, принималась за туалет. Прежде всего она вынимала из волос гребень и резко встряхивала головой. Когда бедный мальчик впервые увидел, как ее черные волосы волной упали ниже колен, это было для него как бы неожиданным вступлением в какой-то новый, необычайный, пугающий своим блеском мир.
Эмма, конечно, не замечала его молчаливого поклонения, его робости. Она и не подозревала, что тут, рядом с нею, под этой грубой холщовой рубашкой, в этом открытом действию ее красоты юношеском сердце трепетала исчезнувшая из ее жизни любовь. Впрочем, теперь она была ко всему так равнодушна, слова ее стали так сердечны, а взгляд так высокомерен, манеры так неодинаковы, что в ней уже нельзя было отличить эгоизм от милосердия, испорченность от добродетели. Так, однажды вечером, когда служанка, запинаясь и не находя предлога, просила отпустить ее погулять, она вспылила, а потом вдруг сказала:
– Так ты его любишь?
И, не дожидаясь ответа от покрасневшей Фелиситэ, печально добавила:
– Ну что же, беги, забавляйся…
В начале весны она, несмотря на возражения г-на Бовари, велела перекопать весь сад; впрочем, муж был счастлив, что она проявляет хоть какую-то волю. И чем больше она поправлялась, тем воля ее становилась тверже. Прежде всего Эмма нашла способ выпроводить кормилицу, тетушку Ролле, которая во время ее выздоровления привыкла ходить на кухню вместе с двумя своими питомцами и зубастым, как людоед, пенсионером. Затем она отделалась от семейства Омэ, постепенно освободилась от всех прочих посетителей и даже перестала, к великому одобрению аптекаря, так усердно посещать церковь.
– Вы немножко вдались было в поповщину, – дружески сказал он ей однажды.
Г-н Бурнисьен появлялся, как и прежде, каждый день после урока катехизиса. Он предпочитал сидеть в саду, дышать свежим воздухом в зеленом уголке, – так называл он беседку. Как раз в это время возвращался домой Шарль. Было жарко; приносили сладкий сидр, и оба пили за полное выздоровление г-жи Бовари.
Тут же, то есть немного пониже, у стены террасы, ловил раков Бине. Бовари приглашал его освежиться; сборщик замечательно ловко откупоривал бутылки.
– Бутылку, – говорил он, самодовольно оглядывая все кругом до самого горизонта, – надо держать на столе вот так, совершенно прямо, а потом перерезать проволочки и понемножку, тихонько-тихонько выталкивать пробку – так, как в ресторанах открывают сельтерскую воду.
Но во время демонстрации сидр часто вырывался из бутылки прямо в лицо гостям, и тогда священник с густым смехом отпускал одну и ту же неизменную шутку:
– Прекрасное его качество просто бросается в глаза.
Он был в самом деле славный малый и даже ничуть не рассердился, когда однажды аптекарь при нем дал Шарлю совет развлечь супругу, повезти ее в руанский театр, где пел знаменитый тенор Лагарди. Когда же Омэ удивился молчанию кюре и захотел узнать его мнение, тот ответил, что считает музыку не столь опасной для нравов, как литературу.
Но фармацевт выступил в защиту изящной словесности. Театр, утверждал он, служит борьбе с предрассудками и под маской удовольствия учит добродетели.
– Castigat ridendo mores,[440]440
Смехом бичует нравы (лат.)
[Закрыть] господин Бурнисьен! Так, например, возьмите почти все трагедии Вольтера: они обильно пересыпаны философскими рассуждениями и, таким образом, являются для народа истинной школой морали и дипломатии.
– Я видел когда-то, – сказал Бине, – одну пьесу под названием «Парижский гамен». Там особенно замечателен тип старого генерала: в самом деле ловко придумано! Он отчитывает одного богатого молодого человека, который соблазнил работницу, и она под конец…
– Безусловно, – продолжал Омэ, – есть плохая литература, как есть и плохая фармация; но осуждать огулом важнейшее из изящных искусств представляется мне нелепостью, средневековой идеей, достойной тех ужасных времен, когда был заключен в темницу Галилей.
– Я и сам знаю, – возразил кюре, – что есть на свете хорошие сочинения, хорошие авторы. Но уже одно то, что в театре особы обоего пола собираются в очаровательном помещении, изукрашенном всею светскою роскошью, а потом эти языческие переодевания, эти румяна, факелы, изнеженные голоса – все это в конце концов должно порождать некое вольное умонастроение, внушать неподобающие помыслы, нечистые искушения. Таково по крайней мере мнение всех святых отцов церкви. И наконец, – добавил он, разминая на большом пальце понюшку табаку, и голос его вдруг зазвучал таинственно, – если уж церковь осуждает зрелище, то, значит, она права; нам остается лишь подчиняться ее решению.
– А знаете, почему она отлучает актеров? – спросил аптекарь. – Потому, что в былые времена они открыто конкурировали с обрядовыми церемониями. Да, да, тогда играли, тогда посреди амвона разыгрывали своеобразные фарсы, именуемые мистериями, в которых нередко оскорблялись даже законы приличия.
Священник только глубоко вздохнул, а аптекарь пошел дальше:
– То же самое и в библии. Там… знаете ли… есть немало… пикантных деталей, довольно… игривых вещей…
Г-н Бурнисьен сделал негодующий жест.
– Ах, вы ведь и сами согласитесь, что это не такая книга, которую можно было бы дать в руки девушке. Я, например, был бы очень огорчен, если бы моя Аталия…
– Но ведь библию, – нетерпеливо воскликнул кюре, – не мы рекомендуем, а протестанты!
– Все равно! – заявил Омэ. – Я удивляюсь, что в наши дни, в наш просвещенный век, есть еще люди, упорно возбраняющие совершенно безобидный вид умственного отдохновения. Театр благотворно действует на моральное, а иногда и на физическое состояние, – не так ли, доктор?
– Конечно, – небрежно отвечал Бовари.
Быть может, он держался тех же взглядов и никого не хотел обижать, а может быть, и вовсе об этом не думал.
Разговор казался исчерпанным, но тут фармацевт счел уместным нанести последний удар:
– Я знавал священников, которые переодевались в светское платье и ходили смотреть, как дрыгают ногами танцовщицы.
– Ну, полноте! – сказал кюре.
– Нет, я знал!
И Омэ повторил раздельно:
– Нет – я – знал.
– Ну, так они поступали плохо, – произнес Бурнисьен: он решил не ссориться.
– Черт возьми! Они еще и не то делают! – воскликнул аптекарь.
– Милостивый государь… – прервал его священник с таким яростным взглядом, что фармацевт струсил.
– Я только хотел сказать, – отвечал он менее грубым тоном, – что наилучшее средство привлечения душ к религии – это терпимость.
– Вот это верно! Это верно! – уступил добряк, снова усаживаясь спокойно на стул.
Но он пробыл здесь не больше двух минут. Как только он скрылся, г-н Омэ сказал врачу:
– Вот это называется поднести понюшку! Видели вы, как я его отделал!.. Словом, послушайтесь меня, повезите госпожу Бовари на спектакль, хотя бы ради того, чтобы раз в жизни посердить, черт возьми, этих ворон! Я бы и сам сопровождал вас, если бы кто-нибудь мог заменить меня в аптеке. Торопитесь! Лагарди даст только одно представление; он получил чрезвычайно выгодный ангажемент в Англию. Это, говорят, такой тип! Он купается в золоте! Возит с собою трех любовниц и повара! Все эти великие артисты прожигают жизнь: им необходимо беспорядочное существование, – оно возбуждает фантазию. Но в конце концов они умирают где-нибудь в больнице, ибо не догадываются смолоду накопить денег. Ну, приятного аппетита, до завтра!
Мысль о театре сразу увлекла Шарля; он немедленно заговорил об этом с женой. Та сначала стала отказываться, ссылаясь на утомление, на беспокойство, на расходы; но муж, против обыкновения, не уступил, – так он был уверен, что это развлечение принесет ей пользу. Никаких препятствий он не видел: мать только что прислала триста франков, на которые он даже не рассчитывал, текущие долги были не столь уж велики, а до уплаты г-ну Лере по векселям оставалось так много времени, что об этом не стоило и думать. Вообразив, будто Эмма не хочет ехать из деликатности, Шарль начал настаивать еще упорнее и так надоел ей своими уговорами, что в конце концов она согласилась. И на следующий же день, в восемь часов, оба отправились в «Ласточке».
Аптекарь проводил их вздохом. Его в сущности ничто не задерживало в Ионвиле, но он считал своей обязанностью не трогаться с места.
– Ну, добрый путь, счастливые вы смертные! – сказал он.
И затем обратился к Эмме, на которой было синее шелковое платье с четырьмя воланами:
– Вы прелестны, как настоящий амур! В Руане вы произведете фурор.
Дилижанс остановился на площади Бовуазин, у гостиницы «Красный крест». То был один из тех постоялых дворов, какие обычно встречаются в предместьях провинциальных городов: обширные конюшни, крохотные спаленки, на дворе куры подбирают овес под забрызганными грязью колясками коммивояжеров. Эти добрые старинные трактиры, в которых зимними ночами трещат от ветра подгнившие деревянные галереи, постоянно битком набиты проезжими, полны шума и всяческой еды; черные столы испещрены липкими пятнами от горячего кофе с коньяком, сырые салфетки перепачканы дешевым красным вином, а толстые оконные стекла засижены мухами; от этих заведений всегда отдает деревней, словно от одетых по-городски батраков; здесь перед домом, на улице, устраивается кафе, а с задней стороны – огород. Шарль немедленно пустился в бега. Он путал литерные ложи с галеркой, партер с ярусами, просил объяснений, не понимал их, носился от контролера к директору театра, вернулся на постоялый двор, снова пошел в контору – и так несколько раз исходил весь город от театра до бульвара.
Г-жа Бовари купила шляпу, перчатки, букет. Г-н Бовари очень боялся опоздать к началу; и, даже не успев проглотить чашку бульона, они явились к еще запертым дверям театра.
XVСимметрично разделенная балюстрадами, толпа жалась к стене. На углах соседних улиц огромные афиши повторяли узорными буквами: «Лючия де Ламермур… Лагарди… Опера…» Погода стояла прекрасная. Было жарко, все обливались потом, вытаскивали носовые платки и обтирали красные лбы. Порою теплый ветер с реки тихо колебал фестоны тиковых тентов над дверьми кабачков. Но немного подальше обдувало холодной струей воздуха, пропитанного запахом сала, кожи и растительного масла. То было дыхание улицы Шаретт, полной огромных темных складов, откуда выкатывают бочки.
Боясь показаться смешной, Эмма, прежде чем войти в театр, захотела прогуляться по набережной. Бовари для большей верности держал билет в кулаке, прижимая его в кармане панталон к животу.
Уже в вестибюле у Эммы забилось сердце. Видя, что люди толпой бросились по другому коридору направо, тогда как сама она поднималась по лестнице в первый ярус, она невольно улыбнулась от тщеславия. Ей доставляло детскую радость трогать пальцем широкие, обитые материей двери; всей грудью вдыхала она пыльный залах театральных коридоров, а усевшись, наконец, у себя в ложе, выпрямила стан с непринужденностью герцогини.
Зал начинал наполняться, многие вынимали из футляров бинокли, и театралы раскланивались между собой, издали замечая друг друга. В искусстве они искали отдыха от торговых забот, но и здесь не могли забыть о своих делах и все еще говорили о хлопке, спирте или индиго. Часто попадались спокойные, невыразительные старческие головы; белыми волосами и бледным цветом лица они напоминали серебряные медали с матовым свинцовым налетом. В первых рядах партера выпячивали грудь молодые франты в низко вырезанных жилетах, красуясь своими розовыми или бледно-зелеными широкими галстуками. И г-жа Бовари любовалась сверху, как они затянутыми в желтые перчатки руками опирались на золотой набалдашник трости.
Между тем в оркестре зажглись свечи; с потолка спустилась люстра, заблестели ее граненые подвески, и в зале сразу стало веселее. Потом вереницей потянулись музыканты, и началась долгая неразбериха: гудели контрабасы, визжали скрипки, хрипели корнет-а-пистоны, пищали флейты и флажолеты. Но вот на сцене раздались три удара, загремели литавры, врезались в воздух аккорды медных труб, – занавес поднялся и открыл пейзаж.
То был лесной перекресток; слева, под дубом, протекал ручей. Поселяне и сеньоры с пледами через плечо пели охотничью песню; потом пришел ловчий и, воздев руки к небесам, стал взывать к духу зла; появился другой; затем оба ушли, и охотники запели снова.
Эмма вновь попала в атмосферу книг своей юности, в мир Вальтера Скотта. Ей казалось, будто она слышит, как доносятся сквозь туман и отдаются на вересковых лужайках звуки шотландской волынки. Она помнила роман, это помогало ей разбираться в либретто, и она – фраза за фразой – следила за интригой; а в это время ее неуловимые мысли растворялись в порывах музыкальной бури. Она отдавалась колыханию мелодий, она ощущала, как вибрирует все ее существо, словно смычки скрипачей ударяли по ее нервам. Глаза ее разбегались, она не поспевала любоваться всем сразу: костюмами, декорациями, действующими лицами, намалеванными деревьями, которые дрожали, когда мимо проходил человек, бархатными беретами, плащами, шпагами – всей картиной воображаемой действительности, развернувшейся в гармонии звуков, словно в атмосфере иного мира. Но вот вперед выступила молодая женщина и бросила конюху в зеленом кошелек. Она осталась одна, и тогда, подобно журчанью фонтана или птичьему щебету, запела флейта. Лючия с серьезным видом начала свою соль-мажорную каватину: она жаловалась на любовь, просила у неба крыльев. Эмме тоже хотелось бежать из жизни, унестись в едином объятии. И вдруг появился Эдгар – Лагарди.
Он отличался той замечательной бледностью, которая придает пылким южным народам некое величие мраморов. Коричневая куртка облегала его сильный стан; на левом боку бился маленький кинжал в чеканной оправе. Лагарди томно вращал глазами и выставлял напоказ белые зубы. Говорили, что когда-то на биаррицском пляже, где он занимался починкой лодок, он влюбил в себя песнями одну польскую княгиню. Она разорилась из-за него. Тогда он бросил ее ради других женщин, и слава этого сентиментального приключения только поддерживала его артистическую репутацию. Хитрый лицедей никогда не забывал вставлять в рекламы одну-другую поэтическую фразу о своей обаятельности и чувствительности своей души. Прекрасный голос, несокрушимый апломб, больше темперамента, чем интеллекта, больше напыщенности, чем лиризма, – вот свойства этого изумительного шарлатана, в которых были черты и парикмахера и тореадора.
С первой же сцены он привел публику в восторг. Он сжимал Лючию в объятиях, покидал ее, снова возвращался; он казался обезумевшим от отчаяния, его обнаженная шея трепетала и голос то взрывался гневом, то элегически замирал в бесконечной нежности, то разливался мелодиями, полными слез и поцелуев. Эмма глядела на него, перегнувшись через барьер, и царапала ногтями бархат ложи. Сердце ее точно впитывало эти мелодические жалобы, тянувшиеся под аккомпанемент контрабасов, словно стоны потерпевших крушение в шуме бури. Она узнавала все то опьянение, все те муки, от которых чуть не умерла сама. Голос певицы казался ей лишь отзвуком ее собственных мыслей, а вся эта чарующая иллюзия – какой-то частью ее жизни. Но такой любовью ее никто на земле не любил. В последний вечер, при свете луны, когда они говорили: «До завтра! До завтра!» – он не плакал, как Эдгар. Зал гремел от рукоплесканий; пришлось повторить все стретты; влюбленные говорили о цветах на своей могиле, о клятвах, о разлуке, о роке, о надеждах; и когда они пропели финальное «прощай», у Эммы вырвался крик, который слился с трепетом последних аккордов.
– А за что же, – спросил Бовари, – этот сеньор преследует ее?
– Да нет, – отвечала она, – это ее возлюбленный.
– Но ведь он клянется отомстить ее семейству; а вот тот, который только что пришел, тот говорил: «Я Лючию люблю и мыслю, что любим». Да он и ушел под руку с ее отцом. Ведь этот маленький, безобразный человечек в шляпе с петушиным пером – ее отец?
Во время дуэта-речитатива, когда Джильберт излагает своему хозяину Аштону план отвратительных хитросплетений, Шарль увидел подложное обручальное кольцо, которое должно было обмануть Лючию, и, несмотря на пояснения Эммы, решил, что это любовный сувенир от Эдгара. Впрочем, он и сам признавался, что не слишком-то понимает всю историю из-за музыки: она очень мешает разбирать слова.
– Не все ли равно? – сказала Эмма. – Замолчи!
– Дело в том, – снова заговорил он, наклоняясь к ее плечу, – что я, ты знаешь, всегда люблю во всем отдавать себе отчет.
– Замолчи! Замолчи! – нетерпеливо прервала его Эмма.
Вошла Лючия; женщины не столько вели, сколько несли ее; в ее волосы вплетен был флердоранж, она казалась бледнее своего белого атласного платья. Эмма вспомнила день своей свадьбы. Она вновь увидела себя там, среди хлебов, на тропинке, по которой все шли в церковь. Зачем она не сопротивлялась, не умоляла, как эта девушка? Нет, она была весела, она не видела, в какую пропасть готова броситься… Ах, если бы еще тогда, во всей свежести своей красоты, еще до грязи брака и разочарований измены, Эмма могла опереться в жизни на чье-то большое, верное сердце, – тогда добродетель слилась бы с нежностью, а сладострастие с долгом, тогда она не уронила бы столь высокого счастья. Но такое блаженство, конечно, лишь обман, нарочно придуманный, чтобы отнять надежду у всех желаний. Теперь она знала всю мелочность преувеличиваемых искусством страстей. И вот, пытаясь отогнать от них свои мысли, Эмма хотела в этом изображении ее собственных страданий видеть лишь приятную для глаза пластическую фантазию: она внутренне улыбалась со снисходительной жалостью, когда в глубине сцены из-за бархатной занавески появился мужчина в черном плаще.
Он сделал жест, его широкополая испанская шляпа упала, и тотчас оркестр и певцы начали секстет. Пылая яростью, Эдгар покрывал все звуки своим звонким, чистым голосом. Аштон бросал ему в лицо баритональные ноты человекоубийственных вызовов, высоко неслись жалобы Лючии, Артур модулировал в среднем регистре, глубокий бас священника гудел, как орган, а женские голоса очаровательно подхватывали его слова хором. Стоя в ряд, все актеры жестикулировали, и гнев, месть, ревность, ужас, милосердие, изумление вырывались в мелодиях из их открытых уст. Оскорбленный любовник потрясал шпагой; от бурного дыхания вздымались его кружевные брыжи, и, звеня золочеными шпорами на мягких сапожках с раструбами у щиколоток, он огромными шагами расхаживал по подмосткам. «В нем, – думала Эмма, – должен быть неиссякаемый источник любви; иначе он не мог бы изливать ее на толпу такими мощными потоками». Все ее попытки к пренебрежению рассеялись под обаянием поэтической роли, и, стремясь сквозь иллюзию вымысла к живому человеку, она пыталась вообразить его жизнь – эту громкую, необычайную, блистательную жизнь, которою и она могла бы наслаждаться, если бы того захотел случай. Они узнали бы, они полюбили бы друг друга! С ним она странствовала бы из столицы в столицу по всем государствам Европы, разделяя его усталость и его славу, подбирая брошенные ему цветы, своими руками вышивая ему костюмы; каждый вечер она пряталась бы в ложе за позолоченной решеткой и, не дыша, впивала бы в себя излияния его души. А он пел бы только для нее одной; играя, он глядел бы на нее со сцены. Но тут ее охватило безумие: он глядит на нее, глядит! Ей захотелось броситься в его объятия, найти приют в его силе, словно в воплощении самой любви, и сказать, крикнуть ему: «Похити меня, увези меня, уедем! Тебе, тебе весь мой пыл, все мои мечты!»
Занавес опустился.
Запах газа смешивался с человеческим дыханием, от вееров делалось еще душнее. Эмма хотела пройтись, но коридоры были забиты народом, и она, задыхаясь от сердцебиения, снова упала в кресло. Боясь, как бы с ней не случился обморок, Шарль побежал в буфет за оршадом.
Он еле добрался оттуда в ложу: так как стакан он держал обеими руками, то его на каждом шагу задевали за локти; он даже вылил почти весь оршад на плечи какой-то декольтированной дамы. Почувствовав, как по спине у нее потекла холодная жидкость, она так раскричалась, словно ее убивали. Муж ее, хозяин руанской прядильной фабрики, набросился на неловкого незнакомца; и пока жена вытирала платком свое великолепное платье из вишневой тафты, он грубо ворчал что-то о проторях, убытках и возмещении. Наконец Шарль попал к Эмме и, задыхаясь, сказал:
– Честное слово, я думал, что так там и останусь! Народу, народу! – И добавил: – А угадай, кого я встретил наверху!.. Господина Леона.
– Леона?
– Его, его. Он придет засвидетельствовать свое почтение.
Как раз при этих словах в ложу вошел бывший ионвильский клерк.
Он протянул руку с непринужденностью аристократа, и г-жа Бовари машинально взяла ее, поддавшись, конечно, влиянию более сильной воли. Этой руки она не касалась с того весеннего вечера, когда дождь накрапывал на зеленую листву и они прощались, стоя у окна. Но тут она вспомнила о приличиях, сразу сбросила с себя навеянное прошлым оцепенение и быстро защебетала:
– Ах, здравствуйте… Как! Вы здесь?
– Тише! – крикнул кто-то из партера: уже начинался третий акт.
– Так вы в Руане?
– Да.
– И давно?
– Вон из залы! Вон!
На них оборачивались; они замолчали.
Но с этого момента Эмма перестала слушать; хор гостей, сцена Аштона со слугой, большой ре-мажорный дуэт – все прошло для нее в каком-то отдалении, инструменты словно потеряли звучность, актеры отодвинулись вдаль. Она вспомнила игру в карты на вечерах у аптекаря, прогулку к кормилице, чтение вслух в беседке, разговоры наедине у камина – всю эту бедную любовь, такую мирную и долгую, такую скромную и нежную, но все же забытую. Зачем же он снова вернулся? Какое стечение случайностей вновь привело его в ее жизнь? Он сидел за нею, опершись плечом на перегородку; время от времени теплое его дыхание касалось волос Эммы, и она вздрагивала.
– Вас это занимает? – спросил он, наклоняясь к ней так близко, что кончик его уса коснулся ее щеки.
Она небрежно ответила:
– О нет, не слишком.
Тогда он предложил уйти из театра и поесть где-нибудь мороженого.
– Ах, нет! Подождем еще! – сказал Бовари. – У нее волосы распущены: сейчас, верно, начнется трагедия.
Но сцена безумия совсем не интересовала Эмму, а игра певицы казалась ей неестественной.
– Слишком уж громко она кричит, – сказала она, повернувшись к Шарлю; тот внимательно слушал.
– Да, может быть… немножко, – отвечал он, колеблясь между своим откровенным удовольствием и всегдашним почтением к взглядам жены.
Леон вздохнул и сказал:
– Какая жара!..
– В самом деле, невыносимо…
– Тебе нехорошо? – спросил Бовари.
– Да, душно. Пойдем.
Г-н Леон осторожно набросил ей на плечи длинную кружевную шаль, и все трое вышли на набережную, где уселись на вольном воздухе, перед витриной кафе.
Сначала разговор вращался вокруг нездоровья Эммы, хотя она время от времени прерывала Шарля, говоря, что боится наскучить г-ну Леону; затем тот рассказал, что приехал в Руан на два года поработать в большой конторе и набить руку в делах: в Нормандии они бывают иного рода, чем в Париже. Леон стал расспрашивать о Берте, о семействе Омэ, о тетушке Лефрансуа; и так как в присутствии мужа больше говорить было не о чем, то беседа скоро оборвалась.
Но вот стала проходить публика из театра; все мурлыкали или даже полным голосом орали: «Лючия, небесный ангел!» Тогда Леон, разыгрывая из себя любителя, заговорил о музыке. Он слышал Тамбурини, Рубини, Персиани, Гризи; по сравнению с ними Лагарди, при всем том шуме, который был поднят вокруг него, ничего не стоил.
– Однако, – прервал его Шарль, попивая маленькими глотками шербет с ромом, – говорят, что в последнем акте он совершенно восхитителен; я жалею, что ушел, не дождавшись конца: мне начинало нравиться.
– Ну, что ж, – сказал клерк, – скоро он даст еще одно представление.
Но Шарль ответил, что они завтра же уезжают.
– Разве что, – прибавил он, повернувшись к жене, – ты захочешь остаться здесь одна, кошечка моя?
При таком неожиданно представившемся счастливом случае молодой человек сразу переменил тактику и стал расхваливать игру Лагарди в финале: это было нечто великолепное, возвышенное. Тогда Шарль начал настаивать:
– Ты вернешься домой в воскресенье. Ну, решайся же! Если от всего этого ты чувствуешь себя хоть чуть-чуть лучше, то напрасно упрямишься.
А между тем столики кругом пустели. Рядом деликатно остановился гарсон. Шарль понял и вынул кошелек; клерк удержал его за руку и даже не забыл оставить две лишних серебряных монетки, громко звякнув ими по мраморной доске.
– Мне, право, досадно, что вы расходуетесь… – пробормотал Бовари.
Леон ответил дружески-пренебрежительным жестом и взял шляпу:
– Итак, решено – завтра, в шесть?
Шарль еще раз воскликнул, что он дольше не может задерживаться, но Эмме ничто не мешает…
– Понимаешь… – запинаясь, проговорила она с какой-то особенной усмешкой, – я сама не знаю…
– Ну, ладно! Подумаешь – тогда решим. Утро вечера мудренее…
И он обратился к Леону, шедшему следом:
– Раз уж вы теперь живете в наших краях, то, надеюсь, время от времени будете приезжать к нам обедать.
Клерк заверил, что не преминет навестить их; к тому же ему надо съездить в Ионвиль по делам конторы. И супруги распростились с ним у пассажа Сент-Эрблан как раз в ту минуту, когда на соборе часы пробили половину двенадцатого.








