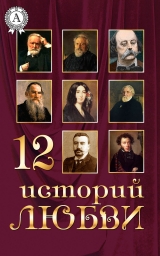
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Александр Дюма
Соавторы: Александр Пушкин,Лев Толстой,Александр Куприн,Иван Тургенев,Уильям Шекспир,Виктор Гюго,Александр Грин,Жорж Санд,Николай Лесков,Гюстав Флобер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 227 (всего у книги 294 страниц)
Глава XIV
– Признаюсь тебе, я влюблен в нее до безумия, – говорил граф Дзустиньяни своему другу Барбериго этой же теплой и тихой ночью, сидя с ним в два часа утра на балконе своего дворца.
– Тем самым ты даешь понять, что я не должен влюбляться в нее, – отозвался юный и блестящий Барбериго. – Подчиняюсь, ибо право первенства за тобой. Но если Корилле удастся снова захватить тебя в свои сети, сделай милость, предупреди меня – тогда и я попытаю счастья…
– Не мечтай об этом, если ты меня любишь! Корилла всегда была для меня только забавой. Однако я вижу по твоему лицу, что ты смеешься надо мной.
– Нет, но мне кажется, что забава эта носила весьма серьезный характер, раз она заставляла тебя бросать столько денег и творить столько безумств.
– Предположим, что я вообще отношусь к своим забавам с таким жаром, что готов на все, лишь бы их продлить. Но на сей раз это больше, чем увлечение, – это, право же, истинная страсть. Никогда в жизни я не встречал существа, которое было бы так своеобразно красиво, как Консуэло. Она словно светильник: по временам пламя его начинает угасать, но в ту минуту, когда он, кажется, совсем уже готов потухнуть, это пламя разгорается так ярко, что сами звезды, выражаясь языком поэтов, бледнеют перед ним.
– Ах! – проговорил, вздыхая, Барбериго. – Это черное платье, беленькая косыночка, этот полунищенский, полумонашеский наряд, бледное спокойное лицо, такое незаметное на первый взгляд, естественная манера держаться, без всякого кокетства, – как эта девушка меняется, какой божественной становится она, когда, вдохновленная своим гением, начинает петь! Счастливец Дзустиньяни, в чьих руках судьба этой нарождающейся славы!
– Как мало верю я в то счастье, которому ты завидуешь! Напротив, я боюсь, что в ней нет ни одной из тех хорошо знакомых мне женских страстей, на которых так легко играть. Поверишь ли, друг, эта девочка так и осталась для меня загадкой, несмотря на то что я целый день следил за ней, изучал ее. Мне кажется, судя по ее спокойствию и моей неловкости, что я совсем потерял голову.
– Да, по-видимому, ты влюблен в нее более, чем следует, раз ты положительно ослеп. Я же лишен надежды, а потому вижу ясно, и сейчас в трех словах объясню тебе то, что тебе непонятно. Консуэло – цветок невинности. Она любит этого юнца Андзолетто и будет любить его еще несколько дней. Если ты грубо коснешься этой детской привязанности, ты только усилишь ее, но если ты сделаешь вид, будто не обращаешь на нее внимания, Консуэло, сравнивая вас обоих, быстро охладеет к своему избраннику.
– Но он красив, как Аполлон, этот негодный мальчишка! У него великолепный голос; он будет иметь успех. Уже и Корилла сходит по нем с ума. С таким соперником нельзя не считаться, когда перед тобой девушка, у которой есть глаза!
– Да, но он беден, а ты богат, он неизвестен, а ты всемогущ, – возразил Барбериго. – Главное – узнать, кто он ей: любовник или друг. В первом случае разочарование наступит для Консуэло скорее. Во втором же между ними будет борьба, колебания, и все это продлит твои мучения.
– Значит, по-твоему, мне нужно желать того, чего я страшусь, одна мысль о чем приводит меня в бешенство. А что об этом думаешь ты сам?
– По-моему, они не любовники.
– Но это невероятно: мальчишка развращен, смел, пылок, наконец, нравы подобных людей…
– Консуэло – чудо во всех отношениях. А ты, дорогой Дзустиньяни, несмотря на все свои победы у прекрасного пола, все еще, я вижу, недостаточно опытен, если не понял из разговоров с этой девушкой, из ее взглядов, даже из ее движений, что она чиста, как горный хрусталь.
– Ты приводишь меня в восторг!
– Берегись! Это безумие, предрассудок! Если ты любишь Консуэло, надо завтра же выдать ее замуж. Через неделю ее повелитель даст ей почувствовать всю тяжесть надетых на нее цепей, все муки ревности, всю скуку постоянно иметь возле себя неприятного, несправедливого и неверного стража. А красавец Андзолетто будет именно таким. Я достаточно наблюдал его вчера в обществе Консуэло и Клоринды, чтобы иметь возможность безошибочно предсказать все его будущие ошибки и беды. Последуй моему совету, друг, и ты будешь мне благодарен. Брачные узы легко расторжимы между людьми этого класса, и ты сам знаешь, что любовь этих женщин – пламенный каприз, а препятствия только раздувают огонь.
– Твои слова приводят меня в отчаяние, а между тем я сознаю, что ты прав.
На беду для планов графа Дзустиньяни, разговор этот имел слушателя, на которого они вовсе не рассчитывали и который не пропустил из него ни единого слова. Покинув Консуэло, Андзолетто, вновь охваченный ревностью, отправился бродить вокруг дворца своего покровителя. Он жаждал убедиться, что граф не замышляет похищения, которые были в большой моде в то время и для аристократов почти всегда проходили безнаказанно. Андзолетто не слышал продолжения разговора двух друзей: луна поднялась над дворцом, тень юноши начинала все яснее и яснее обрисовываться на мостовой, и молодые вельможи, заметив, что кто-то стоит под балконом, ушли в комнаты, закрыв за собой дверь.
Андзолетто скрылся и отправился обдумывать то, что ему удалось услышать. Этого разговора было вполне достаточно, чтобы он понял, как себя вести, как использовать добродетельные советы, которые дал Барбериго своему другу. Только под утро он заснул на каких-нибудь два часа, затем вскочил и побежал на Корте-Минелли. Дверь у Консуэло была еще заперта, но сквозь щель ему удалось разглядеть свою подругу, спящую одетой на кровати, неподвижную и бледную, как труп: предрассветный холод привел ее в чувство, и, поднявшись с пола, она бросилась на свою кровать, не имея сил раздеться. Встревоженный Андзолетто молча стоял у двери, мучимый угрызениями совести. Наконец, видя, что девушка продолжает пребывать в какой-то летаргии, столь не похожей на ее обычный чуткий сон, он, страшно перепуганный, вынул нож и, просунув его в щель двери, отодвинул засов. При этом не обошлось без некоторого шума, но Консуэло была до того измучена, утомлена, что не проснулась. Андзолетто вошел, запер за собой дверь, опустился на колени у ложа девушки и стал ждать ее пробуждения. Когда Консуэло, открыв глаза, увидела своего друга, она вскрикнула было от радости и обняла его, но вслед за тем отдернула руки и с ужасом отшатнулась.
– Я вижу, ты боишься меня теперь и, вместо того чтобы поцеловать меня, хочешь убежать! – с отчаянием в голосе проговорил Андзолетто. – Да, я жестоко наказан! Прости меня, Консуэло! Я сторожил здесь твой сон больше часа. Разве после этого ты можешь не доверять своему другу? Прости, сестра, в первый и последний раз был у тебя повод рассердиться на меня, оттолкнуть меня, своего брата. Никогда больше я не оскорблю нашей святой любви преступными порывами. И если я не сдержу своей клятвы, брось меня, прогони! Вот здесь, у твоей девической постели, где умерла твоя бедная мать, я клянусь относиться к тебе с таким же уважением, с каким относился до сих пор, клянусь даже не целовать тебя, если ты этого не захочешь, пока мы не будем обвенчаны. Скажи, довольна ли ты мной, моя дорогая, моя святая Консуэло?
Консуэло молча прижала к груди белокурую голову венецианца и залилась слезами. Слезы облегчили ее душу, и, снова опустив свою голову на маленькую, жесткую подушку, она тихо проговорила:
– Признаюсь, я чуть жива; всю ночь я не сомкнула глаз – мы так дурно с тобой расстались.
– Спи, Консуэло! Усни, мой ангел! – ответил ласково Андзолетто. – Помнишь ту ночь, когда ты уложила меня на свою постель, а сама тем временем молилась и работала у этого столика? Теперь мой черед сторожить и охранять твой сон. Поспи еще, детка моя, а пока ты будешь дремать часок-другой, я просмотрю твои ноты, про себя почитаю их. Никто не хватится нас раньше вечера, если вообще кто-нибудь еще помнит о нас сегодня. Спи же, этим ты покажешь, что простила и веришь мне.
Консуэло ответила ему блаженной улыбкой. Он поцеловал ее в лоб, уселся за столик, а она заснула благодетельным сном, полным самых сладких грез.
Андзолетто так долго прожил спокойно и невинно вблизи этой девушки, что ему не стоило большого труда после одного дня возбуждения вернуться к своей обычной роли брата. Эта братская любовь была, так сказать, нормальным состоянием его души. К тому же то, что он слышал прошлой ночью под балконом Дзустиньяни, могло только укрепить его решение.
«Спасибо вам, любезные господа, – думал Андзолетто, – вы преподали мне урок вашей собственной морали, и «негодный мальчишка», поверьте, сумеет воспользоваться им не хуже любого повесы-развратника из вашего сословия. Если обладание охлаждает, если права мужа ведут к пресыщенности и отвращению, мы сумеем сохранить в неприкосновенности то пламя, которое, по вашим словам, так легко потушить. Мы сумеем воздержаться и от ревности, и от измены, и даже от наслаждений любви. Ваши пророчества, знатный и мудрый Барбериго, идут впрок, полезно поучиться в вашей школе!».
Среди этих размышлений Андзолетто, тоже совершенно измученный бессонной ночью, задремал, облокотясь на стол. Но сон его был некрепок: как только солнце стало близиться к закату, он вскочил на ноги и подошел посмотреть, не проснулась ли Консуэло. Лучи заходящего солнца, проникая через окно, заливали чудесным пурпурным светом и старую кровать и спящую на ней красивую девушку. Из своей белой кисейной косынки Консуэло сделала нечто вроде полога, привязав ее к филигранному распятию, прибитому у изголовья. Это легкое покрывало грациозно падало на ее гибкое, замечательно пропорциональное тело. В розовой полумгле она лежала, точно цветок, склонивший под вечер свою головку. Ее великолепные черные волосы разметались по матово-белым плечам, руки были скрещены на груди, как у святой, – девушка казалась такой непорочной и была так божественно хороша, что Андзолетто мысленно воскликнул: «О граф Дзустиньяни, как жаль, что ты не видишь ее в это мгновение, и подле нее меня, ревнивого, неусыпного стража сокровища, которое никогда не достанется тебе!».
В эту самую минуту снаружи послышался легкий шум; тонкий слух Андзолетто уловил плеск воды о домишко, в котором жила Консуэло. К Корте-Минелли редко приставали гондолы, к тому же в этот день Андзолетто был особенно догадлив. Он вспрыгнул на стул и добрался до слухового окошечка, проделанного почти у потолка и выходившего на маленький канал. Тут он увидел графа Дзустиньяни: выйдя из гондолы, тот подошел к полуголым ребятишкам, игравшим на берегу, и стал их о чем-то расспрашивать. В первую минуту Андзолетто не знал, на что решиться: разбудить ли свою подругу, или запереть дверь. Но за те десять минут, которые граф употребил на расспросы и розыски мансарды Консуэло, юноша успел вооружиться дьявольским хладнокровием. Он приоткрыл дверь, для того чтобы в комнату можно было войти беспрепятственно и без шума, а сам вернулся к столику и сделал вид, что пишет ноты. Сердце его колотилось в груди, но лицо было совершенно спокойно, ничуть не выдавая внутреннего волнения.
Действительно, граф вошел на цыпочках, желая застигнуть Консуэло врасплох. Нищенская обстановка обрадовала его, показавшись наиболее благоприятным условием обольщения. Он привез с собою уже подписанный им контракт и надеялся, что с таким документом будет принят не слишком сурово. Но при первом же взгляде на это странное святилище, где прелестная девушка спала ангельским сном на глазах своего почтительного или удовлетворенного возлюбленного, бедный Дзустиньяни совсем смутился, запутался в своем плаще, победоносно перекинутом через плечо, и стал топтаться на месте между столом и кроватью, не зная, к кому обратиться. Андзолетто был отомщен за вчерашнюю унизительную сцену у гондолы.
– Ваше сиятельство, господин граф! – воскликнул он, вставая и делая вид, что страшно удивлен этим неожиданным появлением. – Сейчас я разбужу мою… невесту.
– Нет! – ответил граф, который уже успел прийти в себя и повернулся к Андзолетто спиной, чтобы вдоволь наглядеться на Консуэло. – Я счастлив, что вижу ее такою, и запрещаю тебе будить ее.
«Да, да! Любуйся ею! – думал Андзолетто. – Мне только это и нужно».
Консуэло не просыпалась, и граф, понизив голос, с самым ласковым и веселым видом стал выражать свой восторг.
– Ты был прав, Дзото, – сказал он непринужденно, – Консуэло – лучшая певица во всей Италии, а я ошибался, сомневаясь в том, что она еще и красивейшая женщина в мире.
– Но ведь вы, высокочтимый граф, считали ее уродом, – заметил лукаво Андзолетто.
– И ты, конечно, передал ей все мои грубые выражения? Но ничего, я надеюсь искупить их таким крупным штрафом, что тебе не удастся более вредить мне, напоминая ей о моей вине.
– Вредить вам, ваше сиятельство? Как бы я мог это сделать, если бы даже это и пришло мне в голову?
Тут Консуэло слегка пошевелилась.
– Дадим ей спокойно проснуться, чтобы не напугать ее, а ты освободи мне стол. Мне надо разложить на нем и перечитать контракт Консуэло. Вот что, – добавил граф, когда Андзолетто, исполнив его приказание, очистил стол, – пока она спит, ты можешь и сам взглянуть на этот контракт.
– Контракт до пробного дебюта? Да это просто великолепно, о мой благородный покровитель! И дебют немедленно, до окончания срока ангажемента Кориллы?
– Это меня не смущает. Неустойка в тысячу цехинов. Мы заплатим ей, только и всего.
– Но если Корилла пустит в ход интриги?
– Если она пойдет на это, мы упрячем ее в тюрьму.
– Бог мой! Для синьора графа нет преград!
– Да, Дзото, – ответил сухо граф, – мы именно таковы: если уж мы чего-нибудь хотим, то добиваемся этого наперекор всему и всем.
– Как! Условия ангажемента те же, что у Кориллы? Для дебютантки без имени, без известности те же условия, что для знаменитой певицы, кумира публики?
– Новую певицу будут обожать еще больше. Если же условия прежней певицы ее не удовлетворят, то стоит ей сказать одно слово, и она получит вдвое больше. Все зависит от нее самой, – прибавил граф, слегка повысив голос, так как заметил, что Консуэло просыпается. – Ее судьба в ее руках.
Консуэло, услышав сквозь сон эти слова, протерла глаза и, убедившись, что все это происходит наяву, соскользнула с кровати. Не задумываясь над необычностью такого посещения, она привела в порядок волосы, накинула мантилью и с наивной доверчивостью вмешалась в разговор:
– Вы слишком добры, синьор граф, но я не настолько самонадеянна, чтобы воспользоваться вашей добротой. До дебюта я не подпишу ангажемента. Это было бы недобросовестно с моей стороны. Я могу не понравиться публике, провалиться, быть освистанной. Что, если в этот день я окажусь не в голосе, растеряюсь, наконец, просто буду некрасивой… Связанный словом, вы не возьмете его обратно из гордости, я же слишком горда, чтобы злоупотребить им…
– Некрасивой в такой день, Консуэло! – воскликнул граф, пожирая ее глазами. – Вы – некрасивой? Взгляните на себя, как вы есть, сейчас! – продолжал он, взяв ее за руку и подводя к столу, на котором стояло зеркальце. – Если вы восхитительны в таком костюме, что же будет, когда вы появитесь осыпанная драгоценными камнями, сияющая, торжествующая?!
Андзолетто, видя дерзость графа, чуть не скрежетал от ярости зубами. Но насмешливое равнодушие, с которым Консуэло отнеслась к пошлым ухаживаниям Дзустиньяни, тотчас успокоило его.
– Синьор граф, – сказала она, отталкивая от себя осколок зеркала, который граф поднес к ее лицу, – смотрите не разбейте остаток моего зеркала: у меня никогда не было другого, и я им дорожу, так как оно ни разу не обманывало меня. Кто бы я ни была – урод или красавица, но я отказываюсь от ваших щедрот. К тому же я должна сказать откровенно, что не стану ни дебютировать, ни заключать контракт, если мой жених, который стоит сейчас перед вами, не будет также приглашен в ваш театр, У нас с ним должна быть одна сцена и одна публика. И разлучиться мы не можем, так как собираемся обвенчаться.
Это неожиданное признание немного удивило графа, но он тотчас оправился от своего смущения.
– Вы правы, Консуэло, – ответил он, – и я вовсе не собираюсь вас разлучать. Дзото будет дебютировать вместе с вами. Однако мы не должны закрывать глаза на то, что хоть у него и большой талант, все-таки ему далеко до вас.
– Я думаю иначе, – горячо возразила Консуэло, покраснев при этом, словно обида была нанесена ей самой.
– Знаю, знаю, что он в большей мере ваш ученик, чем ученик того профессора, которого я ему дал, – улыбаясь, заметил Дзустиньяни. – Не отпирайтесь, моя красавица! Помните, Порпора, узнав о вашей дружбе с ним, воскликнул: «Теперь мне понятны некоторые его достоинства, а то я никак не мог их совместить со столькими недостатками».
– Я очень благодарен господину профессору! – принужденно улыбаясь, сказал Андзолетто.
– Ничего, он изменит свое мнение, – весело проговорила Консуэло. – Публика заставит моего дорогого, славного учителя убедиться в обратном.
– Ваш дорогой, славный учитель – лучший судья, лучший знаток пения во всем мире, – возразил граф. – Пусть же Андзолетто продолжает пользоваться вашими указаниями. Это послужит ему только на пользу. Но, повторяю, мы не можем заключить с ним договора, пока не узнаем, как к нему отнесется публика. Пусть он дебютирует, а там, при нашей благосклонности, мы сумеем по справедливости удовлетворить его требования.
– Тогда мы будем дебютировать вместе. Мы ваши покорные слуги, господин граф. Но никакого контракта, никаких подписей до дебюта! На этом я стою твердо…
– Вы, может быть, не вполне довольны теми условиями, которые я вам предлагаю? Так продиктуйте сами, Консуэло. Вот вам перо – сами вычеркните, сами добавляйте; моя подпись внизу.
Консуэло взялась за перо. Андзолетто побледнел, а граф, заметив это, от удовольствия закусил кончик своего кружевного жабо, которое все время теребил. Решительно перечеркнув контракт, Консуэло написала там, где еще оставалось место над подписью графа: «Андзолетто и Консуэло обязуются вместе принять условия, которые будет угодно графу Дзустиньяни им предложить после их дебюта, каковой должен состояться в будущем месяце в театре Сан-Самуэле». Она быстро подписала свое имя, а затем передала перо возлюбленному.
– Подписывай не читая, – сказала она, – этим ты хоть в какой-то мере докажешь твоему благодетелю свою признательность и доверие.
Андзолетто все-таки, прежде чем подписать, быстро пробежал глазами написанное. Граф тоже прочел, глядя через его плечо.
– Консуэло! – воскликнул Дзустиньяни. – Право, вы странная девушка! Удивительное существо! Ну, а теперь идемте оба ко мне обедать, – добавил он, разорвав контракт и предлагая руку Консуэло.
Девушка приняла приглашение, но попросила графа вместе с Андзолетто подождать ее в гондоле, пока она приведет себя в порядок.
«Как видно, у меня будет на что сшить себе подвенечное платье», – подумала Консуэло, оставшись одна.
Она надела ситцевое платье, пригладила волосы и, выбежав на лестницу, понеслась вниз, распевая во весь голос какую-то звонкую музыкальную фразу. Граф, желая проявить особую учтивость, остался с Андзолетто ждать ее на лестнице. Не подозревая, что Дзустиньяни может оказаться так близко, она чуть не упала в его объятия, но, быстро высвободившись, поймала его руку и, по местному обычаю, поднесла к губам с почтительностью подчиненной, не стремящейся перешагнуть через различие в общественном положении. Потом, обернувшись, бросилась на шею жениху и, радостная, шаловливая, прыгнула в гондолу, не дожидаясь помощи своего церемонного покровителя, немного раздосадованного всем происшедшим.
Глава XV
Граф, видя, что Консуэло равнодушна к деньгам, попытался возбудить ее тщеславие, предложив ей бриллианты и туалеты, но и от них она отказалась. Сначала Дзустиньяни вообразил, что она угадала его тайные намерения, но вскоре ему стало ясно, что в ней говорит лишь гордость простолюдинки: она не хотела наград, еще не заслуженных на сцене его театра. Однако он заставил ее принять платье из белого атласа, под тем предлогом, что неприлично выступать в его салоне в ситцевом платье, и потребовал, чтобы она из уважения к нему рассталась со своей неприхотливой одеждой. Она подчинилась и отдала свою прекрасную фигуру в руки модных портних, которые, конечно, не преминули нажиться на этом и не поскупились на материю. Через два дня она превратилась в нарядную даму, вынужденная принять еще жемчужное ожерелье, которое граф поднес ей как плату за тот вечер, когда она восхитила своим пением era и его друзей. Консуэло все-таки была красива, хотя этот наряд не шел к характеру ее красоты, а нужен был лишь для того, чтобы пленять пошлые взоры. Однако она их не привлекла. С первого взгляда Консуэло никого не поражала и не ослепляла: она была бледна, да и в глазах ее – девушки скромной и всецело погруженной в свои занятия – не было того блеска, который постоянно горит во взгляде женщин, жаждущих одного – блистать. В лице ее, серьезном и задумчивом, сказывалась вся ее натура. Наблюдая ее за столом, когда она болтала о пустяках, вежливо скучая среди пошлости светской жизни, никто даже и не подумал бы, что она красива. Но как только лицо это озарялось веселой, детской улыбкой, указывавшей на душевную чистоту, все тотчас находили ее милой. Когда же она воодушевлялась, бывала чем-нибудь живо заинтересована, растрогана, увлечена, когда проявлялись ее богатые внутренние силы и тайные чувства, она мгновенно преображалась – огонь гениальности и любви загорался в ней, и она приводила в восторг, увлекала, покоряла, совершенно не отдавая себе отчета в тайне своей мощи.
Графа удивляло и странно мучило его чувство к Консуэло. У этого светского человека была артистическая душа, и Консуэло впервые заставила задрожать и запеть ее струны. Но и теперь этот вельможа не понимал, сколь ничтожны и бессильны были его способы завоевать эту женщину, так мало похожую на тех, кого ему удалось развратить.
Он вооружился терпением и решил попытаться пробудить в ней чувство соперничества: он пригласил Консуэло в театр, в свою ложу, надеясь, что успех Кориллы разбудит в ней честолюбие. Но результат получился совсем не тот, какого он ожидал. Консуэло вышла из театра равнодушная, молчаливая, уставшая от грома рукоплесканий, но совсем не захваченная ими. У Кориллы она не нашла подлинного таланта, благородной страсти, величия. Она считала себя достаточно сведущей, чтобы судить об этом искусственном, сделанном таланте, загубленном в самом начале беспорядочной жизнью и эгоизмом. Равнодушно поаплодировала она примадонне, проронила несколько сдержанных слов одобрения, но не захотела разыгрывать пустой комедии – восторгаться соперницей, не возбудившей в ней ни страха, ни восторга. На минуту графу показалось, что Консуэло в душе завидует если не таланту, то успеху Кориллы.
– Успех этот ничто в сравнении с тем, какой предстоит вам, – сказал он ей. – Он дает лишь слабое представление о победах, которые ожидают вас, если вы покажете себя публике такою, какой показали себя нам. Надеюсь, вы не испуганы тем, что здесь видели?
– Нисколько, синьор граф, – улыбаясь, ответила Консуэло. – Эта публика не страшит меня, я даже и не думаю о ней. Я думаю о том, что можно было бы еще сделать с этой ролью. Корилла исполняет ее блестяще, но, мне кажется, в ней есть и другие, не использованные ею эффекты.
– Как? Вы не думаете о публике?
– Нет, я думаю о партитуре, о замысле композитора, о характере роли, об оркестре, достоинства которого надо использовать, а недостатки скрыть, постаравшись превзойти самое себя в некоторых местах. Я слушаю хор, который не всегда на высоте: он, по-моему, требует более строгого управления; обдумываю, в каких местах надо будет пустить в ход все свои возможности, предусмотрительно приберегая для этого силы в местах менее трудных. Как видите, господин граф, есть много такого, о чем стоит подумать, помимо публики, которая ничего в этом не понимает и ничему не может меня научить.
Эти здравые взгляды и строгая оценка до того поразили Дзустиньяни, что он не решился расспрашивать далее и со страхом спросил себя, какими средствами может такой поклонник, как он, подчинить себе этот необычный ум.
К дебюту обоих молодых людей готовились по всем правилам, практикующимся в подобных случаях. Между графом и Порпорой, между Консуэло и ее возлюбленным шли бесконечные пререкания и споры. Старый учитель и его даровитая ученица восставали против пышных шарлатанских объявлений, против того бесчисленного множества мелких и пошлых приемов, которые мы в наше время сумели довести до наглости и обмана. В то время в Венеции газеты не играли большой роли в этих делах. Тогда не умели еще так искусно подбирать состав публики, не прибегали к помощи рекламы, к бахвальству выдуманных биографий и к той всесильной машине, что зовется клакой. Тогда были в ходу серьезные происки и страстные интриги, но они происходили в узком кругу, а все решала сама публика, наивно увлекаясь одними артистами, столь же искренно не любя других. И не всегда при этом главную роль играло искусство. Тогда – как и теперь – в храме Мельпомены боролись страсти и страстишки, но прежде не умели скрывать так искусно причины разногласий и относить их за счет неподкупной любви к искусству. А за всем этим в конечном итоге скрывались все те же мелкие человеческие чувства – только цивилизация еще не прикрывала их затейливой внешней оболочкой.
В такого рода делах Дзустиньяни вел себя скорее, как меценат-вельможа, чем как директор театра. Тщеславие было для него более сильным двигателем, чем жадность у обычных любителей наживы. В своих салонах он подготовлял публику, подогревая успех своих представлений. В его методах не было поэтому ничего подлого или низкого – он вносил в них чисто ребяческое самолюбие, стремление восторжествовать в своих любовных похождениях, умение ловко использовать светскую болтовню. И вот теперь он начал понемногу, довольно-таки искусно, разрушать здание, некогда воздвигнутое его же собственными руками, – здание славы Кориллы. Все видели, что он хочет создать славу новой звезде, и ему приписывалось полное обладание тем предполагаемым чудом, которое он собирался показать. Бедная Консуэло еще и не подозревала о чувствах графа к ней, а вся Венеция уже говорила, будто ему опротивела Корилла и он собирается заместить ее, устроив дебют своей новой любовнице. Многие добавляли: «Какое издевательство над публикой и какой вред для театра! Его фаворитка – какая-то уличная певичка, которая ничего не умеет и обладает лишь красивым голосом да сносной наружностью».
Начались интриги сторонников Кориллы. Разыгрывая роль соперницы, принесенной в жертву, она подбивала многочисленных своих поклонников и их друзей расправиться с Zingarella (цыганочкой) за ее наглые происки. Начались интриги и в защиту Консуэло. Тут хлопотали женщины, у которых Корилла отбила или совратила мужей и возлюбленных; были здесь и мужья, предпочитавшие, чтобы известная кучка венецианских донжуанов увивалась лучше вокруг новой дебютантки, чем вокруг их собственных жен; наконец, в числе интригующих были обманутые и отвергнутые любовники Кориллы, жаждавшие, чтобы успех ее соперницы отомстил за них.
Истинные dilettantiti musica[650]650
Любители музыки (итал.).
[Закрыть] также разбились на два лагеря. В одном были сторонники таких столпов, как Порпора, Марчелло, Йомелли и другие, предсказывающие, что с появлением на сцене превосходной певицы туда вернутся и добрые старые традиции. В другом были второстепенные композиторы, чьи более легковесные произведения всегда предпочитала Корилла: ее уход грозил их интересам. Вообще весь театр Сан-Самуэле пришел в волнение: музыканты оркестра, боявшиеся, что их засадят за давно забытые партитуры и придется серьезно взяться за работу, весь персонал, предвидевший реформы, всегда связанные с переменами в труппе, даже машинисты сцены, костюмерши, парикмахеры – все всполошились, все были за или против дебюта. По правде говоря, в республике этим дебютом интересовались гораздо больше, чем действиями нового правительства, возглавляемого дожем Пьетро Гримальди, который недавно мирно заступил место своего предшественника, дожа Луиджи Пизани.
Консуэло была в подавленном состоянии духа, ее огорчали и промедление и все эти тревоги, связанные с ее начинающейся карьерой. Она готова была дебютировать без всяких приготовлений, сразу, как только разучит новую оперу. Совершенно не разбираясь в этой массе интриг, она считала их скорее опасными, чем полезными, и была убеждена, что может отлично обойтись без них. Но граф знал глубже тайны театрального дела и, желая, чтобы его воображаемая близость с Консуэло вызывала не насмешки, а зависть, делал все возможное, чтобы завербовать ей как можно больше сторонников. Ежедневно он вызывал ее к себе и представлял всей городской и провинциальной аристократии. Скромность и душевная подавленность Консуэло плохо способствовали его планам, но стоило ей запеть, и она одерживала блестящую, решительную, бесспорную победу.
Андзолетто отнюдь не разделял отвращения своей подруги к разным побочным средствам. Его собственный успех далеко не был так обеспечен. Прежде всего граф относился к нему не с таким интересом; к тому же тот тенор, которого ему предстояло заменить, был первоклассным певцом, и заставить забыть его не так-то легко. Правда, Андзолетто тоже каждый вечер выступал у графа, и Консуэло удивительно искусно умела выдвигать его на первый план в дуэтах; увлеченный и поддерживаемый ее могучим талантом, далеко превосходящим его собственный, Андзолетто часто пел очень хорошо. Ему много аплодировали, поощряли его, но прекрасный голос юноши, возбуждавший восторг в начале его пения, потом проигрывал в сравнении с голосом Консуэло, и не только слушатели находили в нем недостатки, но он и сам с ужасом сознавал их. Тут бы ему с новым жаром приналечь на работу, однако Консуэло никак не могла убедить его заниматься с ней по утрам на Корте-Минелли, где она продолжала жить, несмотря на все уговоры графа, предлагавшего устроить ее более прилично. Андзолетто был до того поглощен разными визитами, хлопотами, интригами, у него было столько мелких забот и тревог, что он не мог найти ни времени, ни желания для работы.
Среди всех этих треволнений Андзолетто пришел к выводу, что наиболее опасным врагом для него является Корилла, и, зная, что граф с ней больше не видится и нисколько ею не интересуется, решил побывать у нее, чтобы склонить на свою сторону. Он слышал, что певица весело и с философской иронией относится к измене графа и к его мести, что она получила блестящее предложение от Итальянской оперы в Париже и ждет только провала своей соперницы, в котором, по-видимому, уверена, а пока хохочет и издевается над несбыточными мечтаниями графа и его приближенных. Андзолетто решил обезоружить этого страшного врага, действуя лукаво и с осторожностью; и вот однажды, расфрантившись и надушившись, он отправился к ней после полудня, в тот час, когда в венецианских дворцах царит тишина, все отдыхают и посещения весьма редки.








