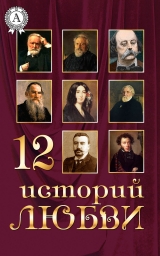
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Александр Дюма
Соавторы: Александр Пушкин,Лев Толстой,Александр Куприн,Иван Тургенев,Уильям Шекспир,Виктор Гюго,Александр Грин,Жорж Санд,Николай Лесков,Гюстав Флобер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 263 (всего у книги 294 страниц)
Глава LXXIV
В первый же день своего нового пути наши странники, переходя по деревянному мосту через реку, увидели изможденную женщину с крошечной девочкой на руках. Женщина сидела у перил и просила милостыню, дрожа от лихорадки. Ребенок был бледен и явно нездоров. Консуэло остановилась, охваченная глубокой жалостью и состраданием к несчастным, напомнившим ей мать и ее собственное детство.
– Вот в таком положении мы бывали не раз, – сказала она Йозефу, понявшему ее с полуслова и остановившемуся вместе с ней, чтобы взглянуть на нищенку и расспросить ее.
– Увы, – начала она свой рассказ, – еще недавно я была так счастлива! Я крестьянка из окрестностей Харманица в Чехии. Пять лет назад я вышла замуж за своего красивого и рослого двоюродного брата, он был лучшим работником в округе и лучшим из мужей. Через год после свадьбы мой бедный Карл отправился в горы за дровами и вдруг исчез, и никто так и не узнал, что с ним приключилось. Я осталась одна в горе и в нужде. Все думала, что муж либо свалился в пропасть, либо его загрызли волки. Я могла снова выйти замуж, но у меня и в мыслях того не было – ведь я любила мужа и не знала, что с ним сталось. И как же была я вознаграждена, детки мои! Однажды вечером, в прошлом году, кто-то постучался в дверь. Я открыла и тут же упала на колени: передо мной стоял муж, но, Боже милосердный, в каком виде! Словно привидение: весь высохший, желтый, глаза блуждают, волосы смерзлись, ноги в крови, его бедные босые ноги, что прошли не знаю уж сколько сотен миль по самым ужасным дорогам и в самую жестокую зиму! Но он был так счастлив, что вернулся к жене и к бедной маленькой дочке, что вскоре воспрянул духом, поправился, принялся за работу и снова стал таким, как прежде. Рассказал он мне, что его схватили разбойники и увезли далеко-далеко, к морю, а там продали в солдатчину прусскому королю. Он прожил три года в самой унылой стране, нес там очень тяжелую службу и с утра до вечера получал побои. Наконец, милые мои дети, ему удалось бежать, дезертировать. Он как бешеный отбивался от своих преследователей, одного убил, а другому вышиб камнем глаз. Потом он шел много дней и много ночей, прятался, словно дикий зверь, в болотах и лесах. Так пробрался он домой через Саксонию и Чехию. Он спасся! Он возвратился ко мне! Ах, как мы были счастливы всю зиму, несмотря на бедность и холод! Одно мучило нас: как бы снова не появились в наших краях эти хищные птицы, причина всех наших бед. Мы хотели отправиться в Вену, броситься к ногам императрицы, рассказать ей о нашем горе, просить ее покровительства, военной службы для мужа и кое-какой помощи для меня и ребенка. Но я захворала – очень уж потрясло меня возвращение моего Карла, и нам пришлось всю зиму и все лето провести в горах, выжидая, пока я смогу пуститься в путь. Все это время мы были постоянно настороже, даже ночью спали одним глазом. Наконец счастливая минута настала! Я почувствовала себя достаточно сильной для ходьбы, а нашу девчурку, тоже больную, понес на руках отец. Но злодейка-судьба поджидала нас, когда мы спустились с гор. Мы спокойно шли по краю малолюдной дороги, не обращая внимания на карету, которая уже с четверть часа медленно ехала следом за нами. Вдруг карета эта остановилась и из нее вышли трое мужчин.
– Это на самом деле он? – воскликнул один из них.
– Да, – ответил другой, кривой. – Он! Он! Хватай его!
Муж обернулся при этих словах и сказал мне:
– Ой! Это те самые пруссаки! Вот кривой, которому я вышиб глаз, я узнаю его!
– Беги же! Беги! Спасайся! – прошептала я.
Он пустился бежать, но тут один из этих страшных людей бросился ко мне, повалил на землю и приставил пистолеты к моей голове и к головке моего ребенка. Не приди ему на ум эта дьявольская мысль, муж был бы спасен, так как бегал он лучше бандитов, да и был впереди них. Но у меня вырвался вопль, Карл обернулся, увидел свою дочь под дулом пистолета и, громко крича, чтобы не стреляли, побежал обратно. Когда изверг, наступивший на меня ногой, увидел мужа на таком расстоянии, что тот мог его услышать, он крикнул:
– Сдавайся, или я их убью! Сделай только один шаг назад, и я стреляю!
– Сдаюсь! Сдаюсь! Вот я! – ответил бедный мой муж и помчался к ним быстрее, чем убегал, несмотря на мои мольбы и знаки, чтобы он дал нам умереть.
Когда эти звери схватили, наконец, Карла, они принялись его бить и били до крови. Я бросилась было защищать мужа, но они избили и меня. Видя, что его вяжут по рукам и ногам, я стала рыдать и громко причитать. Злодеи объявили, что, если я тотчас же не умолкну, они прикончат ребенка, и уже вырвали его у меня. Тогда Карл сказал мне: «Замолчи, жена, приказываю тебе! Подумай о нашей девочке!».
Я послушалась; но, когда я увидела, как эти чудовища вяжут мужа и затыкают ему рот кляпом, приговаривая: «Да, да, плачь! Больше ты его не увидишь, мы везем его на виселицу!», сердце у меня перевернулось и я замертво упала на дорогу.
Не знаю, сколько времени я пролежала в пыли. Когда я открыла глаза, была уже ночь. Бедная девочка, прижавшись ко мне, дрожала, надрываясь от рыданий. На дороге не осталось ничего, кроме кровавого пятна да следов от колес кареты, что увезла моего мужа. Я просидела там еще час-другой, пытаясь успокоить и отогреть Марию, окоченевшую и перепуганную до полусмерти. Наконец, собравшись с мыслями, я рассудила, что неразумно бежать за похитителями – догнать их я была не в силах, а лучше заявить обо всем полиции в ближайшем городе, Визенбахе. Так я и сделала, а затем решила продолжать свой путь в Вену, броситься к ногам императрицы и молить ее, чтобы она не дала прусскому королю казнить моего мужа. А если не догонят вербовщиков, ее величество могла бы потребовать выдачи его, как своего подданного. И вот, на милостыню, собранную во владениях прусского епископа, где я рассказала о своем несчастье, доехала я в повозке до Дуная, а оттуда на лодке спустилась вниз по реке до Мелка. Но теперь мои деньги кончились. Люди, которым я рассказываю о случившемся, принимают меня, должно быть, за обманщицу, не верят мне и дают так мало, что остается только идти пешком. Хорошо, если через пять-шесть дней я доберусь до Вены и не умру от усталости, так как недуг и горе лишили меня последних сил. А теперь, милые мои детки, если вы можете что-нибудь дать мне, дайте поскорее; мне больше нельзя отдыхать, я должна идти и идти, как вечный жид, пока не добьюсь справедливости.
– О, моя милая, о, бедняжка! – воскликнула Консуэло, обнимая нищенку и плача от радости и сострадания. – Мужайтесь! Мужайтесь! Надейтесь! Успокойтесь! Муж ваш освобожден. Он сейчас скачет на добром коне по направлению к Вене с туго набитым кошельком в кармане.
– Что вы говорите! – воскликнула жена дезертира, и глаза ее загорелись, а губы судорожно задергались. – Вы это знаете? Вы видели его? О Господи! Боже великий! Боже милосердный!
– Что вы делаете! – остановил Йозеф свою подругу. – А если эта радость ложная, если дезертир, которому мы помогли спастись, не муж ее?
– Это он, Йозеф! Говорю тебе, это он! Вспомни кривого, вспомни приемы синьора Пистолета. Вспомни, как дезертир говорил, что он человек семейный и австрийский подданный! Впрочем, в этом очень легко убедиться. Каков из себя ваш муж?
– Рыжий, с зелеными глазами, широколицый, ростом пять футов восемь дюймов. Нос немного приплюснутый, лоб низкий, – словом, красавец мужчина!
– Так, все верно! – сказала, улыбаясь, Консуэло. – А как он был одет?
– Плохонький зеленый дорожный плащ, коричневые штаны, серые чулки.
– И это похоже! А на вербовщиков вы обратили внимание?
– Обратила ли я внимание на вербовщиков! Пресвятая дева! Да их страшные лица всегда будут стоять перед моими глазами!
Тут бедная женщина с большой точностью описала синьора Пистолета, кривого и Молчальника.
– Был там еще четвертый, – добавила она, – он оставался при лошади и ни во что не вмешивался. У него было толстое равнодушное лицо, которое показалось мне даже более жестоким, чем у остальных. Когда я плакала, а мужа колотили и вязали веревками, словно какого-нибудь убийцу, этот толстяк преспокойно распевал и играл на губах, словно на трубе: брум, брум, брум. Ах! Что за каменное сердце!
– Ну, это Мейер! – воскликнула Консуэло, обращаясь к Йозефу. – Неужели ты и теперь еще сомневаешься? Это же его милая привычка все время петь, подражая трубе!
– Правда, – согласился Йозеф. – Значит, при нас в самом деле освободили Карла! Слава Богу!
– Да, да! Прежде всего надо возблагодарить Господа! – воскликнула бедная женщина, бросаясь на колени. – А ты, Мария, – обратилась она к своей девочке, – поцелуй землю вместе со мной, благодари ангелов-хранителей и пресвятую деву: твой папа нашелся, и мы скоро его увидим!
– Скажите мне, милая, – спросила Консуэло, – у Карла тоже есть обыкновение, когда он чем-нибудь обрадован, целовать землю?
– Да, дитя мое, он всегда так делает. Когда он вернулся после своего побега, то не вошел в дом, пока не поцеловал порога.
– Что это, обычай вашей страны?
– Нет, его собственная привычка. Он и нас обучил тому же, и это всегда приносит нам счастье.
– Ну, значит, именно его мы и видели, – сказала Консуэло, – на наших глазах, поблагодарив своих избавителей, он поцеловал землю. Ты ведь заметил, Беппо?
– Конечно, заметил! Да, это он самый! Теперь не может быть никаких сомнений!
– Дайте же мне прижать вас к сердцу, ангелочки мои, – воскликнула жена Карла, – какую весть вы мне принесли! Но как же это случилось?
Йозеф рассказал все, как было. Когда бедная женщина излила весь свой восторг, всю благодарность небесам и Йозефу с Консуэло, которых справедливо считала главными спасителями мужа, она спросила, как же ей теперь разыскать его.
– Думаю, – сказала Консуэло, – что вам лучше всего продолжать свой путь. Вы найдете мужа в Вене, если не встретитесь с ним еще дорогой. Несомненно, первой его заботой, когда он попадет в Вену, будет доложить обо всем императрице, а затем просить городские власти, чтобы по всей стране сообщили ваши приметы. Конечно, он не преминул просить о том же в каждом сколько-нибудь значительном городе, через который проезжал, и расспрашивал в пути, не видал ли кто вас. Если вы доберетесь до Вены раньше него – смотрите, сейчас же дайте знать о себе городским властям, чтобы Карлу, когда он появится в городе, тотчас передали это.
– Но что это за власти? Где они помещаются? Я тут ровно ничего не смыслю. Такой большой город! Я, бедная крестьянка, совсем там потеряюсь!
– Знаете, – сказал Йозеф, – у нас самих никогда не было таких дел, и мы тоже ничего не смыслим в них, но вы попросите первого встречного указать вам, где находится прусское посольство, а там спросите господина барона фон…
– Осторожно, Беппо, – прошептала Консуэло, напоминая Йозефу, что не следует компрометировать барона, вмешивая его в эту историю.
– Ну, а граф Годиц?
– Да, к графу можно обратиться. Он сделает из тщеславия то, что его спутник сделал бы по доброте. Разыщите дворец маркграфини Байрейтской, – сказала Консуэло женщине, – и передайте ее мужу записку, которую я сейчас напишу.
Она вырвала листок из записной книжки Йозефа и карандашом написала следующее:
Консуэло Порпорина, примадонна театра Сан-Самуэле в Венеции, она же бывший синьор Бертони, странствующий певец в Пассау, поручает благородному сердцу графа Годица-Росвальда жену Карла, дезертира, которого ваше сиятельство вырвали из рук вербовщиков и осыпали своими милостями. Порпорина льстит себя надеждой отблагодарить господина графа за его покровительство в присутствии маркграфини, если господин граф окажет певице честь, разрешив ей выступить в малых покоях ее высочества.
Консуэло старательно вывела свою подпись и посмотрела на Йозефа. Он ее понял и достал кошелек. По молчаливому соглашению и в едином порыве великодушия они отдали бедной женщине последние два золотых, оставшиеся от подарка Тренка, чтобы она могла доехать до Вены, и, доведя ее до ближайшей деревни, помогли ей нанять небольшую повозку. После этого они накормили ее, снабдили кое-какими пожитками, истратив на это остатки своего скромного достояния, и отправили в путь-дорогу счастливейшее создание, только что возвращенное ими к жизни.
Тут Консуэло, смеясь, спросила, осталось ли что-нибудь у них в кошельке. Йозеф, тряся над ухом скрипкой, ответил:
– Только звуки!
Консуэло попробовала голос и, блестящей руладой огласив окрестность, воскликнула:
– И сколько еще звуков! – Затем весело протянула руку своему товарищу и, горячо пожав его руку, сказала: – Ты молодец, Беппо!
– И ты тоже! – ответил Йозеф, смахивая набежавшую слезу и громко смеясь при этом.
Глава LXXV
Не так уж страшно очутиться без денег под конец путешествия, но, будь наши юные музыканты еще далеко от цели, они и тогда были бы не менее веселы, чем в ту минуту, когда оказались с пустым карманом. Нужно самому побывать в таком положении, испытать безденежье на чужбине (а Йозеф здесь, вдали от Вены, чувствовал себя почти таким же чужим, как и Консуэло), чтобы знать, какая чудесная беззаботность, какой дух изобретательности и предприимчивости, словно по волшебству, охватывают артиста, истратившего последнюю монету. До этого он тоскует, постоянно боится неудач, у него мрачное предчувствие всевозможных неприятностей, затруднений, унижений, но все это рассеивается, как только отдан последний грош. Тут для поэтических душ открывается новый мир, появляется святая вера в милосердие ближних, всякого рода пленительные иллюзии, жажда деятельности и приветливость, помогающие легко преодолевать первые же препятствия. Консуэло, находившая в этом возвращении к бедности своего детства какое-то романтическое удовольствие и счастливая тем, что сделала доброе дело, отдав все свое достояние, сейчас же нашла средство добыть себе и своему спутнику ужин и ночлег.
– Сегодня воскресенье, – сказала она Йозефу, – в первом же поселке, который нам попадется на пути, начни играть танцы. Мы не пройдем и двух улиц, как найдутся люди, желающие поплясать, а мы с тобой изобразим деревенский оркестр. Ты не можешь сделать свирель? Я мигом выучусь на ней играть. И стоит мне извлечь из нее хоть несколько звуков – аккомпанемент тебе обеспечен.
– Могу ли я сделать свирель? – воскликнул Йозеф. – Сейчас увидите!
Вскоре на берегу реки они отыскали прекрасный стебель тростника. Йозеф искусно просверлил его – и он зазвучал чудесно. Свирель тут же была настроена, затем последовала репетиция, и наши герои преспокойно направились к деревушке, находившейся на расстоянии трех лье. Они вошли в нее под звуки своих инструментов, выкрикивая перед каждой дверью: «Кто хочет поплясать, кто хочет попрыгать? Вот музыка! Бал начинается!».
Когда они добрались до небольшой площади, обсаженной красивыми деревьями, за ними неслись уже, крича и хлопая в ладоши, с полсотни детишек. Вскоре появились веселые парочки и, подняв первую пыль, начали танцы. Не успели они утоптать землю, как на площади собралось уже все население деревни, кольцом окружив неожиданно и беззаботно возникший сельский бал. Сыграв несколько вальсов, Йозеф сунул скрипку под мышку, а Консуэло, взобравшись на стул, произнесла перед присутствующими речь, в которой доказывала, что у голодных музыкантов и пальцы слабы и дыхания не хватает. Не прошло и пяти минут, как у них вволю было и хлеба, и сыра, и пива, и сладких пирожков. Что же касается денежного вознаграждения, то на этот счет быстро сговорились: решено было сделать сбор, и каждый даст, сколько пожелает.
Закусив, Консуэло и Йозеф взобрались на бочку, которую для этого торжественно выкатили на середину площади, и танцы возобновились. Но через два часа они были прерваны известием, которое взволновало всех и, переходя из уст в уста, дошло до наших путешественников. Оказалось, что местный сапожник, торопясь закончить ботинки для одной требовательной заказчицы, всадил себе в большой палец шило.
– Это ужасное несчастье! – проговорил какой-то старик, опираясь на бочку, служившую музыкантам пьедесталом. – Ведь сапожник Готлиб – органист нашей деревни, а завтра у нас храмовой праздник. Да, большой праздник, чудесный праздник! Такого не бывает на десять лье вокруг! Особенно хороша у нас месса, ее издалека приходят послушать. Наш Готлиб – настоящий капельмейстер: он и на органе играет, и управляет детским хором, и сам поет, и чего только не делает, особенно в этот день! Просто изо всех сил старается! Теперь без него все пропало! А что скажет господин каноник собора святого Стефана! В этот праздник он сам приезжает к нам служить торжественную мессу и всегда бывает так доволен нашей музыкой! Добрый каноник от музыки без ума! Великая честь для нас видеть его перед нашим алтарем – ведь он никогда не выезжает из своего бенефиция и не любит себя утруждать из-за пустяков.
– Ну что ж, – сказала Консуэло, – это легко уладить: мы с товарищем возьмем на себя и орган и детский хор, – словом, всю мессу, а если господин каноник останется недоволен… ну что ж, вы нам ничего не заплатите за труды.
– Да, да! Легко сказать, молодой человек! – воскликнул старик. – Нашу обедню под скрипку и флейту не служат, да-с! Это дело серьезное, а вы не знаете даже наших партитур.
– Мы займемся ими сегодня же вечером, – проговорил Йозеф с видом снисходительного превосходства, который произвел большое впечатление на собравшихся вокруг слушателей.
– Так вот, – сказала Консуэло, – ведите нас в церковь, пусть кто-нибудь раздувает мехи, и, если наша игра придется вам не по вкусу, вы сможете отказаться от наших услуг.
– А как же с той партитурой, что так мастерски разработал Готлиб?
– Мы сходим к нему, и, если он будет недоволен нами, откажемся от своего намерения. К тому же раненый палец не помешает ему управлять хором и даже самому исполнить свою партию.
Деревенские старики, собравшись вокруг наших путников, посовещались и решили испытать их. Бал отменили – ведь месса каноника дело посерьезнее, чем какие-то там танцы!
После того как Гайдн и Консуэло поочередно сыграли на органе, а затем пропели вместе и каждый в отдельности, их, за неимением лучшего, признали довольно сносными исполнителями. Кое-кто из ремесленников осмелился даже утверждать, что они играют и поют лучше Готлиба и что исполненные ими отрывки из Скарлатти, Перголезе и Баха по меньшей мере так же хороши, как музыка Гольцбауэра, дальше которой Готлиб никак не хотел идти. А приходский кюре, прибежавший послушать их, принялся даже утверждать, будто канонику гораздо больше понравятся эти песнопения, чем те, которыми его обычно угощали. Пономарь, не разделявший это мнение, грустно покачал головой, и кюре, не желая вызывать недовольство своих прихожан, согласился, чтобы искусные исполнители, посланные самим провидением, сговорились, если возможно, с Готлибом относительно мессы.
Все толпой направились к дому сапожника, и тому пришлось каждому показать свою распухшую руку, чтобы его освободили от обязанностей органиста. Да, без сомнения, выступать он был совершенно не в состоянии. Готлиб обладал некоторой музыкальностью и довольно прилично играл на органе, но, избалованный похвалами односельчан и несколько шутливым одобрением каноника, относился с болезненным самолюбием ко всему, что касалось его руководства и исполнения. Вот почему он весьма недоброжелательно встретил предложение заменить его двумя случайными артистами – он предпочитал, чтобы праздник был испорчен и торжественная месса осталась совсем без музыки, только бы не делить ни с кем своей славы. Однако же ему пришлось уступить. Долго он делал вид, будто не может найти партитуры, и разыскал ее только тогда, когда кюре пригрозил, что предоставит юным артистам выбор и исполнение всей музыкальной программы. Консуэло и Гайдн должны были доказать свое умение, прочитав с листа самые трудные пассажи той из двадцати шести месс Гольцбауэра, которую предполагалось исполнять на следующий день. Музыка эта, не талантливая и не оригинальная, была все же хорошо написана, легка и понятна, особенно для Консуэло, привыкшей преодолевать несравненно большие трудности. Слушатели были очарованы, а Готлиб, становившийся все более удрученным и хмурым, заявил, что у него лихорадка и он немедленно ляжет в постель, а впрочем, очень рад, что все остались довольны.
Певцы и музыканты тотчас же собрались в церкви, и два наших юных импровизированных регента начали репетицию. Все шло прекрасно. Пивовар, ткач, школьный учитель и булочник играли ни скрипках; дети и их родители составляли хоры. Все это были добрые крестьяне и ремесленники, люди флегматичные, внимательные и добросовестные. Йозефу уже приходилось слышать музыку Гольцбауэра в Вене, где она была в то время в чести, и он легко с ней справлялся. Консуэло же, поочередно участвуя во всех певческих выступлениях, так хорошо вела за собою хоры, что они превзошли самих себя. Два соло должны были исполнять сын и племянница Готлиба, его любимые ученики и лучшие певцы в приходе, но оба корифея на репетицию не явились под предлогом того, что они и так уверены в своих силах.
Йозеф и Консуэло отправились ужинать в дом кюре, где им был приготовлен ночлег. Добрый старик так и сиял; видно было, что он очень дорожил благолепием своей мессы, желая как можно лучше угодить господину канонику.
На следующий день вся деревня еще до света была на ногах. Трезвонили в колокола, по дорогам из окрестных деревень тянулись толпы верующих, чтобы присутствовать на торжественной службе. Карета каноника приближалась с величавой медлительностью. Церковь была разубрана самыми лучшими украшениями. Важность, которую каждый приписывал своей роли, очень забавляла Консуэло. Здесь царило почти такое же тщеславие и соперничество, как за кулисами театра. Только выражалось оно более наивно и скорее смешило, чем вызывало негодование.
За полчаса до начала мессы явился растерянный пономарь и сообщил о страшном заговоре, подстроенном завистливым и вероломным Готлибом. Узнав, что репетиция прошла прекрасно и все участвовавшие в ней прихожане очарованы пришельцами, он притворился тяжело больным, запретил племяннице и сыну, двум главным корифеям, отходить от своей постели, и, таким образом, праздничная служба лишалась не только самого Готлиба, чье присутствие считалось необходимым, чтобы дать ход всему делу, но и двух сольных партий, лучших номеров мессы. Все хористы упали духом, и с большим трудом удалось старательному и энергичному пономарю собрать их для совещания в церкви.
Консуэло и Йозеф побежали туда же, заставили певцов повторить самые трудные места, поддерживая своими голосами более слабых, и вернули им уверенность и смелость. Что касается сольных партий, то они быстро сговорились и взялись исполнить их сами. Консуэло, порывшись в памяти, припомнила одно духовное песнопение Порпоры, по тону и словам подходящее к тому, что требовалось. Она тут же набросала его, положив клочок бумаги на колено, и прорепетировала с Гайдном, чтобы он мог ей аккомпанировать. Консуэло нашла и для него знакомый ему отрывок из произведения Себастьяна Баха, и они довольно удачно аранжировали его для данного случая.
Уже зазвонили к мессе, а они все еще репетировали и спевались, не обращая внимания на громкий трезвон большого колокола. Когда господин каноник в полном облачении предстал перед алтарем, хоры уже пели, несясь во весь опор и с многообещающей смелостью преодолевая фуги немецкого композитора. Консуэло с удовольствием глядела на серьезные лица добрых немецких простолюдинов и слушала их верные голоса, звучавшие с методической согласованностью и с никогда не ослабевающим, ибо неизменно сдержанным воодушевлением.
– Вот подходящие исполнители для такой музыки, – сказала она Йозефу во время паузы, – будь у них огонь, которого не хватило композитору, все было бы испорчено, но у них его нет, и музыка, созданная механически, воспроизводится механическими же исполнителями. Жаль, что здесь нет знаменитого маэстро Годица-Росвальда, чтобы управлять этими машинами, – он старался бы изо всех сил, ничего не добился бы, но остался бы чрезвычайно доволен собою.
Мужское соло беспокоило многих, но Йозеф блестяще с ним справился. Когда же настал черед Консуэло, то ее итальянская манера сначала всех удивила, даже немного смутила, но в конце концов все-таки очаровала. Певица старалась петь так хорошо, как только могла, и выразительность ее дивного торжественного пения привела Йозефа в невыразимый восторг.
– Не поверю, – сказал он, – чтобы вы могли когда-либо петь лучше, чем пели сейчас для жалкой деревенской мессы.
– Во всяком случае, никогда я не пела с таким подъемом и с таким удовольствием, – отвечала она. – Эта публика мне больше по душе, чем публика театральной залы. Ну, а теперь дай мне посмотреть отсюда, сверху, доволен ли господин каноник. Да! У почтенного каноника совсем блаженный вид, и, судя по тому, как все ищут в выражении его лица воздаяния за свою старательность, я вижу, что единственно, о ком никто здесь не думает, – это о Боге.
– За исключением вас, Консуэло! Только вера и любовь к Богу могут вдохновить на такое пение!
Когда оба солиста после мессы вышли из церкви, прихожане чуть было не понесли их с триумфом на руках в дом кюре, где их ждал хороший завтрак. Хозяин представил музыкантов господину канонику, и тот, осыпав их похвалами, выразил желание еще раз, на десерт, прослушать соло Порпоры. Но Консуэло, не без основания дивившаяся тому, как никто не узнал ее женского голоса, и опасавшаяся прозорливости каноника, отказалась петь под тем предлогом, что репетиция и деятельное участие во всех партиях слишком утомили ее. Отговорка, однако, не была принята во внимание, и обоим пришлось явиться к завтраку каноника.
Господин каноник был человек лет пятидесяти, с добрым и красивым лицом, хорошо сложенный, хотя немного располневший. Манеры его были изысканны и даже, можно сказать, благородны. Он всем говорил по секрету, что в жилах его течет королевская кровь, так как он один из четырехсот незаконнорожденных сыновей Августа Второго, курфюрста Саксонского и короля польского.
Он был мил и любезен, насколько подобает быть светскому человеку и духовному сановнику. Йозеф заметил подле него какого-то мирянина, с которым он обращался одновременно и почтительно и фамильярно. Йозефу казалось, что он уже видел этого человека где-то в Вене, но припомнить имени его он не мог.
– Итак, милые мои дети, – сказал каноник, – вы отказываете мне в удовольствии еще раз услышать произведение Порпоры? А вот мой друг, большой музыкант и во сто раз лучший судья в этом деле, чем я, был поражен тем, как вы исполнили этот отрывок. Но раз вы утомлены, – прибавил он, обращаясь к Йозефу, – я больше не стану вас мучить, однако вы будете так любезны и скажете нам свое имя, а также где вы учились музыке.
Йозеф понял, что ему приписывают исполнение соло, спетого Консуэло, и та выразительным взглядом приказала ему поддержать заблуждение каноника.
– Меня зовут Йозефом, – ответил он кратко, – а учился я в детской певческой школе святого Стефана.
– Я также, – заметил незнакомец, – учился в этой школе при Рейтере-отце; а вы, конечно, – при Рейтере-сыне?
– Да, сударь.
– Но потом вы, наверно, еще у кого-нибудь занимались? Вы учились в Италии?
– Нет, сударь.
– Это вы играли на органе?
– То я, то мой товарищ.
– А кто из вас пел?
– Мы оба.
– Прекрасно! Но тему Порпоры исполняли не вы? – проговорил незнакомец, искоса поглядывая на Консуэло.
– Во всяком случае, не этот мальчик, – сказал каноник, также взглянув на Консуэло, – он слишком юн, чтобы петь с таким мастерством.
– Да, это не я, это он, – быстро ответила Консуэло, указывая на Йозефа.
Она хотела как можно скорее избавиться от этого допроса и с нетерпением поглядывала на дверь.
– Почему вы говорите неправду, дитя мое? – наивно спросил кюре. – Я же вчера слышал и видел, как вы пели, и прекрасно узнал голос вашего товарища Йозефа, когда он исполнял соло Баха.
– По-видимому, вы ошиблись, господин кюре, – с лукавой улыбкой заметил незнакомец, – или же этот юноша чрезмерно скромен. Как бы то ни было, достойны похвал и тот и другой.
Потом, отведя кюре в сторону, незнакомец проговорил:
– Ухо у вас верное, но глаз не проницательный – это делает честь чистоте ваших помыслов. Тем не менее я должен вывести вас из заблуждения: этот юный венгерский крестьянин – весьма искусная итальянская певица.
– Переодетая женщина! – воскликнул пораженный кюре.
Он внимательно посмотрел на Консуэло, в то время как та отвечала на благодушные вопросы каноника, и то ли от удовольствия, то ли от негодования, но добрый священнослужитель густо покраснел начиная от брыжей и до самой ермолки.
– Уверяю вас, что это так, – продолжал незнакомец. – Напрасно стараюсь я доискаться, кто бы она могла быть. А что до ее переодевания и того двусмысленного положения, в котором она сейчас оказалась, то это одно безрассудство. Все из-за любви, господин кюре! Но это нас не касается.
– Из-за любви! Хорошо вам говорить! – воскликнул взволнованный кюре. – Похищение, преступная связь с этим юнцом! Но ведь это отвратительно! А я-то как попался! Поместил их у себя в доме! Еще, по счастью, дал им отдельные комнаты, так что, надеюсь, под моей крышей не совершилось греха. Ах! Какое происшествие! Воображаю, как вольнодумцы моего прихода (а такие имеются, сударь, и многие мне даже знакомы) потешались бы надо мной, если бы узнали эту историю.
– Если ваши прихожане не распознали женского голоса, то, по всей вероятности, не разглядели ни черт лица, ни походки. А между тем взгляните, что за красивые ручки, какие шелковистые волосы, до чего крошечная ножка, несмотря на грубую обувь!
– Ничего этого я не желаю видеть! – воскликнул, выходя из себя, кюре. – Какая гнусность – переодеваться в мужской костюм! В священном писании есть стих, осуждающий на смерть всякого, мужчину или женщину, который отказывается от одежды своего пола. На смерть – слышите, сударь?! Это в достаточной мере указывает на тяжесть греха. И она еще осмелилась проникнуть в храм Божий и бесстыдно воспевать хвалу Господу, в то время как душа и тело ее загрязнены таким преступлением!
– И воспевала эту хвалу божественно! Я был тронут до слез, никогда я не слыхивал ничего подобного! Таинственный случай! Кто эта женщина? Все, кого я мог бы заподозрить, гораздо старше ее.
– Да это ребенок, совсем молоденькая девушка, – продолжал кюре, который не мог удержаться от того, чтобы не посмотреть на Консуэло с интересом, боровшимся в его сердце со строгостью его убеждений. – Экая змейка! Посмотрите только, с каким кротким и скромным видом она отвечает господину канонику. Ах! Если кто-нибудь догадается об этой проделке, я погибший человек! Придется мне тогда уехать отсюда!








