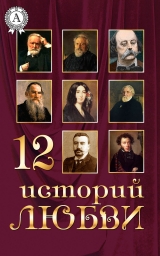
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Александр Дюма
Соавторы: Александр Пушкин,Лев Толстой,Александр Куприн,Иван Тургенев,Уильям Шекспир,Виктор Гюго,Александр Грин,Жорж Санд,Николай Лесков,Гюстав Флобер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 232 (всего у книги 294 страниц)
Глава XXIII
Неистовая буря разразилась еще во время ужина. Ужин здесь всегда продолжался два часа – ни больше, ни меньше, даже в постные дни, которые строго соблюдались, причем граф никогда не освобождал себя от ига семейных привычек, столь же священных для него, как установления римской церкви. Грозы были слишком часты в этих горах, а бесконечные леса, еще покрывавшие в ту пору их склоны, вторили шуму ветра и раскатам грома ревом эха, слишком хорошо знакомым обитателям замка, чтобы это явление природы могло так уж сильно их обеспокоить. Однако необыкновенное возбуждение графа Альберта невольно передалось всей семье, и барон, которому помешали наслаждаться вкусной трапезой, был бы, несомненно раздосадован, если бы его доброжелательная кротость могла ему изменить хоть на одно мгновение. Он только глубоко вздохнул, когда страшный удар грома, раздавшийся к концу ужина, так перепугал дворецкого, что тот не попал ножом в кабаний окорок, который разрезал в эту минуту.
– Кончено дело! – сказал барон, сочувственно улыбаясь бедному слуге, удрученному своей неудачей.
– Да, дядюшка, вы правы! – громко воскликнул граф Альберт, вставая с места. – Кончено дело! Гусит сражен – его сожгла молния. Больше он не зазеленеет весной.
– Что ты хочешь этим сказать, мой дорогой сын? – с грустью спросил старик Христиан. – Ты говоришь о большом дубе на Шрекенштейне?[654]654
Шрекенштейн – скала Ужаса; в этих краях многие места носят такое название. (Прим. автора).
[Закрыть]
– Да, отец, я говорю о большом дубе, на ветвях которого мы на прошлой неделе велели повесить два десятка монахов-августинцев.
– Он начинает принимать века за недели! – прошептала канонисса, осеняя себя широким крестным знамением. – Если вы и видели во сне, дорогое дитя мое, – повысив голос, обратилась она к племяннику, – события, которые произошли в действительности или еще должны произойти (ведь по странной случайности ваши фантазии не раз сбывались), то гибель этого скверного полузасохшего дуба не будет для нас большой потерей. С ним и со скалой, которую он осеняет, связано у нас столько роковых воспоминаний, принадлежащих истории.
– А я, – с живостью добавила Амалия, довольная, что может наконец дать волю своему язычку, – была бы очень благодарна грозе, если б она избавила нас от этого ужасного дерева-виселицы; ветви его напоминают скелеты, а из ствола, поросшего красным мхом, словно сочится кровь. По вечерам ни разу не проходила я мимо него без содрогания: шелест листьев всегда так жутко напоминал мне предсмертные стоны и хрипы, что, предав себя в руки Божьи, я убегала оттуда без оглядки.
– Амалия, – снова заговорил молодой граф, впервые за много дней отнесшись со вниманием к словам своей кузины, – вы хорошо сделали, что не проводили под Гуситом целые часы и даже ночи, как это делал я. Вы бы увидели и услышали там такое, от чего у вас кровь застыла бы в жилах и чего вы никогда не смогли бы забыть.
– Замолчите! – вскричала молодая баронесса, вздрогнув и отшатнувшись от стола, на который облокотился Альберт. – Я совершенно не понимаю вашей невыносимой забавы – нагонять на меня ужас всякий раз, как вы соблаговолите раскрыть рот.
– Дай Бог, дорогая Амалия, чтобы ваш кузен говорил это только ради забавы, – кротко заметил старый граф.
– Нет, отец, я говорю вам вполне серьезно: дуб на скале Ужаса свалился, раскололся на четыре части, и вы завтра же можете послать дровосеков разрубить его. На этом месте я посажу кипарис и назову его уже не Гуситом, а Кающимся; а скалу Ужаса вам давно следовало назвать скалой Искупления.
– Довольно, довольно, сын мой, – проговорил старик в страшной тревоге, – отгони от себя эти грустные картины и предоставь Богу судить людские деяния.
– Мрачные картины канули в вечность: они перестали существовать вместе с дубом – орудием пытки, которое грозовой вихрь и небесный огонь повергли во прах. Вместо скелетов, которые раскачивались на его ветвях, я вижу цветы и плоды, колеблемые ветерком на ветвях нового дерева. А вместо черного человека, который каждую ночь разводил костер под Гуситом, я вижу, отец, парящую над нашими головами чистую, светлую душу. Гроза рассеивается, и, мои дорогие родные, опасность миновала, путешественники теперь в безопасности. Дух мой спокоен. Срок искупления истекает. Я чувствую, что возрождаюсь к жизни.
– О мой дорогой сын! Если бы это было так! – с глубокой нежностью проговорил взволнованным голосом старик. – Если б только ты мог избавиться от всех этих видений и призраков, терзающих тебя! Неужели Господь ниспошлет мне такую милость – вернет моему любимому Альберту покой, надежду и свет веры?
Не успел старик договорить эти ласковые слова, как Альберт тихо склонился над столом и внезапно погрузился в безмятежный сон.
– Этого еще недоставало! – сказала юная баронесса, обращаясь к своему отцу. – Засыпать за столом! Очень любезно, нечего сказать!
– Этот внезапный и глубокий сон кажется мне благодетельным кризисом, после которого в его состоянии должно наступить хотя бы временное улучшение, – сказал капеллан, с любопытством глядя на молодого человека.
– Пусть никто с ним не заговаривает и не пробует его будить, – приказал граф Христиан.
– Боже милосердный, – сложив набожно руки, горячо молилась канонисса, – осуществи его предсказания, и пусть день его тридцатилетия станет днем его полного выздоровления!
– Аминь! – благоговейно произнес капеллан. – Вознесем же сердца наши к милосердному Богу, – продолжал он, – и, воздав ему благодарность за принятую пищу, будем молить его об исцелении этого благородного молодого человека, предмета наших общих забот.
Все встали для благодарственной молитвы и молча продолжали стоять, молясь каждый про себя за последнего из рода Рудольштадтов. Старик Христиан был так взволнован, что две крупные слезы скатились по его поблекшим щекам.
Старый граф уже приказал своим верным слугам перенести спящего сына в его покои, как вдруг барон Фридрих, горя желанием хоть чем-нибудь проявить заботу о дорогом племяннике, радостно и как-то по-детски остановил его:
– Знаешь, братец, мне пришла в голову удачная идея! Если твой сын проснется у себя в одиночестве после какого-нибудь дурного сна, ему снова могут прийти в голову разные мрачные мысли. Прикажи перенести его в гостиную и посадить в мое большое кресло: для сна нет лучше кресла во всем доме. Там ему будет даже удобнее, чем на кровати, а проснется он у весело пылающего камина, среди дружеских лиц.
– Это правда, – ответил граф. – Его действительно можно перенести в гостиную и положить на большой диван.
– После еды очень вредно спать лежа, – возразил барон. – Поверьте, я это знаю по опыту. Его надо посадить в мое кресло. Да, да, я непременно хочу, чтобы он отдыхал именно в моем кресле.
Христиан понял, что отказать брату значило бы серьезно огорчить его: и молодого графа усадили в кожаное кресло охотника, причем сон его был так близок к летаргическому, что он даже и не почувствовал этого. Барон же с сияющим, гордым видом уселся у камина в другое кресло и стал греть ноги у огня, достойного древних времен, торжествующе улыбаясь всякий раз, когда капеллан повторял, что этот сон должен подействовать на графа Альберта самым благотворным образом. Добряк собирался пожертвовать ради молодого графа не только своим креслом, но и самим послеобеденным сном, чтобы оберегать его покой вместе со всеми членами семьи, но через четверть часа он до того освоился с новым креслом, что вскоре храп его стал заглушать последние раскаты грома, затихавшие вдали.
Вдруг загудел большой колокол замка (тот, в который звонили только в случае необычных посещений), и несколько минут спустя старик Ганс, старейший из слуг, вошел в комнату, держа в руках большой конверт. Он молча подал его графу Христиану и вышел в соседнюю комнату, ожидая приказаний своего господина. Граф Христиан распечатал письмо и, взглянув на подпись, передал его племяннице с просьбой прочитать вслух. Полная любопытства и нетерпения, Амалия подошла поближе к свече и прочитала вслух следующее:
Высокочтимый и любезный господин граф!
Ваше сиятельство сделали мне честь, попросив меня оказать вам услугу. Этим вы осчастливили меня еще больше, чем всеми теми услугами, которые некогда оказали мне и которые живут в моем сердце и в моей памяти. Несмотря на все мое стремление выполнить приказание вашего сиятельства, я, однако ж, не надеялся так скоро, как мне бы того хотелось, найти подходящую для этой цели особу. Однако неожиданные обстоятельства благоприятствуют исполнению желания вашего сиятельства, и я спешу направить к вам молодую особу, удовлетворяющую требуемым условиям, правда, лишь отчасти. Посылаю ее поэтому временно, дабы ваша высокочтимая, любезная племянница могла без особого нетерпения ждать, пока мои старания и поиски не приведут к более совершенным результатам.
Девица, которая будет иметь честь передать вам это письмо, – моя ученица и в некотором роде моя приемная дочь. Она будет, как того желает любезная баронесса Амалия, предупредительной и приятной компаньонкой и сведущей преподавательницей музыки. Она не имеет, правда, того образования, которого вы ищете в наставнице: свободно говоря на нескольких иностранных языках, она вряд ли знакома с ними настолько основательно, чтобы быть в состоянии их преподавать. Музыку же она знает в совершенстве и поет прекрасно. Вы будете довольны ее талантом, голосом, манерой держать себя. Не менее будете вы удовлетворены ее кротостью и благородством ее характера. Ваши сиятельства могут смело приблизить ее к себе, не боясь, что она совершит какой-либо неблаговидный поступок или проявит недостойные чувства. Она не хочет быть связанной в своих обязанностях по отношению к вашему уважаемому семейству и отказывается от вознаграждения. Словом, я посылаю любезной баронессе не дуэнью, не камеристку, а, как она изволила просить меня сама в приписке, сделанной ее прекрасной ручкой в письме вашего сиятельства, – компаньонку и подругу.
Синьор Корнер, получивший назначение при посольстве в Австрии, ожидает приказа о своем выезде. Но, по всей вероятности, приказ этот прибудет не раньше как через два месяца. Синьора Корнер, его достойная супруга, а моя великодушная ученица, желает увезти меня с собой в Вену, где, полагает она, моя карьера будет более удачной. Не надеясь на лучшее будущее, я все же принимаю ее милостивое предложение, так как жажду покинуть неблагодарную Венецию, где я не видел ничего, кроме разочарований, обид и превратностей судьбы. Не дождусь минуты, когда снова увижу благородную Германию, где я знавал более счастливые, радостные дни и где оставил достойных уважения друзей. Ваше сиятельство хорошо знает, что занимает одно из первых мест в этом старом, обиженном, но не охладевшем сердце, в сердце, полном вечной привязанности к вам и глубокой благодарности. Итак, высокочтимый граф, я препоручаю и вверяю вам мою приемную дочь, прося у вас для нее приюта, покровительства и благословения. Она сумеет отблагодарить вас за ваши милости и постарается быть приятной и полезной молодой баронессе. Не позже как через три месяца я приеду за ней и привезу вам на ее место наставницу, которая может заключить с вашей высокочтимой семьей договор на более продолжительный срок.
В ожидании счастливого дня, когда я смогу пожать руку лучшему из людей, осмелюсь назвать себя, с почтением и гордостью, самым покорным слугой и преданнейшим другом вашего сиятельства, chirissima, stimatissima, illustrissima[655]655
Светлейшего, почтеннейшего, именитейшего (итал.).
[Закрыть].Никколо Порпора,капельмейстер, композитори учитель пения. Венеция,мес… дня… 17… года.
Амалия, дочитав это письмо, подпрыгнула от радости, а старый граф растроганным голосом повторил несколько раз:
– Почтенный Порпора, чудесный друг, достойный, уважаемый человек!..
– Конечно, конечно, – сказала канонисса Венцеслава, испытывая, с одной стороны, страх, что приезд чужого человека может чем-то нарушить семейные привычки, а с другой стороны – желание достойным образом оказать гостеприимство приезжей. – Надо как можно лучше встретить и принять ее… Лишь бы она не соскучилась здесь…
– Но где же, дядюшка, моя будущая подруга, моя драгоценная учительница? – воскликнула юная баронесса, не слушая рассуждений тетки. – Должно быть, она скоро явится и сама? Я с нетерпением жду ее!
Граф Христиан позвонил.
– Ганс, кто передал вам это письмо? – спросил он старого слугу.
– Одна дама, ваше сиятельство!
– Она уже здесь! – воскликнула Амалия. – Где же она? Где?
– В почтовой карете, у подъемного моста.
– И вы заставили ее ожидать у ворот замка, вместо того чтобы сейчас же ввести в гостиную?
– Да, госпожа баронесса, взяв письмо, я запретил кучеру двигаться с места. Мост за собой я велел поднять, а затем вручил письмо господину графу.
– Но ведь это нелепо, непростительно заставлять наших гостей ждать в такую ужасную погоду! Можно подумать, что мы живем в крепости и всякий, кто к ней приближается, враг! Бегите же скорей, Ганс, бегите!..
Но Ганс продолжал стоять неподвижно, как статуя. Лишь в глазах его читалось сожаление, что он не может исполнить распоряжение юной хозяйки; казалось, даже пушечное ядро, пролетев над его головой, не в силах было бы хоть чуточку изменить невозмутимую позу, в которой он ожидал приказаний своего старого господина.
– Дорогое дитя, верный Ганс признает только свой долг и полученные приказания, – произнес, наконец, граф Христиан с такой медлительностью, что у юной баронессы закипела кровь. – Теперь, Ганс, велите открыть ворота и опустить мост. Пусть все выйдут навстречу прибывшей с зажженными факелами – она у нас желанная гостья!
Ганс не выказал ни малейшего удивления, получив приказание сразу ввести незнакомку в дом, куда даже ближайшие родственники и вернейшие друзья допускались не иначе, как с бесконечными предосторожностями. Канонисса пошла распорядиться, чтобы для приезжей приготовили ужин. Амалия хотела уже бежать к подъемному мосту, но дядя предложил ей руку, считая за честь самолично встретить гостью, и пылкой юной баронессе пришлось величественным, медленным шагом прошествовать до колоннады у подъезда, где на первой ступеньке уже стояла, только что выйдя из почтовой кареты, странствующая беглянка – Консуэло.
Глава XXIV
Три месяца прошло с тех пор, как баронесса Амалия забрала себе в голову, что ей необходимо – не столько для занятий, сколько для развлечения – иметь компаньонку, и в своем одиночестве она не раз силилась представить себе, какова же будет ее подруга. Зная угрюмый нрав Порпоры, она боялась, как бы он не прислал ей суровую и педантичную гувернантку. Вот почему она тайком написала профессору, предупреждая его, что плохо примет наставницу старше двадцати пяти лет, – словно было недостаточно выразить такое желание своим родным, для которых она была кумиром и повелительницей.
Письмо Порпоры привело ее в восторг, и она сейчас же создала в уме совершенно новый образ: музыкантша, приемная дочь профессора, молодая девушка, а главное – венецианка, была, по мнению Амалии, как бы нарочно для нее создана, создана по ее образу и подобию.
Поэтому она несколько разочаровалась, когда вместо резвой румяной девочки, о какой она мечтала, увидела бледную, грустную, чрезвычайно смущенную девушку. Ибо, не говоря уже о глубоком горе, терзавшем бедную Консуэло, об усталости от долгого, безостановочного пути, она была еще подавлена страшными переживаниями последних часов: эта ужасная гроза в дремучем лесу, эти поверженные ели, этот мрак, прорезаемый бледными молниями, а в особенности вид этого мрачного замка, вой охотничьих псов барона, горящие факелы в руках безмолвно стоящих слуг – во всем этом было что-то поистине зловещее. Какой контраст со «сводом лучезарным» Марчелло и гармонической тишиной венецианских ночей, с доверчивой свободой ее прошлой жизни на лоне любви и жизнерадостной поэзии! Когда карета медленно проехала по подъемному мосту и по нему глухо застучали копыта лошадей, когда со страшным скрежетом за ней опустилась подъемная решетка, Консуэло показалось, что она входит в дантовский ад, и, охваченная ужасом, она поручила свою душу Богу.
Вполне понятно, что у нее был растерянный вид, когда она появилась перед хозяевами замка. Когда же она увидела графа Христиана с его вытянутым бледным лицом, поблекшим от старости и горя, его длинную, сухую, одеревенелую фигуру, облаченную в старомодный сюртук, она подумала, что перед ней призрак средневекового владельца замка, и, приняв все окружающее за какую-то галлюцинацию, невольно отшатнулась, едва сдержав крик ужаса.
Старый граф, объясняя себе поведение Консуэло и ее бледность усталостью после столь длинного путешествия в тряской карете, предложил ей руку, чтобы помочь взойти на крыльцо, и попытался сказать ей несколько приветливых, любезных слов. Но помимо того, что природа наделила почтенного старика внешностью невыразительной и холодной, за много лет уединенной жизни он настолько отвык от общества, что его робость теперь удвоилась, и под его внешностью, на первый взгляд важной и суровой, таились детская конфузливость и способность теряться. Так как он счел своим долгом говорить с Консуэло по-итальянски (он знал язык недурно, но отвык от него), это еще более увеличило его смущение, и он едва смог пробормотать несколько слов, которые девушка, хорошенько не расслышав, приняла за непонятный, таинственный язык привидений.
Амалия, собиравшаяся при встрече броситься к ней на шею, чтобы сразу ее приручить, тоже не нашлась, что сказать: с ней случилось то, что бывает с самыми смелыми людьми, – ее заразили застенчивость и сдержанность окружающих.
Консуэло ввели в большую комнату, где только что отужинали. Граф, желая оказать гостье внимание, а вместе с тем опасаясь показать ей своего сына в летаргическом сне, остановился в нерешительности, и дрожащая Консуэло, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги, опустилась на первый попавшийся стул.
– Дядюшка, – сказала Амалия, поняв замешательство старого графа, – мне кажется, нам лучше принять синьору здесь. Тут теплее, чем в большой гостиной, а она, наверно, страшно озябла от нашего холодного горного ветра, да еще в такую грозу. Я с грустью вижу, что наша гостья падает от усталости, и уверена, что она нуждается в хорошем ужине и в отдыхе гораздо больше, чем во всех наших церемониях. Не правда ли, дорогая синьора? – добавила она, решаясь, наконец, пожать своей пухленькой ручкой обессилевшую руку Консуэло.
Звук этого свежего, молодого голоса, говорившего по-итальянски с резко выраженным немецким акцентом, сразу успокоил Консуэло. Она подняла свои испуганные глаза на хорошенькое личико юной баронессы, и взгляд, которым обменялись девушки, мгновенно рассеял холод между ними. Консуэло поняла, что это ее будущая ученица и что эта прелестная головка отнюдь не голова привидения. В свою очередь, она пожала ей руку и призналась, что стук кареты совсем оглушил ее, а гроза очень напугала. Охотно подчиняясь всем заботам Амалии, она пересела поближе к пылающему камину, позволила снять с себя мантилью и согласилась отужинать, хотя ей совсем не хотелось есть. Мало-помалу, ободренная все возрастающей любезностью юной хозяйки, она окончательно пришла в себя и к ней вернулась способность видеть, слышать, отвечать.
Пока слуги подавали ужин, разговор зашел, естественно, о Порпоре, и Консуэло с радостью отметила, что старый граф говорит о нем, как о своем друге, не только равном ему, но как будто даже в чем-то его превосходящем. Потом заговорили о путешествии Консуэло, о дороге, по которой она ехала, и о грозе, которая, должно быть, напугала ее.
– Мы в Венеции привыкли к еще более внезапным и более опасным грозам, – отвечала Консуэло. – Плывя по городу в гондолах во время грозы, мы даже у порога дома ежеминутно рискуем жизнью. Вода, заменяющая нашим улицам мостовую, в это время быстро прибывает и бушует, словно море в непогоду. Она с такой силой несет наши хрупкие гондолы вдоль стен, что они могут вдребезги разбиться о них, прежде чем нам удастся пристать. Но несмотря на то, что я не раз была свидетельницей подобных несчастных случаев и вовсе не труслива, сегодня, когда с горы было сброшено молнией огромное дерево, которое упало поперек дороги, я испугалась, как никогда в жизни. Лошади взвились на дыбы, а кучер в ужасе закричал: «Проклятое дерево свалилось! «Гусит» упал!». Не можете ли вы мне объяснить, синьора баронесса, что это значит?
Ни граф, ни Амалия не ответили на этот вопрос. Они только вздрогнули и переглянулись.
– Итак, мой дорогой сын не ошибся! – произнес старый граф. – Странно! Очень, очень странно!
Снова встревожившись за сына, он пошел к нему в гостиную, а Амалия, сложив руки, прошептала:
– Тут какое-то колдовство! Видно, сам дьявол с нами!
Эти загадочные слова снова навлекли на Консуэло суеверный ужас, охвативший ее при входе в замок Рудольштадтов. Внезапная бледность Амалии, торжественное молчание старых слуг в красных шароварах, с удивительно похожими друг на друга квадратными багровыми лицами, с тусклыми, безжизненными глазами рабов, привыкших к своему вечному рабству; эта сумрачная комната, отделанная черным дубом, которую не в состоянии была осветить люстра со множеством горящих свечей; унылые крики пугача, возобновившего после грозы свою охоту вокруг замка; большие фамильные портреты на стенах; громадные вырезанные из дерева головы оленей и диких кабанов, украшавшие стены, – все до мелочей будило в девушке жуткую, только на время улегшуюся тревогу. То, что сообщила ей затем юная баронесса, тоже не могло способствовать ее успокоению.
– Милая синьора, – сказала та, собираясь угостить ее ужином, – будьте готовы увидеть здесь необъяснимые, неслыханные вещи, чаще скучные, но иногда и страшные. Настоящие сцены из романов: если вы расскажете их кому-нибудь, никто не поверит, но вы должны дать слово, что обо всем сохраните вечное молчание!..
Не успела баронесса произнести эти слова, как дверь медленно распахнулась и канонисса Венцеслава, горбатая, с длинным лицом, в строгом одеянии, при ленте своего ордена, с которой она никогда не расставалась, вошла в столовую с таким величественно-приветливым видом, какого она не принимала с достопамятного дня, когда императрица Мария-Терезия, возвращаясь со своей свитой из путешествия по Венгрии, оказала замку Исполинов великую честь: остановилась здесь на час отдохнуть и выпить стакан глинтвейна. Канонисса подошла к Консуэло, которая смотрела на нее блуждающим взором, забыв даже встать от изумления и испуга, сделала ей два реверанса и, произнеся по-немецки речь, такую обстоятельную и длинную, как будто она давным-давно выучила ее наизусть, поцеловала девушку в лоб. Бедняжка, похолодев как мрамор, решила, что это поцелуй самой смерти, и, чуть не падая в обморок, еле внятно пробормотала слова благодарности.
Заметив, что она смутила гостью более, чем предполагала, канонисса удалилась в гостиную, а Амалия разразилась громким смехом.
– Держу пари, – воскликнула она, – вы подумали, что перед вами тень королевы Либуше! Успокойтесь! Это канонисса – моя тетка, скучнейшее и вместе с тем добрейшее существо в мире.
Едва успев опомниться от пережитого волнения, Консуэло услышала за своей спиной скрип огромных венгерских сапог. Пол буквально задрожал под тяжелыми, размеренными шагами, и грузный человек с такой квадратной и багровой физиономией, что рядом с нею лица толстых слуг казались бледными и худощавыми, молча прошествовал через всю комнату и вышел в большую дверь, которую лакеи почтительно распахнули перед ним. Консуэло снова содрогнулась, а Амалия снова расхохоталась.
– Это, – сказала она, – барон Рудольштадт, самый заядлый охотник, самый большой соня и лучший из отцов. Он только что пробудился от своего послеобеденного сна в гостиной. Ровно в девять часов он встает с кресла и, совсем сонный, ничего не видя и не слыша, проходит через эту комнату, поднимается в полусне по лестнице и, ничего не сознавая, ложится в постель. С рассветом он просыпается бодрый, оживленный, деятельный, как юноша, и начинает энергично готовить к охоте собак, лошадей и соколов.
Едва закончила она свои пояснения, как в дверях показался капеллан. Он тоже был толст, но мал ростом и бледен, как все люди лимфатического склада. Созерцательная жизнь не полезна для тяжеловесных славянских натур, и полнота священнослужителя была болезненна. Он ограничился тем, что почтительно поклонился баронессе и ее гостье, что-то шепотом сказал слуге и скрылся в ту же дверь, куда вышел барон. Тотчас же старик Ганс и один из тех автоматов, которых Консуэло не в состоянии была отличить друг от друга, до того они были во всем одинаковы, могучи и степенны, направились в гостиную. Не будучи в силах притворяться, будто она ест, Консуэло обернулась, провожая их глазами. Но прежде чем слуги дошли до двери, на пороге появилось новое существо, поразительнее всех прежних: то был молодой человеке высокого роста, с необыкновенно красивым, но страшно бледным лицом, одетый с головы до ног во все черное. Роскошная бархатная шуба, отороченная куньим мехом, была скреплена на его плечах золотыми застежками. Длинные черные как смоль волосы в беспорядке свисали на его бледные щеки, обрамленные вьющейся от природы шелковистой бородкой. Он сделал слугам, которые двинулись было ему навстречу, повелительный жест, и те, отступив, замерли на месте, словно прикованные его взглядом. Затем, обернувшись к шедшему за ним графу Христиану, он проговорил мелодичным голосом, в котором чувствовалось необычайное благородство:
– Уверяю вас, отец, никогда я не был так спокоен. Нечто великое свершилось в моей судьбе, и небесная благодать снизошла на наш дом.
– Да услышит тебя Господь, дитя мое! – ответил старик, простирая руки как бы для благословения.
Молодой человек низко склонил голову под рукой отца, потом, выпрямившись, с кротким, ясным лицом дошел до середины комнаты, слегка улыбнулся Амалии, едва коснувшись пальцами протянутой ею руки, и несколько секунд пристально смотрел на Консуэло. Проникнувшись невольным уважением к нему, Консуэло поклонилась, опустив глаза. Он же, не отвечая на поклон, продолжал смотреть на нее.
– Эта молодая особа, – сказала ему по-немецки канонисса, – та самая, которая…
Но он прервал ее, сделав жест, как бы говоривший: «Молчите, не мешайте ходу моих мыслей», потом вдруг отвернулся и, не проявив ни удивления, ни любопытства, медленно вышел через большую дверь.
– Я надеюсь, моя милая, что вы извините… – обратилась к Консуэло канонисса.
– Простите, что я перебиваю вас, тетушка, – сказала Амалия, – но вы говорите по-немецки, а ведь синьора не знает этого языка.
– Извините меня, милая синьора, – ответила по-итальянски Консуэло, – но в детстве я говорила на нескольких языках, так как много путешествовала, и немецкий помню настолько, чтобы прекрасно все понимать. Правда, я не решаюсь заговорить по-немецки, но если вы дадите мне несколько уроков, я уверена, что скоро научусь.
– Значит, совсем как я, – снова заговорила по-немецки канонисса, – я все понимаю, что говорит мадемуазель, а вот разговаривать на ее языке не могу. Но раз она меня понимает, я хочу просить ее извинить невежливость моего племянника, не ответившего на ее поклон. Дело в том, что этот молодой человек сегодня сильно занемог и после случившегося с ним обморока еще так слаб, что, верно, не заметил ее… Не так ли, братец? – прибавила добрая Венцеслава, смущенная своей ложью и ища извинения в глазах графа Христиана.
– Милая сестра, – ответил старик, – вы очень великодушны, желая найти оправдание для моего сына. Но мы попросим синьору не слишком удивляться тому, что она видит. Завтра мы ей все объясним с той откровенностью, с какою можем говорить с приемной дочерью Порпоры и, надеюсь, в ближайшем будущем – другом нашей семьи.
То был час, когда все расходились по своим комнатам, а в замке все было подчинено таким строгим правилам, что, вздумай молодые девушки засидеться у стола, слуги, казавшиеся настоящими машинами, были бы способны, пожалуй, не обращая внимания на их присутствие, вынести стулья и погасить свечи. Консуэло к тому же мечтала поскорее уйти к себе, и Амалия проводила гостью в нарядную, комфортабельную комнату, которую она велела приготовить рядом со своей собственной.
– Мне очень хотелось бы поболтать с вами часок-другой, – сказала Амалия, когда канонисса, исполнив долг любезной хозяйки, вышла из комнаты. – Мне не терпится познакомить вас со всем, что тут у нас происходит, до того, как вам придется столкнуться с нашими странностями. Но вы, наверно, так устали, что больше всего хотите отдохнуть.
– Это ничего не значит, синьора, – ответила Консуэло. – Правда, я вся разбита, но состояние у меня такое возбужденное, что, боюсь, я всю ночь не сомкну глаз. Поэтому вы можете говорить со мной сколько угодно, но только по-немецки. Это будет мне полезно, а то я вижу, что граф и особенно канонисса не очень сильны в итальянском языке.
– Давайте условимся так, – сказала Амалия, – вы сейчас ляжете в постель, а я в это время пойду накину капот и отпущу горничную. Потом я вернусь, сяду подле вас и мы будем говорить по-немецки до тех пор, пока вам не захочется спать. Согласны?
– От всего сердца, – ответила новая гувернантка.








