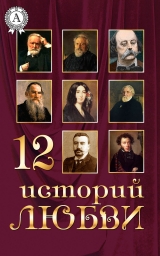
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Александр Дюма
Соавторы: Александр Пушкин,Лев Толстой,Александр Куприн,Иван Тургенев,Уильям Шекспир,Виктор Гюго,Александр Грин,Жорж Санд,Николай Лесков,Гюстав Флобер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 294 страниц)
В средние века, до самой эпохи Людовика XII, всякий город во Франции имел свое место, считавшееся неприкосновенным убежищем. Эти убежища являлись среди потопа тогдашних варварских законов и наказаний как бы островами, возвышавшимися над уровнем человеческого правосудия. Всякий преступник, успевавший пристать к этому острову, был спасен. Вообще, в то время в каждом французском городе было почти столько же мест, считавшихся убежищами, как и лобных мест. Это было, пожалуй, злоупотребление безнаказанностью, являвшееся, однако, прямым последствием злоупотребления карами, словом, – два вида зла, уравновешивавшие один другой. Дворцы королей и принцев, а в особенности храмы пользовались правом убежища. Иногда право это предоставлялось целому городу, который нужно было вновь населить. Так, напр., в 1467 году король Людовик XI предоставил это право Парижу.
Раз преступнику удалось ступить ногою в место, считавшееся убежищем, он считался неприкосновенным; но только он должен был остерегаться уходить отсюда: как только он выходил хоть на один шаг из убежища, он снова делался добычей палача. Колесо, виселица, дыба зорко стерегли этого рода убежища и не переставали поджидать своих жертв, точно плавающая вокруг корабля акула. Бывали примеры, что осужденные седели в каком-нибудь монастыре, на лестнице какого-нибудь дворца, в саду аббатства, в преддверии храма; убежище превращалось для них в своего рода темницу.
Иногда, правда, случалось, что торжественным постановлением парламента нарушалось право убежища, и осужденный отдавался в руки палача; но это случалось очень редко. Дело в том, что члены парламента боялись епископов, и когда между магистратурой и клиром происходило столкновение, первая редко выходила из него победительницей. Бывали случаи, как, напр., в деле об убийцах парижского палача Пти-Жана, или в деле Эмерика Руссо, убийцы Жана Валлере, что правосудие вытаскивало осужденного из церкви и приводило в исполнение свой приговор; но все же горе было тому, кто осмелился бы, помимо парламентского решения, нарушить с оружием в руках право убежища. Из французской истории известна трагическая судьба Робера де-Клермона, маршала Франции, и Жана де-Шалона, маршала Бургундии; а между тем здесь все дело шло лишь о некоем Марке Перрене, служителе менялы, убившем своего хозяина; но оба маршала осмелились выломать двери церкви Сен-Мери, и народ не простил им этого.
Места, служившие убежищем, пользовались таким уважением, что, как гласит предание, оно распространялось даже и на животных. По крайней мере, летописец Эймуан рассказывает о том, что когда во время одной охоты короля Дагобера какой-то олень, спасаясь от собак, скрылся в гробнице св. Дионисия, вся свора вдруг остановилась перед гробницей, ограничиваясь одним лаем. В церквах бывали обыкновенно особые чуланчики, предназначавшиеся для искавших убежища. В 1407 году Никола Фламель велел даже выстроить для них под сводами церкви св. Якова в Мясниках особую комнату, которая обошлась ему в четыре ливра и 6 3/4 парижских су.
В соборе Парижской Богоматери тоже было устроено подобное помещение, сбоку, под кружалами, на том самом месте, где жена теперешнего колокольного сторожа устроила себе нечто в роде висячего сада, настолько напоминающего, однако, висячие сады Семирамиды, насколько латук напоминает пальму или насколько жена привратника напоминает Семирамиду.
Сюда-то, после своей бешеной и триумфальной скачки по галереям и башням, Квазимодо принес Эсмеральду. Во время всей этой скачки молодая девушка не приходила вполне в себя. Она все это время находилась в каком-то полусознании, причем ей смутно представлялось, будто она поднимается на воздух, будто она носится в облаках, летает, будто что-то уносит ее с поверхности земли. По временам над самым ухом ее раздавались громкий голос или оглушительный смех Квазимодо. Тогда она открывала глаза и смутно видела под собою Париж, блестевший на солнце тысячами своих шиферных или черепичных крыш, точно сине-красною мозаикой, а прямо над собою – страшное и в то же время радостное лицо Квазимодо. И она снова закрывала глаза, полагая, что все кончено, что ее казнили во время ее обморока, и что тот самый безобразный демон, который не раз являлся перед нею при жизни ее, схватил ее после смерти ее и уносит с собою. Она не осмеливалась взглянуть на него и покорялась своей участи.
Но когда звонарь, весь запыхавшись и растрепанный, положил ее в каморке, служившей убежищем, когда она почувствовала, как он грубыми руками своими стал потихоньку развязывать веревки, натиравшие ей руки, она почувствовала нечто вроде того толчка, который пробуждает среди глубокой ночи пассажиров корабля, ударившегося о подводный камень. Она увидела, что находится в соборе; она припомнила, что ее вырвали из рук палача, что Феб жив, но что он уже больше не любит ее. И так как последняя из этих мыслей, обливавшая такою горечью другую, первою предстала уму бедной осужденной, то она обратилась к стоявшему перед нею и наводившему на нее страх Квазимодо со словами:
– Зачем вы спасли меня?
Он взглянул на нее беспокойным взором, как бы желая угадать, что такое она ему сказала. Она повторила «свой вопрос. Тогда он взглянул на нее глубоко опечаленным взором и убежал. Она с удивлением посмотрела ему вслед.
Несколько минут спустя он снова вернулся к ней и бросил к ногам ее какой-то узел. Это были, как оказалось, различные принадлежности туалета, положенные для нее несколькими сострадательными женщинами на пороге церкви. Тут она окинула сама себя взором и, увидев себя почти обнаженною, покраснела. Жизнь снова вступала в свои права.
Квазимодо, казалось, инстинктивно понял это ее чувство стыда. Он закрыл единственный глаз свой своею громадной рукою и еще раз удалился, но на этот раз медленными шагами. А она поспешила одеться. Оказалось, что он принес ей белое платье и белое покрывало, нечто вроде костюма монастырской послушницы.
Едва она успела одеться, как Квазимодо снова появился, неся в одной руке какую-то корзинку, а в другой – тюфяк. Корзинка содержала в себе бутылку вина, хлеб и еще кое-какие припасы. Он поставил корзину перед нею и сказал:
– Кушайте!
Затем он разостлал тюфяк на каменном полу и проговорил:
– Усните!
Звонарь принес ей свой собственный обед и свою собственную постель.
Цыганка вскинула на него глазами, и хотела было поблагодарить его, но не могла произнести ни слова. Бедный Квазимодо, действительно, был ужасен. Она опустила глаза и содрогнулась.
– Я пугаю вас, – сказал он ей, – я очень безобразен, не правда ли? Ну, так не глядите на меня, а слушайте только то, что я буду говорить вам. Днем вы должны оставаться здесь; по ночам вы можете гулять в церкви. Но ни днем, гни ночью не выходите из церкви, иначе вы погибли: вас убьют, а я умру от огорчения.
Тронутая этими словами, она встала, чтобы поблагодарить его, но он уже исчез. Она осталась одна, раздумывая о странных словах этого почти чудовищного существа и пораженная звуком его голоса, столь грубым и в то же время столь приятным.
Затем она принялась осматривать свое помещение. Это была комнатка футов шести в квадрате, с небольшим оконцем и дверью, выходившею на слегка покатую крышу, сложенную из черепиц.
Несколько водосточных труб с разными звериными мордами как бы протягивали шею к ее оконцу и заглядывали в него, желая ее рассмотреть. Из-за крыши она могла разглядеть верхушки тысячи труб, из которых валили более или менее густые клубы дыма. И этим-то печальным пейзажем должна была на долгое, долгое время довольствоваться бедная цыганка, этот подкидыш, приговоренный к смерти, это несчастное создание, лишенное отечества, семейства, домашнего очага!
В то самое время, когда мысль об этом своем одиночестве предстала перед нею во всей своей безотрадности, она почувствовала, что какая-то волосатая и бородатая голова трется об ее колена, об ее руки. Она вздрогнула, – так как теперь все ее пугало, – и взглянула вниз. Это была бедная козочка, проворная Джали, которой тоже удалось вырваться из рук державших ее людей в ту минуту, когда Квазимодо разметал конвой Жака Шармолю, и которая уже с час времени ласкалась к ней, свернувшись клубком у ног ее, не добившись, однако, с ее стороны ни единого взгляда. Тут цыганка стала осыпать ее поцелуями:
– Ах, Джали! бедная моя Джали! – воскликнула она: – и я-то совсем было забыла про тебя, а ты постоянно помнишь обо мне. О, ты существо не неблагодарное!
И в ту же минуту точно какая-то невидимая рука приподняла тяжелый камень, так долго лежавший на сердце ее и придавливавший ее слезы, она залилась слезами; и по мере того, как текли ее слезы, она чувствовала, что вместе с ними уходило то, что было наиболее острого и горького в ее печали.
Когда наступил вечер, ей показалось, что луна светит так ярко, что ночь так прекрасна, и ею овладело неодолимое желание пройтись по верхней галерее, окружающей церковь. Это несколько облегчило ее: до такой степени земля, которую она видела с этой высоты, показалась ей прекрасною.
На следующее утро, проснувшись, она заметила, что спала. Это показалось ей очень странным и удивило ее: она уже так давно успела отвыкнуть от сна. Веселый луч восходящего солнца, пробившись в ее оконце, ударил ей прямо в лицо. Но одновременно с солнцем она увидела в оконце нечто, что испугало ее. То было ужасное лицо Квазимодо. Она невольно зажмурила глаза, но все было тщетно: ей все казалось, будто и сквозь закрытые, розовые веки свои она видит эту ужасную, кривую, с поломанными зубами, рожу. Затем, все еще не решаясь открыть глаз, она услышала грубый голос, старавшийся говорить ей как можно мягче:
– Не пугайтесь… Я друг ваш. Я только пришел посмотреть, хорошо ли вы спите. Ведь вы ничего не имеете против того, не правда ли, если я буду приходить смотреть, как вы спите? Ведь для вас все равно, здесь ли я, или нет, когда глаза ваши зажмурены. А теперь я уйду. Глядите, я скрылся за угол; теперь вы можете открыть глаза.
Еще жалобнее, нежели самое содержание этих слов, был голос, которым они были произнесены. Тронутая этими словами и этим выражением голоса, цыганка открыла глаза, и, действительно, она уже не увидела в оконце его ужасной рожи. Она подошла к окошечку и увидела бедного горбуна, спрятавшегося за выступом стены в покорной и печальной позе. Она сделала над собою усилие, чтобы преодолеть то отвращение, которое он внушал ей.
– Подойдите сюда, – сказала она ему потихоньку.
Будучи глух, он, понятно, не мог расслышать ее слов, но из движения ее губ он заключил, что цыганка его прогоняет; он встал, и, хромая, медленно стал удаляться, понурив голову, не смея даже поднять на молодую девушку взора, полного отчаяния.
– Да идите же сюда! – крикнула она ему еще раз.
Но он продолжал удаляться. Тогда она выскочила из своей каморки, побежала за ним и схватила его за руку. Почувствовав прикосновение ее к своему телу, Квазимодо задрожал. Он взглянул на нее умоляющим взором и, убедившись в том, что она ведет его назад в свою комнату, он весь просиял от радости. Она хотела было заставить его войти в свою каморку, но он уперся и остался стоять на пороге.
– Нет, нет, – говорил он, – сове не место в гнезде жаворонка.
Тогда она грациозно уселась на своем ложе; козочка спала у ног ее. Оба они оставались несколько минут неподвижными: он – глядя на такую красоту, она – на такое безобразие. По мере того, как она смотрела на него, она замечала в нем все новые и новые телесные недостатки. Взор ее переходил от кривых ног его к горбам на спине и на груди, от горбов – к его единственному глазу с бородавкой. Она не могла понять, как это природа ухитрилась создать такое безобразие. Однако на всем лице его было столько кротости и скорби, что она чувствовала к нему скорее сострадание, чем отвращение.
– Итак, вы велели мне возвратиться? – спросил он, первый нарушив молчание.
Она утвердительно кивнула головою и ответила:
– Да.
Он понял значение этого кивка и прибавил с некоторою нерешительностью:
– Дело, видите ли, в том, что я, к сожалению, глух.
– Бедняжка! – воскликнула цыганка с выражением искреннего сожаления в голосе.
– Вы находите, что только этого недоставало? – продолжал он, печально улыбнувшись и, очевидно, поняв смысл ее восклицания. – Да, я глух. Вот каким меня создала природа! Ведь это ужасно, не правда ли? А вы то – такая красавица!..
В том выражении, которым несчастный произнес эти слова, слышалось такое глубокое сознание своего несчастия, что она не имела силы произнести ни единого слова. Да к тому же теперь она уже знала, что он все равно не услышал бы ее. Он продолжал:
– Никогда еще я не сознавал так сильно моего несчастия, как именно в эту минуту. Когда я сравниваю себя с вами, мне самому становится страшно: до того я сознаю себя бедным, несчастным уродом. Ведь я, должно быть, произвожу на вас такое же впечатление, как какой-нибудь зверь, не так ли? А вы – вы луч солнца, вы – росинка с лепестка розы, вы – птичка певчая. Я же – нечто ужасное: ни человек, ни зверь; я – нечто твердое, более безобразное и более истоптанное ногами, чем булыжный камень.
И, сказав это, он засмеялся, но засмеялся душу раздирающим смехом. Затем он продолжал:
– Да, я глух. Но вы можете разговаривать со мною жестами, знаками. Мой господин говорит со мною таким образом. И к тому же я очень скоро научусь угадывать ваши желания по движению ваших губ, по вашему взгляду.
– Ну, хорошо! – сказала она, улыбнувшись, – скажите мне, для чего вы меня спасли?
Он пристально посмотрел на нее, пока она говорила.
– Я понял, – ответил он. – Вы спросили меня, для чего я вас спас? Вы, значит, забыли того негодяя, который пытался было похитить вас однажды ночью и которого вы на другое же утро напоили, когда он изнывал от жажды, будучи привязан к их ужасному позорному столбу. Для того чтобы отплатить вам за это сострадание и за этот глоток воды, было бы мало целой жизни моей. Вы, конечно, давно уже забыли об этом негодяе и об этом несчастном; но он не забыл о вас.
Она, слушая его, была тронута до глубины души. Слеза выступила на единственном глазу звонаря, но не скатилась с него: очевидно было, что он в этих видах сделал над собою усилие.
– Послушайте, – снова заговорил он, успев справиться с этой слезою, – вы видите, что башни наши очень высоки, и что человек, свалившийся с них, умер бы раньше, чем он долетел бы до мостовой. Ну, так тля того, чтобы я бросился с них, вам не нужно даже произносить ни единого слова: достаточно будет одного вашего взгляда.
И с этими словами он встал. Это странное существо, как ни несчастна была цыганка, внушало ей, однако, известное чувство сострадания. Она знаком пригласила его остаться.
– Нет, нет! – проговорил он. – Мне не следует оставаться здесь слишком долго. Мне не по себе, когда вы смотрите на меня. Вы только из чувства сострадания не отворачиваете от меня глаз. Лучше я пойду куда-нибудь, откуда мне можно будет видеть вас, причем вы меня не будете видеть. Вот, – продолжал он, вынимая из кармана маленький металлический свисток, – когда я вам понадоблюсь, когда вы пожелаете, чтобы я предстал перед вами, когда вам не будет слишком противно видеть меня, вам стоит только свиснуть в этот свисток. Этот звук я хорошо слышу.
И, положив на землю свисток, он поспешно убежал.
Дни следовали за днями. Спокойствие мало-помалу возвращалось в душу Эсмеральды. Избыток горя, как и избыток радости, как и всякое чересчур сильное ощущение, не может быть продолжительным. Сердце человека не может оставаться долго в напряженном в одну сторону состоянии. Цыганка до того настрадалась за последнее время, что теперь ей оставалось только удивляться.
Раз почувствовав себя в безопасности, она стала надеяться. Правда, в настоящее время она была исключена из общества, почти даже из жизни, но она смутно чувствовала, что у нее отнята всякая возможность возвратиться и к тому, и к другому. Она, так сказать, была мертвец, который, однако, держит в руках своих ключ от своей могилы. Она чувствовала, как мало-помалу от нее отлетают ужасные образы, так долго преследовавшие ее. Все эти ужасные призраки – Пьерре Тортерю, Жак Шармолю, даже этот ужасный священник, – стали изглаживаться из ее воображения.
И, наконец, Феб был жив, она в том была уверена, она сама видела его. А жизнь Феба была для нее важнее всего. После целого ряда обрушившихся на нее страшных потрясений, в ее душе осталось неприкосновенным одно только чувство – любовь ее к капитану. Дело в том, что любовь похожа на дерево: она растет сама собою, глубоко пускает корни свои во все наше существо, и часто продолжает зеленеть даже в разбитом, обратившемся в развалины сердце. И особенно странно то, что чем более эта страсть слепа, тем более она живуча. Она никогда не бывает сильнее, как в тех случаях, когда она ни на чем не основана.
Конечно, Эсмеральда не могла вспомнить о капитане, не испытывая чувства горечи. Конечно, для нее ужасна была мысль о том, что и он вдался в обман, что и он поверил невозможному, что и он считал возможным нанесение ему смертельного удара тою, которая готова была отдать за него тысячу жизней. Но, в конце концов, его и нельзя особенно винить. Разве она не созналась сама в своем преступлении? Разве она, слабое существо, устояла против пытки? Значит, виновата она одна.
Ей бы скорее следовало позволить вырвать у себя все ногти, чем подобное признание. Наконец, если бы ей удалось вновь увидеться с Фебом, хотя бы один раз, хотя бы одну минуту, достаточно было бы одного слова, одного взгляда, чтобы разубедить, разуверить его. Она в том ни на одну минуту не сомневалась. Вообще, она сама себя обманывала относительно многих странностей, как, напр., относительно случайности присутствия Феба при принесении ею покаяния, относительно молодой девушки, рядом с которою она тогда его видела. Это была, без сомнения, сестра его. Это вполне произвольное толкование вполне удовлетворяло ее, потому что ей во что бы то ни стало хотелось верить в то, что Феб любит ее и любит только ее. Разве он не клялся ей в этом? Чего же еще большего нужно было этой наивной и доверчивой молодой девушке? И, наконец, разве во всем этом деле вероятность не была скорее против нее, чем против него? Итак, она продолжала ждать и надеяться.
Заметим еще, что храм, этот обширный храм, который отовсюду окружал ее, который охранял и спасал ее, тоже действовал успокаивающим образом на ее душу. Торжественные линии этой архитектуры, религиозный отпечаток, лежавший на всех предметах, окружавших молодую девушку, благочестивые и светлые мысли, выходившие, так сказать, из всех пор этого здания, производили на нее, помимо ее воли, сильное впечатление. К тому же и все раздававшиеся в этом здании звуки были так величественны и торжественны, что они благотворным образом действовали на эту больную душу. Монотонное пение священнослужителей, ответ молящихся на вопросы священника, порою еле слышные, порою громогласные, гармоничное дребезжание стекол, орган, звучавший сотнями труб своих, три колокольни, жужжавшие, точно столько же ульев, переполненных пчелами, весь этот своеобразный оркестр, по которому постоянно перебегала восходящая и нисходящая гигантская гамма, переходившая от толпы на колокольню и обратно, – все это заглушало ее память, ее воображение, ее скорбь. Особенно ее убаюкивали колокола; точно эти могучие снаряды проливали на нее целые ванны сильнейшего магнетизма.
И с каждым утром восходящее солнце находило ее все более и более успокоенною, свободнее дышащею, менее бледною. По мере того, как закрывались внутренние ее раны, к ней возвращались прежние ее красота и грациозность, лицо ее становилось столь же миловидным, как и прежде, но только несколько более сосредоточенным и серьезным. В ней стали снова проявляться и прежние черты ее характера, к ней даже отчасти возвратились ее веселость, ее хорошенькая гримаса, привязанность к своей козочке, ее любовь к пению, ее стыдливость. Она каждое утро стала по возможности тщательнее одеваться в углу своей каморки, из опасения, чтобы ее не увидел в полуодетом состоянии в оконце кто-нибудь из обитателей соседних мансард.
По временам, когда мысли ее не были заняты Фебом, цыганка думала о Квазимодо. Он представлял собою единственную связь, единственное средство сообщения, единственное звено, соединявшее ее с остальными людьми, с остальным миром, с остальными живыми существами. Несчастная! Она была еще более отчуждена от мира, чем Квазимодо. Она никак не могла понять того странного друга и покровителя, которого послала ей судьба. По временам она упрекала себя в том, что чувство благодарности не в состоянии заставить ее ничего не видеть, но все же она решительно не в состоянии была привыкнуть к бедному звонарю. Он был уже чересчур безобразен.
Она ни разу не воспользовалась свистком, который он дал ей. Это, однако же, не помешало Квазимодо являться к ней от времени до времени в первые дни пребывания ее в башне. Она делала над собою всевозможные усилия, чтобы не отворачиваться от него с слишком явным выражением отвращения, когда он приносил ей корзинку со съестными припасами или кружку воды, но, тем не менее, от него не ускользало малейшее подобного рода движение ее, и он каждый раз уходил от нее опечаленный.
Однажды он пришел к ней в ту минуту, когда она ласкала Джали. Он несколько времени простоял в задумчивости перед этой красивой группой цыганки с козочкой. Наконец, он сказал, покачивая своей громадной, уродливой головой:
– Все несчастие мое заключается в том, что я еще слишком похож на человека. Я бы желал быть совершенно животным, как вот эта коза.
Она взглянула на него удивленным взором.
– Да, да, я уже знаю почему, – произнес он как бы в ответ на этот взор и удалился.
В другой раз он появился в дверях каморки/ (он никогда не осмеливался входить в нее) в то время, когда цыганка распевала старинную испанскую балладу, слов которой она не понимала, но мотив которой она запомнила, потому что цыганки убаюкивали ее ею, когда она была еще ребенком. При появлении этого уродливого лица, вдруг появившегося перед нею во время ее пения, голос молодой девушки вдруг оборвался, и она совершенно невольно сделала жест ужаса. Несчастный звонарь упал на колена на пороге двери и произнес жалобным голосом, скрестив на уродливой груди своей безобразные свои руки:
– О, умоляю вас, продолжайте и не гоните меня!
Она, не желая огорчить его, но вся дрожа, принялась снова за свой романс. Но по мере того, как она пела, испуг ее исчезал, и она вся отдалась впечатлению той меланхолической и заунывной арии, которую она напевала. А он тем временем, оставшись стоять на коленах, со сложенными на груди как бы для молитвы руками, слушал ее внимательно, еле переводя дух, не сводя глаз с блестящих зрачков цыганки. Можно было бы подумать, будто он слушал пение ее взорами.
В другой раз он приблизился к ней с робким и смущенным видом.
– Послушайте, – сказал он, видимо делая над собою усилие: – я имею кое-что сообщить вам.
Она знаком дала ему понять, что слушает его. Тогда он стал вздыхать, полуоткрыл губы, как бы собираясь заговорить, затем взглянул на нее, отрицательно мотнул головою и медленно удалился, закрыв руками лицо свое и оставив цыганку крайне изумленною.
В числе забавных рож, вылепленных на стене, была одна, которую он особенно любил и с которою он, казалось, часто обменивался братскими взорами.
Однажды цыганка услышала как он говорил, глядя на эту рожу:
– Ах, отчего я не такой же каменный, как и ты?
Однажды утром Эсмеральда подошла к краю крыши и смотрела на площадь поверх остроконечных шпицев небольших башенок, украшавших карниз собора. Квазимодо стоял позади нее. Он сам придумал для себя такое положение, для того, чтобы по возможности избавить молодую девушку от неудовольствия видеть его. Вдруг цыганка вздрогнула, слеза и луч радости одновременно блеснули в глазах ее, она встала на колена и воскликнула, с горестным выражением лица, протягивая свои руки по направлению к площади:
– Феб, приди, приди ко мне! Одно слово, одно только слово, ради самого неба! Феб, Феб!..
Ея голос, ее лицо, ее поза, словом все в ней носило на себе то отчаянное выражение, с которым потерпевший крушение мореплаватель взывает о помощи к весело пробегающему на далеком горизонте по морским волнам, среди ярких солнечных лучей, кораблю.
Квазимодо нагнулся, посмотрел на площадь и увидел, что предмет этой нежной, горячей мольбы был молодой человек в расшитом позументом капитанском мундире, гарцевавший верхом на лошади и отдававший саблей своей честь красивой, улыбавшейся ему с одного из балконов даме. Офицер этот, впрочем, не мог слышать несчастной, взывавшей к нему с высоты башни, так как он был слишком далеко.
Но за то это восклицание долетело до слуха бедного глухого. Из груди его вырвался глубокий вздох. Он отвернулся; сердце его готово было разорваться от накопившихся в нем слез. Он стал бить себя в голову судорожно сжатыми кулаками, и когда он снова отнял их от головы – в каждом из них оказалось по клоку рыжих волос.
Цыганка, однако, не обращала на него ни малейшего внимания. Он говорил про себя вполголоса, скрежеща зубами:
– Проклятие! Так вот каким нужно быть! Вся штука в том, чтоб быть красивым!
Эсмеральда тем временем продолжала стоять на коленах и восклицала громким голосом:
– О, вот он сходит с лошади! Он сейчас войдет в этот дом! Феб!.. Нет, он не слышит меня! Какая это злая женщина! И зачем эталона говорит одновременно со мною! – Феб! Феб!
Глухой не сводил с нее глаз. Пантомима эта была вполне понятна для него. Глаз бедного звонаря наполнялся слезами, но он сдерживал их. Вдруг он потихоньку потянул ее за рукав. Она обернулась. Лицо его уже успело принять совершенно спокойное выражение, и он спросил ее:
– Не желаете ли вы, чтоб я позвал его?
– Ах, да! – воскликнула она, и лицо ее просияло от радости, – ступай, ступайте, бегите! Поскорее! Вон, видите этого капитана, этого капитана? Приведите мне его, и я полюблю тебя!
И она обняла его колена и стала целовать их. Он не мог удержаться от того, чтобы не покачать головою с печальным выражением лица, и проговорил слабым голосом:
– Я вам сейчас приведу его!
Затем он отвернулся и пустился бежать по лестнице, сдерживая рыдания.
Но когда он вышел на площадь, он увидел только красивую лошадь, привязанную к кольцу двери возле дома госпожи Гонделорье; сам же капитан только что вошел в этот дом. Он поднял глаза к крыше собора и увидел Эсмеральду, стоявшую все на том же месте, в том же положении. Он пожал плечами, взглянув на нее, и затем прислонился к одному из столбов ворот дома Гонделорье, решившись дожидаться, пока капитан выйдет оттуда.
В этот день в квартире госпожи Гонделорье происходил один из тех торжественных приемов, которые предшествуют обыкновенно всякой свадьбе. Квазимодо видел, что туда входит много народу, но никто не выходит. По временам он посматривал на крышу собора: цыганка продолжала стоять столь же неподвижная, как и он. Из-под ворот вышел конюх, отвязал лошадь и увел ее в конюшню.
Таким образом, прошел целый день: Квазимодо все время простоял под воротами, Эсмеральда – на крыше, а Феб, без сомнения, провел его у ног Флер-де-Лис. Наконец, наступила ночь, ночь безлунная, темная. Квазимодо тщетно старался разглядеть Эсмеральду: сначала он видел в полумраке какое-то неопределенное, белое пятно, а затем и его не стало видно. Все стерлось, все почернело и исчезло.
Тогда Квазимодо увидел, как все окна дома госпожи Гонделорье, сверху донизу, осветились огнями. Он увидел, как осветились одно за другим и все другие окна, выходившие на площадь; но он же увидел и то, как они все, до последнего, потухли, потому что он в течение всего вечера не двинулся со своего места. Офицер, однако, все еще не выходил из дому. Когда последние из прохожих вернулись домой, когда огни во всех других окнах давно уже потухли, Квазимодо остался на площади один, в глубокой тьме. В те времена соборная площадь еще не освещалась по ночам.
Однако окна в квартире госпожи Гонделорье оставались освещенными и после полуночи. Квазимодо, продолжавший стоять на своем месте и внимательно присматривавшийся ко всему, происходившему в доме, видел мелькавшие в разноцветных стеклах окон тени танцующих. Если б он не был глух, то, по мере того, как затихал шум засыпавшего Парижа, он мог бы расслышать все явственнее и явственнее в квартире Гонделорье музыку, смех и веселые разговоры.
Около часу пополуночи гости начали расходиться. Квазимодо, стоя в потемках, видел их всех выходящими из ярко освещенного свечами подъезда. Но в числе их не было капитана. Печальные мысли не выходили у него из головы. По временам он глядел вверх, как то имеют обыкновение делать люди скучающие. Большие, тяжелые тучи висели черные, разорванные, потрескавшиеся, точно лохмотья крепа, под звездным куполом неба, напоминая собою громадную, порванную паутину.
Наконец, он увидел, как дверь, выходящая на балкон, потихоньку отворилась, и из-за стеклянной двери показались две фигуры, после чего дверь снова так же бесшумно затворилась. На балкон вышли какой-то мужчина и какая-то женщина. Не без труда Квазимодо далось узнать в мужчине – красивого капитана, а в женщине – ту самую молодую особу, которую он видел в это же утро ласково улыбавшеюся офицеру с этого самого балкона. На площади было совершенно темно, а двойной пунцовый занавес, опустившийся за дверью в тот самый момент, когда она захлопнулась, не пропускал на балкон ни единого луча света из комнаты.
Молодой человек и молодая девушка, насколько мог понять наш глухой, не слышавший ни единого слова из их разговора, по-видимому, нежно ворковали. Молодая девушка, казалось, позволила молодому человеку обнять ее талию, но продолжала ласково отказывать ему в поцелуе.
Квазимодо, стоя внизу, смотрел на эту сцену, тем более приятную для вида, что она вовсе не предназначалась для посторонних свидетелей. Он с горечью смотрел на это счастье, на этот обмен нежностей. Дело в том, что и он, несмотря на все свое безобразие, все же был молод, все же был мужчина, и сквозь его спинной хребет, как он ни был искалечен, все же проходили нервы, как и у других людей. Он думал о горькой доле, приуготовленной для него Провидением, о том, что женщины, любовь, наслаждения созданы не для него, что все это только будет проходить постоянно мимо его глаз, и что ему на роду написано только видеть чужое счастье. Но особенно огорчала его и наполняла его сердце негодованием и досадой мысль о том, что должна была бы чувствовать цыганка, если бы она могла все это видеть. Правда, что ночь была совершенно темна, и что Эсмеральда, если бы даже она осталась на своем месте (а он в том не сомневался), ничего не могла бы разглядеть, так как даже он, стоя под самым балконом, едва мог разглядеть на нем любовную парочку, – и эта мысль утешала его.








