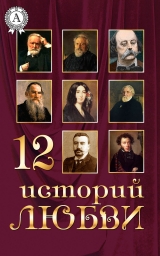
Текст книги "12 историй о любви"
Автор книги: Александр Дюма
Соавторы: Александр Пушкин,Лев Толстой,Александр Куприн,Иван Тургенев,Уильям Шекспир,Виктор Гюго,Александр Грин,Жорж Санд,Николай Лесков,Гюстав Флобер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 143 (всего у книги 294 страниц)
Эмма, полузакрыв глаза, глубоко вдыхала свежий ветерок. Оба молчали, теряясь в нахлынувших грезах. В томном благоухании жасминов подступала к сердцу обильная и молчаливая, как протекавшая внизу река, нежность былых дней, в памяти вставали еще более широкие и меланхолические тени, подобные тянувшимся по траве теням недвижных ив. Порой шуршал листом, выходя на охоту, какой-нибудь ночной зверек – еж или ласочка, да время от времени шумно падал на траву зрелый персик.
– Ах, какая прекрасная ночь! – сказал Родольф.
– Такие ли еще будут! – сказала Эмма.
Она говорила словно про себя:
– Да, хорошо будет ехать… Но почему же у меня грустно на душе?.. Что это? Страх перед неведомым? Печаль по привычной жизни? Или же… Нет, от счастья, слишком большого счастья! Какая я слабая – правда? Прости меня!
– Еще есть время! – воскликнул он. – Подумай, ты, может быть, потом раскаешься.
– Никогда! – пылко отвечала она. И, прильнув к нему, говорила: – Что плохого может со мной случиться? Нет той пустыни, нет той пропасти, того океана, которые я не преодолела бы с тобой. Наша жизнь будет единым объятием, и с каждым днем оно будет все крепче, все полнее. Ничто не смутит нас – никакие заботы, никакие препятствия! Мы будем одни, друг с другом, вечно вдвоем… Говори же, отвечай!
Он машинально отвечал:
– Да, да!..
Эмма погрузила пальцы в его волосы, крупные слезы катились из ее глаз, она по-детски повторяла:
– Родольф, Родольф!.. Ах, Родольф, милый мой Родольф!
Пробила полночь.
– Полночь! – сказала Эмма. – Значит – завтра! Еще один день!
Он встал, собираясь уйти; и, словно это движение было сигналом к бегству, Эмма вдруг повеселела:
– Паспорта у тебя?
– Да.
– Ничего не забыл?
– Ничего.
– Ты уверен?
– Конечно.
– Итак, ты ждешь меня в отеле «Прованс»?.. В двенадцать дня?
Он кивнул.
– Ну, до завтра!
И долго глядела ему вслед.
Он не оборачивался. Она побежала за ним и, наклонившись над водой, крикнула сквозь кусты:
– До завтра!
Он был уже за рекой и быстро шагал по лугу.
Через несколько минут Родольф остановился; и когда он увидел, как она в своей белой одежде, словно привидение, медленно исчезала в тени, у него так забилось сердце, что он чуть не упал и схватился за дерево.
– Какой я дурак! – сказал он и отчаянно выругался. – Нет, она была прелестной любовницей!
И тотчас перед ним встала вся красота Эммы, все радости этой любви. Сначала он разнежился, потом взбунтовался против нее.
– Не могу же я, наконец, – воскликнул он, жестикулируя, – не могу же я эмигрировать, взвалить на себя ребенка!
Он говорил так, чтобы укрепиться в своем решении.
– Возня, расходы… Ах, нет, нет, тысячу раз нет! Это было бы слишком нелепо!
XIIIЕдва вернувшись домой, Родольф бросился к письменному столу, в кресло под висевшей на стене в виде трофея оленьей головой. Но когда он взял в руки перо, все нужные слова исчезли из головы; он облокотился на стол и задумался. Эмма, казалось ему, отодвинулась в далекое прошлое, словно его решение сразу установило между ними огромное расстояние.
Чтобы вспомнить о ней хоть что-нибудь, он вынул из шкафа, стоявшего у изголовья кровати, старую коробку из-под реймских бисквитов, куда он обычно прятал любовные письма. От нее шел запах влажной пыли и увядших роз. Сверху лежал носовой платок в бледных пятнышках. То был ее платок – он запачкался на прогулке, когда у нее пошла носом кровь. Родольф этого не помнил. Тут же лежала помятая на уголках миниатюра Эммы. Ее туалет показался Родольфу претенциозным, ее взгляд – она делала на портрете глазки – самым жалким. Чем дольше разглядывал он этот портрет и вызывал в памяти оригинал, тем больше расплывались в его душе черты Эммы, словно нарисованное и живое лицо терлись друг о друга и смазывались. Наконец он стал читать ее письма. Они были посвящены скорому отъезду, кратки, техничны и настойчивы, как деловые записки. Тогда Родольфу захотелось пересмотреть давнишние длинные послания. Разбирая их на дне коробки, он разбросал все прочее и стал невольно рыться в этой груде бумаг и вещиц, натыкаясь то на букет, то на подвязку, то на черную маску, на булавки, на волосы – волосы темные, светлые; иные цеплялись за металлическую оправу коробки и рвались, когда она открывалась.
Так, блуждая в воспоминаниях, он изучал почерк и слог писем, столь же разнообразных, как и их орфография. Тут были нежные и веселые, шутливые и меланхолические; в одних просили любви, в других просили денег. Слова напоминали ему лица, движения, звуки голосов; а иногда он и вовсе ничего не мог вспомнить.
В самом деле, все эти женщины, столпившись сразу в его памяти, не давали друг другу места, мельчали; их словно делал одинаковыми общий уровень любви. И вот, захватив горсть перемешанных писем, Родольф долго забавлялся, пересыпая их из руки в руку. Наконец ему это надоело, он зевнул, отнес коробку в шкаф и сказал про себя: «Какая все это чепуха!..»
Он и в самом деле так думал, ибо наслаждения вытоптали его сердце, как школьники вытаптывают двор коллежа; там не пробивалось ни травинки, а все, что там проходило, было легкомысленнее детей и даже не оставляло, подобно им, вырезанных на стене имен.
– Ну, – произнес он, – приступим!
Он написал:
«Крепитесь, Эмма! Крепитесь! Я не хочу быть несчастьем вашей жизни…»
«В конце концов, – подумал Родольф, – это правда: я действую в ее интересах. Это честно».
«Зрело ли вы взвесили свое решение? Знаете ли вы, ангел мой, в какую пропасть я увлек бы вас с собою? Нет, конечно! Доверчивая и безумная, вы шли вперед, веря в счастье, в будущее… О мы, несчастные! О безрассудные!»
Родольф остановился, чтобы найти серьезную отговорку:
«Не написать ли ей, что я потерял состояние?.. Нет, нет. Да это и не поможет. Немного позже придется начать все сначала. Разве для таких женщин существует логика?»
Он подумал и продолжал:
«Поверьте мне, я вас не забуду, я навеки сохраню к вам глубочайшую преданность; но ведь рано или поздно наш пыл (такова судьба всего человеческого) все равно угаснет. Мы начнем уставать друг от друга, и, кто знает, не выпадет ли на мою долю жестокая мука видеть ваше раскаяние и даже самому разделять его, ибо именно я был бы его причиной? Одна мысль о грозящих вам бедствиях уже терзает меня, Эмма! Забудьте меня! О, зачем я вас узнал? Зачем вы так прекрасны? Я ли тому виной? О боже мой! Нет, нет, виновен только рок!»
«Это слово всегда производит эффект», – подумал он.
«Ах, будь вы одною из тех легкомысленных женщин, которых так много, я, конечно, мог бы решиться из эгоизма на эту попытку: тогда она была бы для вас безопасна. Но ведь та самая прелестная восторженность, которая составляет и ваше очарование и причину ваших мучений, – она и мешает вам, о изумительная женщина, понять ложность нашего будущего положения! Я тоже сначала об этом не подумал и, не предвидя последствий, отдыхал под сенью нашего идеального счастья, словно в тени мансениллы».
«Как бы она не подумала, что я отказываюсь из скупости… Э, все равно! Пускай, пора кончать!»
«Свет жесток, Эмма. Он стал бы преследовать нас повсюду, где б мы ни были. Вам пришлось бы терпеть нескромные расспросы, клевету, презрение, может быть даже оскорбления. Оскорбление вам!.. О!.. ведь я хотел бы видеть вас на троне! Ведь я ношу с собою мысль о вас, как талисман! Ибо за все зло, которое я причинил вам, я наказываю себя изгнанием. Я уезжаю. Куда? Я сам не знаю, я обезумел. Прощайте! Будьте всегда добры ко мне! Сохраните память о несчастном, вас потерявшем. Научите вашего ребенка поминать мое имя в молитвах».
Пламя двух свечей дрожало. Родольф встал, закрыл окно, уселся снова.
«Кажется, все сказано. Ах, да! Надо еще прибавить, а то как бы она не стала опять приставать».
«Когда вы прочтете эти грустные строки, я буду далеко; я решился бежать как можно скорее, чтобы удержаться от искушения вновь видеть вас. Не надо слабости! Я еще вернусь, и, быть может, когда-нибудь мы с вами будем очень спокойно беседовать о нашей любви. Прощайте!»
И он написал еще одно последнее прощанье: не прощайте, а простите: это казалось ему выражением самого лучшего вкуса.
– Но как же теперь подписаться? – говорил он. – «Ваш преданный». Нет, «Ваш друг»?.. Да, это как раз то, что надо.
«Ваш друг».
Он перечел письмо, оно показалось ему удачным.
«Бедняжка, – умилился он. – Она будет считать меня бесчувственным, как скала, надо бы здесь капнуть несколько слезинок, да не умею я плакать; чем же я виноват?»
И, налив в стакан воды, Родольф обмакнул палец и уронил с него на письмо крупную каплю, от которой чернила расплылись бледным пятном; потом он стал искать, чем бы запечатать письмо, и ему попалась печатка «Amor nel cor».
«Не совсем подходит к обстоятельствам… Э, да все равно!»
Затем он выкурил три трубки и лег спать.
Поднявшись на другой день около двух часов, – он проспал, – Родольф велел набрать корзину абрикосов. На дно, под виноградные листья, он положил письмо и тотчас приказал своему работнику Жирару осторожно передать все это госпоже Бовари. Он часто пользовался этим средством для переписки с нею, присылая, смотря по сезону, то фрукты, то дичь.
– Если она спросит обо мне, – сказал он, – ответишь, что я уехал. Корзинку непременно отдай ей самой, в собственные руки… Ступай, да гляди у меня!
Жирар надел новую блузу, завязал корзину с абрикосами в платок и, тяжело ступая в своих грубых, подбитых гвоздями сапогах, спокойно двинулся в Ионвиль.
Когда он пришел, г-жа Бовари вместе с Фелиситэ раскладывала на кухонном столе белье.
– Вот, – сказал работник, – хозяин прислал.
Недоброе предчувствие охватило Эмму. Ища в кармане мелочь, она растерянно глядела на крестьянина, а тот остолбенело уставился на нее, не понимая, чем может взволновать человека такой подарок. Наконец он ушел. Но оставалась Фелиситэ. Эмма не могла совладать с собою. Она побежала в залу, как будто желая отнести туда абрикосы, опрокинула корзинку, выбросила листья, нашла письмо, распечатала его и, словно за ее спиной пылал страшный пожар, в ужасе бегом бросилась в свою комнату.
Там был Шарль, Эмма увидела его; он заговорил с нею, она ничего не слышала и быстро побежала вверх по лестнице, задыхаясь, растерянная и словно пьяная, не выпуская из рук эту страшную бумагу, которая хлопала в ее пальцах, как кусок жести. На третьем этаже она остановилась перед закрытой дверью на чердак.
Ей хотелось успокоиться. Она вспомнила о письме; надо было дочитать его, она не решалась. Да и где? Как? Ее могли увидеть.
«Ах, нет, – подумала она, – здесь будет хорошо».
Эмма толкнула дверь и вошла.
От шиферной кровли отвесно падал тяжелый жар. Было душно, сжимало виски. Эмма дотащилась до запертой мансарды, отодвинула засов, и ослепительный свет хлынул ей навстречу.
Перед ней, за крышами, до самого горизонта расстилались поля. Внизу лежала безлюдная городская площадь; искрился булыжник мостовой, неподвижно застыли на домах флюгера; с угла улицы, из нижнего этажа, доносилось какое-то верещанье. Это токарничал Бине.
Эмма прижалась к стенке в амбразуре мансарды и, злобно усмехаясь, стала перечитывать письмо. Но чем напряженнее она вникала в него, тем больше путались ее мысли. Она видела Родольфа, слышала его, обнимала его; сердце билось у нее в груди, как таран, и неровный его стук все ускорялся. Глаза ее блуждали, ей хотелось, чтобы земля провалилась. Почему не покончить со всем этим? Что ее удерживает? Ведь она свободна! И она двинулась вперед, она взглянула на мостовую и произнесла:
– Ну же! Ну!
Сверкающий луч света поднимался снизу и тянул в пропасть всю тяжесть ее тела. Ей казалось, что площадь колеблется, поднимается по стенам, что пол наклоняется в одну сторону, словно палуба корабля в качку. Эмма стояла у самого края, почти свесившись вниз; со всех сторон был необъятный простор. Синева неба подавляла ее, вихрь кружился в опустелой голове, – надо было только уступить, отдаться; а токарный станок все верещал, словно звал ее сердитым голосом.
– Жена! Жена! – кричал Шарль.
Она остановилась.
– Где ты там? Иди сюда!
При мысли, что она только что избежала смерти, Эмма едва не потеряла от ужаса сознание; она закрыла глаза, потом вздрогнула: кто-то тронул ее за рукав. То была Фелиситэ.
– Барин ждет вас, барыня. Суп на столе.
И пришлось спуститься вниз! Пришлось сесть за стол!
Она пыталась есть. Каждый кусок останавливался в горле. Тогда Эмма развернула салфетку, будто желая осмотреть, как она заштопана, – и в самом деле попыталась заняться этой работой, пересчитать нитки. И вдруг вспомнила о письме. Неужели она его потеряла? Надо бежать, искать его! Но душевная усталость была настолько велика, что никак не удалось бы выдумать предлог, чтобы уйти из-за стола. Потом на нее напал страх; она испугалась Шарля: он все знает – это ясно. В самом деле, он как-то странно произнес:
– Судя по всему, мы не скоро увидим господина Родольфа.
– Кто тебе сказал? – вздрогнув, проговорила Эмма.
– Кто мне сказал? – повторил он, немного удивляясь ее резкому тону. – Жирар. Я только что встретил его около кафе «Франция». Господин Родольф или уехал, или собирается уехать.
Эмма всхлипнула.
– Что ж ты удивляешься? Он всегда время от времени уезжает поразвлечься. Честное слово, он правильно делает! Человек холостой, с состоянием… Он не плохо забавляется, наш друг. Настоящий кутила. Господин Ланглуа рассказывал мне…
Тут вошла служанка, и он из приличия замолчал.
Фелиситэ собрала в корзинку разбросанные на этажерке абрикосы. Шарль, не замечая, как покраснела жена, приказал подать их, взял один и тут же надкусил.
– Какая прелесть! – сказал он. – Возьми-ка, попробуй.
И протянул ей корзинку; она тихонько оттолкнула его руку.
– Ты только понюхай. Какой аромат! – говорил он, все подвигая корзинку к Эмме.
– Душно! – закричала она, вскочив с места.
Но тут же подавила судорогу усилием воли.
– Пустяки! – сказала она. – Пустяки! Просто нервы! Садись, ешь.
Она боялась, что ее начнут расспрашивать, ухаживать за нею, не дадут ей покоя.
Шарль послушно сел, стал выплевывать косточки в кулак и складывать на тарелку.
Вдруг по площади крупной рысью пронеслось синее тильбюри. Эмма вскрикнула и упала навзничь.
В самом деле, Родольф после долгих размышлений решил отправиться в Руан. А так как из Ла-Юшетт в Бюши нет иной дороги, как через Ионвиль, то ему и пришлось проехать через городок. Эмма узнала его по свету фонарей, словно две молнии прорезавших сумерки.
На шум в доме прибежал аптекарь. Стол со всеми тарелками был опрокинут: соус, жаркое, ножи, солонка, судок с прованским маслом валялись на полу. Шарль звал на помощь, перепуганная Берта кричала; Фелиситэ дрожащими руками расшнуровывала барыню, у которой корчилось все тело.
– Бегу, – сказал аптекарь, – в лабораторию за ароматическим уксусом.
А когда Эмма, глубоко вдохнув из пузырька, открыла глаза, аптекарь сказал:
– Я был уверен. Этим можно и мертвого поднять.
– Скажи что-нибудь! – умолял Шарль. – Скажи что-нибудь! Приди в себя! Это я, твой Шарль, я люблю тебя! Ты меня узнаешь? Смотри, вот твоя дочка, поцелуй ее!
Девочка тянулась ручонками к матери, хотела обнять ее за шею. Но Эмма отвернулась и прерывающимся голосом сказала:
– Нет, нет… Никого!
И снова потеряла сознание. Ее отнесли в постель.
Она лежала плашмя, приоткрыв рот, смежив веки, вытянув руки, белая и неподвижная, как восковая статуя. Слезы струились из ее глаз, медленно стекая двумя ручейками на подушку.
Шарль стоял в глубине алькова, а рядом с ним аптекарь, который хранил вдумчивое молчание, особенно приличное во всех тяжелых случаях жизни.
– Успокойтесь, – сказал он, подталкивая врача под локоть, – мне кажется, припадок прошел.
– Да, пусть теперь немного отдохнет! – отвечал Шарль, глядя, как она спит. – Бедняжка!.. Бедняжка!.. Снова захворала!
Тогда Омэ спросил, как все это случилось. Шарль ответил, что ее схватило вдруг, когда она ела абрикосы.
– Странно, – заговорил аптекарь. – Но возможно, что именно абрикосы и послужили причиной обморока! Есть ведь натуры необыкновенно восприимчивые к известным запахам. Это даже прекрасная проблема для изучения как с патологической, так и с физиологической стороны. Попы отлично знают всю важность подобных явлений: недаром они всегда пользуются при своих церемониях ароматическими веществами! Этим они притупляют разум и вызывают экстатическое состояние, что, впрочем, и не трудно достижимо у особ слабого пола: они гораздо более хрупки, чем мужчины. Известны примеры, когда женщины лишались чувств от запаха жженого рога, или свежего хлеба, или…
– Не разбудите ее! – шепнул Бовари.
– Этой аномалии, – продолжал аптекарь, – подвержены не только люди, но и животные. Так, например, вам, конечно, известно, как своеобразно действует на похоть представителей породы кошачьих nepeta cataria, называемая в просторечье котовиком, или степною мятой. С другой стороны, чтобы привести пример, за достоверность которого я могу поручиться, скажу, что один из моих бывших товарищей, некто Бриду, проживающий ныне в Руане по улице Мальпалю, владеет собакой, которая, если ей поднести к носу табакерку, тотчас падает в судорогах. Он даже нередко делает этот опыт в присутствии друзей, в своей беседке, что в роще Гильом. Можно ли поверить, чтобы обыкновенное чихательное средство могло производить подобные потрясения в организме четвероногого! Не правда ли, в высшей степени любопытно?
– Да, – не слушая, отвечал Шарль.
– Это доказывает, – с благодушно-самодовольной улыбкой заключил аптекарь, – что неправильности нервной системы бесконечно разнообразны. Что же касается вашей супруги, то, признаюсь, она всегда казалась мне необычайно чувствительной. Поэтому я не стану советовать вам, друг мой, ни одного из тех квази-лекарств, которые, якобы воздействуя на симптомы, воздействуют на самый темперамент. Нет, прочь бесполезные медикаменты! Режим – вот главное! Больше успокоительных, мягчительных, болеутоляющих! А кроме того, не думаете ли вы, что, быть может, следовало бы поразить ее воображение?
– Чем? Как? – сказал Бовари.
– О, это вопрос. Это действительно вопрос! That is the question, как недавно было написано в газете!
Но тут Эмма пришла в себя и закричала:
– А письмо? Письмо?
Это приняли за бред. В полночь он начался и на самом деле: явно определилось воспаление мозга.
Сорок три дня не отходил Шарль от жены. Он забросил всех больных; он не ложился спать, он только и делал, что щупал пульс, ставил горчичники и холодные компрессы! Он гонял Жюстена за льдом до самого Нефшателя; лед по дороге таял, Шарль посылал Жюстена обратно. Он пригласил на консультацию г-на Каниве, вызвал из Руана своего учителя, доктора Ларивьера. Он был в отчаянии. Больше всего пугал его у Эммы упадок сил: она ни слова не говорила, ничего не слышала, и казалось даже, что она не ощущает страданий, словно и тело ее, и душа одновременно отдыхали от всего пережитого.
Около середины октября она могла сидеть в постели, прислонившись к подушкам. Когда она съела первую тартинку с вареньем, Шарль расплакался. Силы понемногу возвращались к ней. Она начала вставать днем на несколько часов, и однажды, когда она чувствовала себя особенно хорошо, он попробовал пройтись с ней под руку по саду. Песок на дорожках был усыпан опавшим листом; Эмма ступала осторожно, волоча по земле туфли, и, тихо улыбаясь, склонялась на плечо Шарля.
Они ушли в конец сада, к террасе. Эмма медленно выпрямилась и, прикрыв глаза рукой, поглядела вдаль, на самый горизонт; но там ничего не было видно, кроме горящей травы, дымившейся на холмах.
– Ты устанешь, голубка, – сказал Бовари.
И, тихонько подталкивая ее к беседке, добавил:
– Сядь на скамейку, тут тебе будет хорошо.
– О нет! Не здесь, не здесь! – замирающим голосом произнесла она.
У нее закружилась голова, и к вечеру болезнь возобновилась, – правда, теперь течение ее было неопределеннее и характер сложнее. Эмма чувствовала боли то в сердце, то в груди, то в мозгу, в руках, в ногах; появилась рвота, которая Шарлю показалась первым признаком рака.
Ко всему этому у бедняги доктора были еще и денежные затруднения!
XIVПрежде всего он не знал, как ему рассчитаться с г-ном Омэ за все взятые лекарства; правда, как врач он мог и не платить, но при одной мысли об этом лицо его заливалось краской. Кроме того, теперь, когда хозяйничать стала кухарка, домашние расходы достигли ужасающих размеров; счета сыпались дождем; поставщики роптали; больше всех изводил Шарля г-н Лере. В самые тяжелые дни болезни Эммы он воспользовался этим обстоятельством, чтобы раздуть счет, и немедленно принес плащ, спальный мешок, два чемодана, вместо одного, и еще множество всяких вещей. Сколько ни говорил Шарль, что все это ему не нужно, торгаш нагло отвечал, что вещи ему заказаны и обратно он их не возьмет; да и можно ли огорчать супругу во время ее выздоровления? Пусть господин доктор подумает. Словом, он решил скорее подать в суд, чем отступиться от своих прав и унести товар обратно. Тогда Шарль распорядился отослать всё ему в магазин; Фелиситэ позабыла, у самого Шарля было много других забот, – и об этом перестали думать. Г-н Лере снова пошел на приступ и, то грозя, то жалуясь, поставил дело так, что в конце концов Бовари выдал ему вексель сроком на шесть месяцев. Но едва он подписал этот вексель, как у него возникла смелая мысль – занять у г-на Лере тысячу франков. И вот он смущенно спросил, нет ли способа достать эти деньги, причем обещал вернуть их через год с любыми процентами. Лере побежал в свою лавку, принес оттуда золотые и продиктовал новый вексель, по которому Бовари объявлял себя повинным уплатить по его приказу 1 сентября следующего года сумму в тысячу семьдесят франков; вместе с уже оговоренными ста восемьюдесятью это составляло ровно тысячу двести пятьдесят. Таким образом, ссудив деньги из шести процентов плюс четверть суммы за комиссию да еще заработав не меньше трети на самих товарах, г-н Лере должен был за год получить сто тридцать франков прибыли. Но он надеялся, что этим дело не кончится, что Бовари не удастся оплатить векселя в срок, что их придется переписать и что его денежки, подкормившись у врача, словно на курорте, когда-нибудь вернутся к нему такой солидной кругленькой суммой, что от них затрещит мешок.
Ему вообще везло. Он получил с торгов поставку сидра для нефшательской больницы; г-н Гильомен обещал ему акции грюменильских торфяных разработок, и он мечтал завести новое дилижансное сообщение между Аргейлем и Руаном: оно, конечно, очень скоро вытеснит старую колымагу «Золотого льва». Его дилижансы будут ходить быстрее, стоить пассажирам дешевле и брать больше багажа, так что это отдаст в его руки всю ионвильскую торговлю.
Шарль не раз думал, откуда достать в будущем году столько денег. Он метался, выискивал всякие средства, – например, обратиться к отцу или что-нибудь продать. Но отец не стал бы его и слушать, а самому продавать было нечего. Препятствия казались такими огромными, что он поскорее отворачивался от столь неприятной темы размышлений. Он упрекал себя, что из-за денег забывает Эмму, словно все его мысли должны были полностью принадлежать этой женщине, и подумать о чем бы то ни было, кроме нее, значило что-то у нее похитить.
Зима стояла суровая. Выздоровление г-жи Бовари тянулось медленно. В хорошую погоду ее придвигали в кресле к окну – к тому, которое выходило на площадь, так как сад внушал ей теперь отвращение, и со стороны сада жалюзи были всегда спущены. Эмма заставила мужа продать лошадь: все, что она любила прежде, теперь ей не нравилось. Казалось, ее мысли ограничивались лишь заботой о самой себе. Лежа в постели, она принимала легкую пищу, звонила служанке, расспрашивала ее о подогревавшихся на кухне декоктах или болтала с ней. Снег, лежавший на рыночном навесе, отбрасывал в комнату белый, неподвижный отсвет; потом начались дожди. И каждый день Эмма с каким-то беспокойством ожидала неизменного повторения крохотных событий, не имевших к ней, впрочем, никакого отношения. Самым значительным из них был вечерний приезд «Ласточки». Тогда кричала хозяйка, ей отвечали другие голоса, и фонарь Ипполита, разыскивавшего на брезентовом верху баулы, блестел во мраке звездой. В полдень являлся с работы Шарль; позже он уходил; потом Эмма ела бульон, а под вечер, около пяти часов, возвращались из школы дети. Они волочили деревянные башмаки по мостовой и все как один по очереди стучали линейками по щеколдам навеса.
В этот час и навещал ее г-н Бурнисьен. Он осведомлялся о ее здоровье, рассказывал новости и в легкой, благодушной, не лишенной приятности болтовне склонял ее к религии. Эмма чувствовала себя уютнее от одного вида его сутаны.
В самый разгар болезни ей однажды показалось, что начинается агония, и она захотела причаститься. И в то время как в комнате шли приготовления к таинству, как устраивали алтарь из загроможденного лекарствами комода, а Фелиситэ разбрасывала по полу георгины, Эмма чувствовала, что на нее спускается нечто мощное, избавляющее от всех печалей, от всех земных впечатлений, от всех чувств. Облегченная плоть была лишена мыслей, начиналась иная жизнь. Эмме казалось, что все ее существо, возносясь к богу, растворяется в небесной любви, как рассеивается в воздухе горящий ладан. Постель окропили святой водой; священник вынул из дароносицы белую облатку; и, лишась чувств от неземной радости, Эмма протянула губы, чтобы принять «тело господне». Вокруг нее, словно облако, мягко вздувались занавеси алькова, и лучи двух горевших на комоде свечей казались ослепительными венцами. Тогда она уронила голову на подушки, и ей почудилось в беспредельных просторах пение серафических арф; а в лазурном небе, на золотом троне, среди святых с зелеными пальмовыми ветвями в руках, она увидела бога-отца, гремящего и сверкающего величием. По его знаку огнекрылые ангелы слетали на землю, чтобы унести Эмму в своих объятиях.
Это сияющее видение осталось в ее памяти как самое прекрасное из всего, что можно вообразить; и вот теперь она силилась вновь пережить это все еще длившееся ощущение, хотя бы не с прежней необычайной силой, но с тою же глубокою сладостью. Душа ее, разбитая гордыней, находила, наконец, отдых в христианском смирении, и, наслаждаясь собственной слабостью, Эмма созерцала в себе то уничтожение воли, ту покорность, которая должна была стать широкими вратами для благодати. Так, значит, вместо земного счастья можно узнать более высокие радости, иную любовь, стоящую превыше всякой любви, любовь непрерывную, беспредельную, вечно растущую! Среди прочих обманчивых надежд Эмме открылось то состояние чистоты, когда душа витает над землею, сливаясь с небом. К этому она стремилась. Она хотела стать святой, купила себе четки, стала носить ладанки; она мечтала повесить в своей комнате, у изголовья, отделанный изумрудами ковчежец и каждый вечер прикладываться к нему.
Кюре был в восторге от таких настроений, хотя и полагал, что чрезмерный религиозный пыл Эммы может в конце концов привести ее к ереси или даже к экстравагантным поступкам. Но, будучи не слишком осведомлен в этих вещах, поскольку они выходили за известные установленные пределы, он написал книгопродавцу монсеньора, г-ну Булару, прося его прислать что-нибудь замечательное для весьма развитой особы женского пола. Книгопродавец, с таким же безразличием, как если бы дело шло о скобяном товаре для негров, упаковал ему без разбора все, что в тот день было ходового по части благочестивых книг. Тут были и учебники в вопросах и ответах, и высокомерные памфлеты в духе г-на де Местра, и своеобразные романы слащавого стиля в розовых переплетах, сфабрикованные вдохновенными семинаристами или раскаявшимися синими чулками. Он прислал и «Подумайте об этом как следует», и «Светского человека у ног девы Марии, сочинение г. де***, разных орденов кавалера», и «Книгу для юношества о заблуждениях Вольтера» и прочее.
Г-жа Бовари вообще не обладала еще достаточной ясностью мыслей, чтобы серьезно взяться за что бы то ни было; и к тому же она набросилась на это чтение слишком жадно. Обрядовые предписания вызвали в ней протест; резкие полемические сочинения не понравились ей тем озлоблением, с которым они преследовали людей, ей неизвестных; а сдобренные религией мирские рассказы произвели на нее впечатление такого полного незнания жизни, что именно они нечувствительно отвратили ее от тех истин, которым она ждала доказательств. Однако она продолжала упорствовать, и когда книга падала у нее из рук, она воображала себя во власти самой изысканной католической меланхолии, какую только может испытать возвышенная душа.
А память о Родольфе ушла в самую глубь ее сердца и покоилась там торжественнее и неподвижнее, чем царственная мумия в подземном саркофаге. От этой набальзамированной великой любви исходило какое-то благоухание; охватывая собою все, оно пропитывало запахом нежности ту непорочную атмосферу, в которой хотела жить Эмма. Преклоняя колени на своей готической скамеечке для молитв, она обращала к господу те же томные слова, которые некогда шептала любовнику в самозабвении преступной страсти. Этим она хотела вызвать порыв веры, но небо не посылало ей никакой услады, и она вставала разбитая, со смутным чувством какого-то огромного обмана. «Эти бесплодные усилия, – думала она, – новая заслуга»; и, гордясь своей набожностью, Эмма сравнивала себя с теми знатными дамами былых времен, о славе которых она мечтала над портретом де ла Вальер и которые, с таким величием неся за собою расшитые шлейфы своих длинных платьев, удалялись в одиночество изливать к ногам Иисуса слезы израненного жизнью сердца.
И вот она вся отдалась чрезмерной благотворительности. Она шила платья для бедных; она посылала роженицам дрова; а однажды Шарль, вернувшись домой, застал на кухне за супом каких-то трех бездельников. Она снова взяла в дом свою дочь, – во время болезни муж отослал ее к кормилице. Она решила сама выучить ее читать; сколько ни капризничала Берта, она не раздражалась. То была нарочитая кротость, безусловное всепрощение. Речь Эммы, о чем бы она ни говорила, пестрела молитвенными выражениями.
Она спрашивала девочку:
– Животик у тебя больше не болит, мой ангел?
Г-жа Бовари-мать не знала теперь, к чему и придраться, если только не считать этой мании возиться с фуфайками для сирот, когда в доме сколько угодно своего нечиненного белья. Но старушка была замучена семейными ссорами и с удовольствием отдыхала в спокойном доме сына. Чтобы не видеть кощунств мужа, который в страстную пятницу никогда не забывал заказать себе печеночную колбасу, она даже прожила здесь до конца пасхи.








