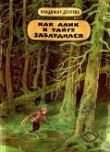Текст книги "Гарнизон в тайге"
Автор книги: Александр Шмаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц)
Во второй половине мая погода изменилась. Показалось солнце. Прилетел гидросамолет. С гидросамолета выгрузили лук, чеснок, противоцинготные средства. В столовой их подавали и с первым и со вторым. Цинготных увозили в лагерь, организованный на берегу Амура в нанайском стойбище. Больных заставляли сопротивляться болезни: двигаться, пить настой хвои, есть клюкву, бруснику, кислую капусту, пить чай с лимонным и черничным экстрактами.
А строительство продолжалось. Его не могла приостановить цинга, хотя количество больных росло. В гарнизоне все больше и больше появлялось красноармейцев на костылях. Они гуляли по утрамбованным дорожкам в оградке барака, постукивали деревяшками.
Приближались к концу сроки строительства первой очереди. Уже должны быть закончены типовые казарменные помещения, госпиталь, баня, штаб и дома для начсостава. Через два-три месяца приедут семьи. Их по палаткам не разместишь. В бухту все чаще и чаще стали заходить пароходы. Привозили «технику», о которой мечтал Гейнаров: бетономешалки, деррик-краны, грузовики, тракторы, нефтяные двигатели, динамомашины, трубы, провода, изоляторы, – все, что нужно было для большой стройки. Не хватало только рабочих рук.
Правда, с пароходами прибыли первое партии завербованных рабочих, кое-кто из них приехал с женами и детьми. Людей вроде прибавилось, а рабочей силы на стройке по-прежнему не хватало. Зато стало больше забот.
Начальником УНР назначили Шафрановича. Инженер метался, часто приходил к Мартьянову то с одной неотложной просьбой, то с другой, словно у него, начальника гарнизона, всего было вдоволь и он мог легко удовлетворить любую просьбу Шафрановича.
Рабочих размещали в палатках и в наскоро сколоченных из теса бараках, организовали для них небольшую столовую, походный ларек с продовольствием и промтоварами первой необходимости.
Жизнь гарнизона с приездом завербованных осложнилась. Надо было теперь зорче нести караульную службу, строже соблюдать устав внутренней службы, чтобы не пошатнулась воинская дисциплина среди красноармейцев, разбитых на отдельные бригады по объектам стройки.
Мартьянов похудел, глаза стали мрачными. Его раздражала каждая мелочь. Но нужно было сдерживаться, и он крепился.
На пристани валялись разбитые, разбухшие бочки цемента – они напоминали Мартьянову распухшие, отекшие, красноватые, мягкие, как глина, ноги красноармейцев; поржавевшие крючья, железо были похожи на почерневшие во рту зубы; весенний шелест ветра походил на странный со свистом и шипеньем разговор больных. Будто все, что находилось в гарнизоне, было подвержено заболеванию цингой, поражающей крепкие атлетические тела красноармейцев. Самое страшное было в том, что, взяв пальцами верхние зубы, больной почти без боли ощущал, как они, словно пни с подгнившими корнями, шатались в деснах; ткнув в икры ног, он видел отпечатки пальцев. Мартьянову легче было пережить болезнь самому, чем видеть пораженных цингой людей.
Мартьянов пытался не говорить об этом. Он видел, что Шаев старался делать все, чтобы приостановить болезнь. Было созвано специальное партийно-комсомольское собрание, обсудившее вопрос о мерах борьбы с цингой. С докладом выступил Гаврилов. Он говорил о том, что лечиться от цинги можно без лекарств и врачей. Это больше всего удивило и понравилось Мартьянову. Нужно только питаться ягодой, есть, как птицы, почки с деревьев. Мартьянов сплюнул, ощутив во рту какую-то кислоту и горечь. Потом врач говорил о даурской и приморской розе, как лечебном средстве. Мартьянов же, рассеянно слушавший его, так и не понял, как можно лечиться цветами.
Пришлось организовать лагерь для цинготников. Однако Гаврилов почти каждый день приносил сводку, в которой увеличивалось количество больных, говорил о специальных витаминах, лекарствах, ожидал их с самолетами. Он настаивал, чтобы немедленно выслали в гарнизон болгарский перец, баклажаны, шпинат, зеленый горошек, томат. Чего только не просил врач у Мартьянова!
Однажды в палатку к Мартьянову забежал Шаев. Он только что обошел строительные объекты. Мартьянову показалось, что помполит тоже подавлен тяжелой обстановкой.
– Скоро ли наше испытание кончится?
Впервые, отвечая на волнующий его вопрос, Шаев назвал Мартьянова по имени и отчеству.
– Скоро, Семен Егорович, скоро!
Он сказал это уверенным, спокойным голосом. С лица его, словно ветром, смело озабоченность и напряженность. Помполит снял шлем и сел к столику Мартьянова.
– Огромен и тяжел наш труд, – начал Шаев. – Переживешь трудность, Семен Егорович, вздохнешь легче и счастливее… И цингу в дугу согнем! Едят лук в партийном порядке. Теплее будет, солнце снег сгонит – на подножный корм красноармейцев пошлем. Пять дней работать, а на шестой – бруснику собирать на лужайке…
Мартьянову хотелось еще слушать глубокий, ровный голос Шаева, но помполит замолчал.
– Говори, говори.
– Семен Егорович, – немного погодя сказал Шаев, – давай на открытую, по-честному: что ты думаешь делать дальше?
Мартьянов не ждал такого вопроса.
– Я не люблю, когда вмешиваются в мои дела, понимаешь?
Помполит встал. Прошелся по скрипучему настилу палатки. Из дальнего угла сказал:
– А ты не ошибаешься? – и, не давая командиру ответить, быстро заговорил: – Мы привыкли говорить – помполит, помполит! А что такое помполит? Разве он может оторвано работать от тебя? Ты разделяешь – вот помполит, а вот я… – Шаев подошел к столу. – Характер-то твой революция выработала. Это хорошо! А вот партизанщина еще в тебе осталась, Семен Егорович, это плохо. Что ни год, то что-нибудь новое в характере надо прибавить, отточить, острее сделать. Жизнь заставляет обновлять характер, отшлифовывать его…
Мартьянов покраснел, привстал, зло бросил, что он не ученик…
– Учителем не собираюсь быть, а хочу по-партийному поправить тебя и буду впредь делать. Это мне, Семен Егорович, и по штату положено…
Разговор оборвался. Мартьянов накинул полушубок и вышел из палатки, за ним Шаев.
Они шли по высокому берегу бухты. Сиреневые тени ложились в кустах. Зыбучие волны бесшумно обмывали камни. Медленно гас закат. Небо было чистым, в зените зеленоватым. Только на западе, словно падая, задержались над тайгой большие прозрачно-розовые облака, похожие на крылья птиц. Над морем вставал туман.
– Смотришь на море и думаешь: какой простор вокруг! – заговорил Шаев совсем в ином тоне. – От этого и мысли большие, ясные приходят. Жены бы скорее приезжали, дела для них здесь много. Их присутствие подтягивает. Смотрю на командиров – заросли они, редко бреются. Начальник штаба у тебя на дикобраза похож, бороду отрастил…
Мартьянов ничего не ответил. Он пытался разгадать, к чему клонится весь разговор. «Начал об одном, – подумал он, – а сейчас о другом. С подходцем. Как сверчок, внутрь лезет». В то же время ему нравилось, что Шаев начинал именно так, а не по-иному.
– Знаешь, Семен Егорович, что я скажу? От бороды и недисциплинированность начинается. Это мелочь, и тебе кажутся смешными мои слова…
Но Мартьянову было не до смеха. Слова Шаева разили.
– Из мелочей большое складывается. Каждая мелочь оставляет после себя след, одна тянет другую… Сегодня бороду не побрил, завтра у гимнастерки пуговица отлетела, можно ее не пришивать. Сапоги не почистил. И не узнаешь, кто ты – боец, командир или завербованный на стройку сезонник…
Они говорили несколько минут. Мартьянов отвечал то коротенькими односложными фразами, то в свою очередь задавал вопросы. Они долго ходили по берегу, определяли, где лучше всего построить пристань, пока, наконец, не сошлись на одном – начать строить ее за изгибом небольшого мыса.
Когда расходились по палаткам, в пожелтевшем небе зажглись звезды. Фосфорический свет их ярко мерцал в вышине. Поднялась луна. Бледно-зеленоватым светом залила полотняный город, тайгу. Затрещал агрегат. У палаток вспыхнули красноватые электрические лампочки.
– Вот он, наш город! – сказал Мартьянов.
– Сейчас здесь тихо, однообразно, а будет настоящий город со своим уличным шумом, со своей жизнью. А знаешь, Семен Егорович, когда-нибудь будет приятно вспомнить вот этот тихий вечер и наш первый с тобой разговор.
ГЛАВА ВОСЬМАЯПлохая погода затянулась до конца мая. С открытием навигации по Амуру в гарнизон забросили свежие фрукты, всякие вина, овощи. Заболеваемость цингой уменьшилась. Наступила весна. Солнечные дни. Тайга сразу ожила, зазеленела и заблагоухала. Люди, опьяненные теплом, лесным запахом, ходили возбужденные, чувствовали себя облегченно после надоевшего ненастья.
Над тайгой блестели дымчатые струйки пара. Похоже было, что земля и тайга объяты прозрачным пламенем и от него воздух полон духоты. В такие дни солнце не скупилось на тепло. Оно вселяло радость в людей.
Аксанов возвращался с объекта. Торопясь, он шел по деревянной узкоколейной дороге. Навстречу ему бежала девочка в пестреньком платье, с растрепанной белокурой головой. Она держала букет подснежников. Белые, белые цветы! Первые цветы в тайге!
– Цветы! – восхищенно произнес Аксанов.
– Цветочки, – ответила она слабеньким голосом и испуганно свернула с дороги.
Аксанов остановился. Вытянул руку, приглашая девочку подойти ближе. Ему захотелось попросить у нее один подснежник и приколоть его на гимнастерку. Он стоял перед девочкой и молчал, неожиданно охваченный воспоминаниями. Девочка удивленно смотрела на командира. Маленькие ручонки ее вертели небрежно набранный букет.
«Белые цветы – первые цветы моей весны, моего счастья», – подумал он.
– Тебе цветок, дяденька командир? – нерешительно сказала девочка и протянула несколько подснежников.
Аксанову стало неудобно перед девочкой за нахлынувшие чувства. Он быстро зашагал по узкоколейке.
Белые цветы! Первые цветы весны. Тогда был тоже белый цвет. Черемуха пылала белым огнем, горела молодость в первом пламени любви. Белая душистая черемуха! Несколькими годами позже тоже белый цвет. Пышные хлопья мягкого снега. Хрустально-белые снежинки. На черном воротнике пальто они были похожи на подснежники, которые держала в руках девочка. Нежно падали снежинки в тот тихий зимний вечер. Аксанов пристально рассматривал их причудливые формы и говорил Ольге: «Жизнь красива, как снежинки на твоем воротнике…» И сейчас эти белые цветы. Они многое напоминали впечатлительному Аксанову. Придя на квартиру, он тут же сел за письмо к Байкаловой.
«Ольга!
Нет, Оленька! Странно и неловко начинать все сначала, говорить о потерянной любви, – писал он. – Может быть, это неверно. Ну, что ж? Пусть будет так! Скоро пять лет, как мы не встречались с тобой. Тогда мы были моложе, видели жизнь, но многое в ней недопонимали. Теперь другое. И, став старше на пять лет, я уже не могу начать так, как раньше.
Я знаю: ты стала другой. Нет тебя, которую я знал, есть новый, выросший, повзрослевший человек. Помнишь ли ты меня, любишь или забыла и годы развеяли память о встречах со мной, выветрили чувства, остудили любовь?
Все эти пять лет я искал твой адрес. После нашей разлуки связывался десятками писем с твоими подругами и моими друзьями. Мне все хотелось узнать, где ты и что с тобой. В одном из писем я получил адрес, узнал о тебе и сразу успокоился. Что я искал тогда, что нужно было мне, я еще ясно не сознавал. И вот я увидел белые цветы… Их держала в руках маленькая девочка. Я не забуду эти белые цветы! Они подарили мне человеческую весну, возродили мое счастье…
Ольга! Будто был перерыв в нашей дружбе и не был – не поймешь. Только все в моей жизни передвинулось на передний план, накапливает силы для атаки, а какой – не знаю. Буду ждать твоего ответа. Здесь тайга, суровая, дикая. Мне казалось, что я огрубею, стану по-таежному суров и дик, забуду личную жизнь. Служба, казармы, походы, красноармейцы в серых шинелях. Но все получилось не так, как ожидал. Я привык на выходах, забравшись на хребет сопки, смотреть на синюю полоску сахалинских «Альп», где проходит граница моей родины, и представлять огромную жизнь вокруг.
Я стал понимать то, чего раньше не воспринимал. Что бы ни сделал теперь хорошего мой товарищ, знакомый мне и незнакомый, я наполняюсь радостным чувством, словно это я сделал. Я горжусь хорошими делами человека! Раньше же мне хотелось все делать только одному, больше, я даже боялся – у меня отнимут и то, чего я еще не успел сделать. Это была зависть к тому, что делали другие. Мое самолюбие всегда оказывалось уязвленным… Я много миражировал. Ты знала меня таким. Жизнь отрезвила меня. Теперь вся жизнь принадлежит мне, а я – ей. Я вспоминаю интересный разговор, который был у меня с комиссаром Шаевым. Это человек прямой натуры и исключительной воли – наш хороший учитель и чуткий товарищ. Мы говорили о счастье. Он вначале слушал, а потом сказал:
«Счастье – это не случай, не удача, а привычка человека. Его уменье горячо радоваться всему, что создает человек. Это ощущение жизни всей нашей родины. Поэтому счастье товарища и мое счастье – оно принадлежит мне, как явление общественное, коллективное».
Это были для меня новые слова. Они раскрывали предо мной жизнь с незнакомой мне стороны. Это были умные мысли, высказанные с жаром, лаконично и сдержанно. Я запомнил их. Все хорошее легко запоминается. А самое главное я понял, что мое счастье значительно шире, чем я его представлял.
Я счастливее, чем думал. Это было равносильно открытию. Я все увидел по-иному. И тогда я спросил себя: а вот если любишь (я не назвал имени, но подразумевал тебя) – это мое счастье? И ответил: мое, любовь не мешает, счастье от этого становится полнее и красивее…
Ольга! Я говорю, что чувствую и переживаю сейчас. А тут еще захлестнула весна. Природа действует на меня своими красками, своим пробуждением. Во мне живет художник, краски в природе и на палитре – моя стихия. Белые цветы в руках девочки только дополнили то, что я носил в себе. Цветы только воскресили в памяти и подняли любовь к тебе…
Скоро я еду в отпуск. Бесспорно, встречу тебя. Поговорим о прошлом, настоящем. Я скажу, что нашел свое счастье, которое искал и не видел. Ты расскажешь о своей жизни. Возможно, и ты уже нашла свое счастье?..»
Аксанов окончил письмо и в конце поставил: «Твой Андрей». Он перечитал написанное, тяжело вздохнул и слово «твой» зачеркнул. Аккуратно свернув написанные листы вчетверо, вложил в конверт, вышел из квартиры и направился в тайгу.
Часть вторая
НАЧИНАЕТСЯ БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВА ПЕРВАЯСтрана переживала напряженные дни. Телеграммы ТАСС приносили неутешительные сообщения. В газетах печатались заявления Наркоминдела о том, что Советскому Союзу достоверно известно, как в некоторых дипломатических кабинетах самым активным образом обсуждают вопрос о военном нападении на страну Советов. В заявлениях подчеркивалось: советские люди не могут забывать о своих границах, идущих вдоль Маньчжурской линии, воинские части будут зорко охранять рубежи Дальнего Востока.
Капиталистический мир лихорадило. Японские дивизии группировались у наших границ. На Маньчжурской стороне шли бои и гремела канонада. На КВЖД нападали хунхузы. Поднимался вопрос о продаже дороги. Телеграммы ТАСС кишели сообщениями о задержке шпионов, диверсантов на новостройках, заводах, в колхозах. В стране участились случаи крушения поездов, поджога складов, порчи семян, падежа скота и отравления еды в столовых. В гарнизоне об этом узнавали из газеты «Краснознаменец». Светаев жаловался, что газетная площадь становится тесна.
– Уплотняй события, – шутил Шаев. Глубокие складки разбегались по его крупному лицу. – Выбирай самое важное.
– Все важное! – горячо отвечал Светаев, вскидывая ясные глаза на помполита.
– Бумаги больше не дадут, – брови Шаева сдвигались, на лбу появлялись морщинки. – Изворачивайся.
К Светаеву все чаще забегал Аксанов. Он рассказывал о строительстве и стрелковой подготовке взвода. Торопливо раскрыв дверь, командир кричал:
– Интересные цифры!
– Опоздал немного…
Газету уже печатали. Аксанов брал пахнущий краской свежий номер. Первая страница пестрела сообщениями о том, что в Хабаровске открылся колхозный базар, цеха Челябинского тракторного вступали в строй, комсомольцы Сталинска начали сооружать домну, около Грозного ударил фонтан нефти, а во Франции открылся съезд комсомола.
Это были сводки Дальроста. Сводки перекликались с заметками военкоров о ходе подписки на новый заем заключительного года первой пятилетки, о боевой и политической учебе подразделений.
– Вторая страница живая, – заметил Аксанов, не отрываясь от газеты.
– А чем хуже третья, четвертая?
В газете помещались заметки о роте Крюкова, успешно выполняющей обещание наркому – быть передовой ротой. Отличные стрелки делились своим опытом. На четвертой странице публиковались письма Поджарого и других младших командиров, остающихся повторно на сверхсрочную службу. Особенно волновало письмо Сигакова.
«Я оставался на сверхсрочную в более спокойных условиях, а теперь, когда угроза войны нависла как никогда и я нахожусь в трудной и ответственной обстановке, – первым заявляю о своей готовности остаться еще в рядах Особой Дальневосточной после своего выздоровления.
Командир отделения Сигаков, беспартийный, колхозник».
Светаев присел к Аксанову на скамейку, обнял его и задушевно сказал:
– Хочется о таких людях написать шире. Это-о новая черта в человеке – видеть, понимать, ощущать вокруг себя большую жизнь и отдавать себя ее служению. Это настоящее мужество! Сигаков простой, незаметный, но новый человек.
Светаев быстро привстал, подошел к столу и начал что-то искать среди бумаг.
– Я хочу показать тебе еще один документ. Это лозунги для столовой. Их написал боец Павлов, тоже остающийся на сверхсрочную. Он пришел вчера в редакцию и рассказал, что прошел курсы кулинарии, что обеспечит хорошее приготовление пищи, которое сейчас стоит не на должной, а на плохой высоте. Так и сказал – на плохой высоте. Нашел. Слушай, – и Светаев выразительно прочитал это письмо, добавив: – Павлов подсказал интересную мысль – организовать на страницах газеты общественный смотр питания.
Аксанов посмотрел исподлобья, раздумывая, как лучше сказать Светаеву о том, что думает о газете, не взбунтовав его редакторского самолюбия.
– Немножко смешно, столовая-то еще не построена…
Загорелое и от природы смугловатое лицо Светаева выразило недоумение.
– Во времянке можно сделать, – и наклонился к Андрею, доверительнее и тише заключил: – Это тоже новая черточка, – и снова откинул голову, расправив рукой всегда поблескивающие черные волосы, беспорядочно рассыпающиеся и вечно торчащие в разные стороны. Он поинтересовался, что нового у Аксанова.
– Из дома письмо получил, – быстро отозвался тот, сверкнув лучистыми глазами. – Пишут: еще трудновато, но дела пошли на поправку…
– И должны пойти, Андрей, страна размахнулась широко, а твоя Челяба гремит на весь мир.
– Была Челяба, да сплыла, – без обиды ответил Аксанов. – Времена Мамина-Сибиряка прошли. – Он быстрым движением руки передернул ремешок планшетки, расстегнул ее и достал свернутую газету. – Посмотри, интересный номерок.
Светаев нетерпеливо развернул газету.
– «Наш трактор». Любопытно! – и бегло просмотрел газету. Он выгнул широкие брови. – Наша газетка по сравнению с нею – малютка.
Номер заводской газеты был еще майский, послепраздничный. На первой полосе в глаза бросалась отчеркнутая красным карандашом телеграмма Блюхера пролетариям Челябинска. От имени бойцов, командиров и политработников командарм посылал красноармейский привет.
– Мне хотелось обратить твое внимание на эту телеграмму. Сестра пишет: на стройке только о ней и разговоров…
Светаев стал читать: «Ваши успехи в борьбе за освобождение страны от иностранной зависимости воодушевляют нас боевым энтузиазмом. Продолжайте уверенно двигаться вперед, заканчивайте четвертый решающий без задолженности стране. Помните, мы крепим бдительность по охране неприкосновенности Дальневосточных границ», – закончив, он искренне сказал:
– Здорово! Жаль, запоздала газета, а то перепечатал бы телеграмму…
Светаеву стало легко. Он почувствовал, как радостный комок подступает к сердцу. Мир всегда широк, светел, а человек, часто удрученный личным, забывает об этом. Ему были понятны и близки чувства, которые испытывал Андрей, рассказывая о письме и показывая газету «Наш трактор».
– Не забывает командарм земляков.
– Таким земляком можно гордиться, – тепло проговорил Андрей и улыбнулся.
– Кажется, Блюхер с красногвардейскими отрядами устанавливал в твоем городе советскую власть, был председателем Челябинского ревкома и громил банды Дутова…
– Почему «кажется»? – Андрей удивленно и чуть обиженно посмотрел на Светаева. – Блюхер с уральскими партизанами совершил героический поход по тылам белых и за это награжден первым в стране орденом Красного Знамени.
– Ну-ну! – прервал Светаев. – Тебя только расшевели, готов без конца хвалить земляков.
– А знаешь, Федор, люблю свой город, история у него примечательная!
Светаев громко вздохнул, взял за руки Андрея, как бы доверяя ему что-то сокровенное, тихонько заговорил:
– Кто из нас не любит родного места? Ты не надышишься Челябинском, а я – Рубцовкой. Алтай! Слово-то какое, Андрей! Пой его и лучшей песни не сочинишь! Недаром Сибирь называют золотым дном!
Светаев резко привстал со скамейки, потом поправил ремень и передвинул складки гимнастерки назад, выставив вперед широкую грудь.
– Хватит! Растревожил ты мою душу… – Чуточку запнулся: сказать дальше или не сказать? Не преувеличивает ли он свои неожиданно вспыхнувшие чувства? И откровенно излил свою душу: – Заговорил о Сибири и сразу жену вспомнил. Как-то она там грызет гранит науки. Тебе, холостяку, не понять моей тоски, – он дружелюбно хлопнул по плечу Андрея, – чертяка уральский! Пойдем-ка лучше в столовую, время-то обеденное…