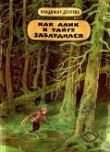Текст книги "Гарнизон в тайге"
Автор книги: Александр Шмаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 31 страниц)
Бойцы собрались около палатки-клуба. Радисты по кустам натянули кабель, повесили репродукторы. Библиотекарь, хмурый, как пасмурный день, раскладывал на полотнище газеты, журналы, выдавал настольные игры. Погода мешала развернуть работу читальни на открытом воздухе.
Стрельбище огласилось визгливым, пронзительным пением. Транслировали недавно привезенную пластинку «Кармеллу». Странно было слушать испанскую певицу, представлять ее пляску здесь, среди грустной тайги, разорванных облаков, торопливо бегущих по небу, среди красноармейцев и пулеметов.
Зарецкий суетился на линии огня. Командирам рот разрешено было вторично проверить бой пулеметов. Ответственность всегда прибавляет заботы. Сегодня у Зарецкого они увеличились. Он дежурный на стрельбище. То волновался за свой батальон, теперь надо еще беспокоиться за каждого стреляющего. Разрешение проверить пулеметы дал Мартьянов. Зарецкий передал телефонистам приказание: «Спрятаться».
Сигналист сыграл «внимание», и резкий звук корнета на мгновение заглушил голос Кармеллы… Красноармейцы-показчики поспешили к укрытиям в блиндажи. Командиры пулеметных рот легли за пулеметы. Крюков стрелял первым. Мишень упала, значит, поражена. За Крюковым стрелял Болвинов. Он долго не знал, какой следует поставить прицел. Он стал стрелять одиночными выстрелами. Мишень стояла. Тогда Болвинов дал короткую очередь. Мишень по-прежнему оставалась непораженной.
– Почему? – подбежал к нему Зарецкий. – Почему? Торопишься?
– Не тороплюсь.
– Нервничаешь?
Зарецкий запросил показчиков. Они дали отрицательный ответ.
– Белый свет большой.
– Товарищ командир батальона…
Зарецкий уже взвинчен, глаза его нервно бегают.
– Отстреляете на «отлично», смотрю я, – подчеркнуто сказал он и опять запросил показчиков.
– Рикошет есть! Мишень землей залепило, – ответили, – а пробоин нету…
Болвинов сбит с толку, пожимает плечами.
– Не пойму, – на его ссутулившуюся фигуру жалко смотреть.
– Кто же должен понимать, если не командир роты?
Подошел Крюков, спросил:
– Пулемет хорошо подготовлен?
Болвинов стал на колени перед пулеметом, проверил все, что может мешать нормальному бою. Со стороны советовали:
– Грунт мягкий, пулемет надо перенести на другую площадку.
Крюков предложил переменить ствол. И вдруг, поднявшись, Болвинов спросил:
– Ствол-то какой поставил? Новый, старый?
– Не помню, – отозвался растерявшийся командир взвода.
– Так и есть, старый…
Принесли запасный ствол, и пулемет после первой очереди поразил мишень.
– Не чувствуете ответственности, товарищ Болвинов, – бросил Зарецкий и ушел к другому пулемету.
* * *
…Лицо Болвинова передернуло судорогой, когда телефонист, словно раздумывая, передавать или не передавать, сказал:
– Четвертая ноль.
– Ноль? – переспросил комроты. Около него появился Зарецкий. Комбат закусил нижнюю губу и посмотрел на Болвинова с недоумением и злобой.
– Телефонисты, переспросите, сколько четвертая? – раздраженно крикнул Зарецкий.
– Четвертая ноль, – повторил телефонист.
– Третье невыполнение. Значит… – Зарецкий сделал паузу, – оценочка «отлично» фю-ю! – он выразительно покрутил вскинутой вверх рукой.
Рота Болвинова получила оценку «удовлетворительно». Оценка много значила для Зарецкого. Он пытался испросить разрешение на перестрелку. Инспектирующий сидел за столиком в тени ветвистой лиственницы, подсчитывал на блокноте результаты стрельбы. Черные казачьи усики его подергивались, когда он отпивал частыми глотками из стакана крепкий и горячий чай. Лицо его и весь вид выражали утомленность. Зарецкий не сразу заговорил о своей просьбе.
– Ничего не поделаешь… Перестреливать, сами видите, нет основания.
Зарецкий ждал другого ответа. Он надеялся на перестрелку. Он повторил свою просьбу, пытаясь ее мотивировать: сказал что-то о плохой погоде, изменении давления воздуха, усталости красноармейцев от хозяйственных работ, недостаточной стрелковой тренировке.
– В боевой обстановке, товарищ командир батальона, не апеллируют к погоде и туману, стреляют при любых условиях…
Видя растерянность Зарецкого, инспектирующий добавил: – Я понимаю вас и сочувствую вам. Если бы рота Болвинова отстреляла задачу на «хорошо», все стрельбы получили бы оценку «отлично», но… теперь уже ничего не изменишь…
Он мягко взглянул на Зарецкого, и усы его мелко-мелко задрожали. Весь разговор инспектирующего Зарецкий расценил, как снисходительное сочувствие, скорее похожее на оскорбление. Он готов был приписать в порыве возбужденности прямую издевку над ним всех, кто окружал его.
ГЛАВА ШЕСТАЯУдрученным возвращался Зарецкий домой. Он ни разу еще не приезжал таким разбитым, измученным, усталым.
Сегодня все казалось ему больным, даже пулеметы, и те неестественно корчились при стрельбе, лента тряслась в приемной коробке, как больной лихорадкой.
– Гадко, противно, – сказал Зарецкий после длительного раздумья. Он не узнавал свой голос – слабый и неуверенный. Комбат тяжело поднял голову. По бокам дороги ровной стеной тянулись мрачные, сливающиеся силуэты деревьев.
Лошадь, как бы испытывая все, что переживал ее хозяин, медленно брела, осторожно переставляя ногами, свесив голову и опустив шею.
Далеко внизу замерцали электрические огни. Зарецкий достиг перевала. Отсюда дорога шла вниз. Поток унылых, безнадежных мыслей прервался. Он тронул поводья. Ритмичный цокот копыт стал громким, единственно нарушающим тишину тайги.
Позднее, когда Зарецкий, отведя лошадь на конюшню, поднялся на крыльцо, он, минуту задержавшись перед дверью, подумал: «Сейчас Ядвига спросит, каков результат стрельб. Что сказать ей? Я заговорю с женой не о стрельбах…»
Встряхнув кожанку, словно освобождаясь от мучительных переживаний, он открыл дверь. В комнате стоял знакомый запах духов. Ничего не сказав жене, он молча разделся, помыл руки и приблизился к столу. «И отношения наши стали не те, – подумал он. – Раньше Ядвига не усидела бы, а поднялась навстречу».
Жена сидела в кресле и читала книгу. Тюлевая занавеска была наполовину затянута. Ядвигу захватила книга Никифорова «Женщины». Она хотела быть похожей на…
– Яня, – тихо сказал Зарецкий, – что есть покушать?
Он спросил для того, чтобы начать говорить с ней, услышать ее голос.
– А-а? – недовольно отозвалась жена, на мгновенье оторвала глаза от книги, отложила ее и посмотрела на мужа. Ее удивила вялость и необычное, жалкое выражение его лица.
– Что-то долго задержался? – проговорила она. Закрыла книгу, поднялась с кресла. Ей хотелось сказать, что она уже знает о его провале, жалеет его и готова помочь.
– У тебя очень усталый вид, – произнесла она ясным, чистым голосом.
Зарецкий, боясь посмотреть на жену и не желая, чтобы она поняла его боль, ответил:
– Яня, во мне происходит бой, сражаются две силы… Я не знаю еще, какая из них победит. Я хочу, чтобы ты…
Ядвига чутьем женщины поняла, о чем он будет говорить, и умело отвела удар в сторону.
– Обед остынет… Смотри, какое замечательное блюдо я тебе приготовила…
Тон, каким сказала она, расставляя тарелки на столе и наливая еду из кастрюли, мягкий и покорный, подействовал на Зарецкого. И все, что минутой раньше он приготовился сказать ей, теперь счел преждевременным. Зарецкий сел за стол.
Обед был вкусным, умело приготовленным. Он удивился, что не замечал этого раньше. Жена умеет прекрасно готовить. Зарецкий обвел комнату усталыми глазами и поразился тому уюту, который окружал его. Здесь все было на месте. Каждая безделушка, положенная умелой рукой Ядвиги, выглядела красивой и привлекательной. И вот Ядвига уходит от него.
Зарецкий, поев, потянулся за стаканом кофе. «Что же она не спрашивает о стрельбах? – опять подумал он. – Неужели я ее уже совершенно не интересую?»
– Почему ты не спросишь, как стрелял?
– А что спрашивать-то? – уткнув лицо в руки, тихо произнесла она. – Николай забегал и рассказал…
Зарецкий отчужденно посмотрел на жену, тю не посмел ничего проговорить. В словах ее он услышал правду, в которую не верил, сомневался. И Зарецкий окончательно понял – поздно, но он захотел в последний раз услышать от нее приговор себе, где-то в глубине души он еще надеялся на другой ответ..
– Я не допрашиваю, но скажи, ты любишь его?
– Да! – и гордо выпрямилась.
Он сразу обессилел, обмяк.
НА БОЕВОМ ПОСТУ
ГЛАВА ПЕРВАЯГригорий Бурцев сидел на корточках в углу землянки и будто вдавил телефонную трубку в ухо.
– Не слышно-о! Громче! Что-о? – кричал он и дул в трубку.
Бойцы, находившиеся с ним, насторожились. Всех интересовало, что говорит Аксанов. Слабо потрескивали дрова в железной печке, бросая красноватые блики на бойцов, прижавшихся друг к другу и сидящих на узких нарах.
Бурцев до боли в пальцах сжимал аппарат, словно можно было этим усилить то, что передавал комвзвода.
Оторванный от холстины лоскут хлестал по дощатой двери. Бурцев не замечал этого. Наконец он безнадежно вздохнул, положил трубку и с горечью проговорил:
– На линии повреждение…
Двое бойцов промолчали.
– Надо установить связь. Петров, пойдешь со мной! Власов, останешься на посту!
Крепчал мороз, и усиливался ветер. Снежная мгла становилась мутнее. Близился вечер. Бойцы спустились с сопки. Внизу снег был глубокий и рыхлый, лыжи тонули, и идти сразу стало тяжелее.
Бурцев заметно спешил. Петров – молодой красноармеец, лишь осенью прибывший в гарнизон, видел, как тяжело командиру прокладывать лыжню, как он, расстегнув шлем, все чаще и чаще вытирал рукавицей вспотевший лоб. Командиру хотелось до темноты обнаружить и устранить повреждение. Он искал на опушке леса кривую березу, от которой начиналась подвесная телефонная линия.
Тайга тревожно шумела, и шум ее то стихал, то становился сильнее с новыми порывами ветра. Вблизи раздался треск падающего дерева. Бурцев только втянул голову, недовольно выругался. Третий день, не переставая, завывал ветер, мела непроглядная метель. И хотя Григорий привык к амурским метелям более неистовым, продолжавшимся по неделе, бывал с отцом во время их в тайге, эта метель казалась ему тяжелее, чем амурские. Там он был за спиной отца, а сейчас он чувствовал ответственность за порученное дело – несение службы на боевом посту, за поведение и состояние бойцов, вверенных ему впервые, как стажеру.
Исполнялась мечта, скоро два треугольничка появятся на малиновых петлицах его гимнастерки и шинели.
Бурцев знал, Петров родом с Волги, но бывают ли там такие шальные метели, привык ли к ним боец, – сомневался. Он прислушивался к тому, как шуршат лыжи бойца, постукивают его палки, оглядывался, чтобы убедиться, ровно ли он шагает. Красноармеец же, запыхавшись, чтобы не отстать от командира, нажимал на палки. Одна глубоко провалилась в снег. Потеряв равновесие, Петров упал. Бурцев не услышал, а скорее почувствовал это, повернул голову. Красноармеец, выдернув сломанную палку, поднимался.
– Устал? – крикнул Бурцев.
– Нет, – пробурчал Петров, – палку сломал…
– Возьми мою и иди ровнее, – посоветовал Бурцев и размеренно зашагал, постепенно убыстряя ход.
О нарушении связи с постом доложили Мартьянову, когда он собирался уходить из штаба. Беспокоясь за красноармейцев, у которых уже не было продуктов, а пурга и не думала стихать, командир третий раз вызывал дежурного по штабу, спрашивал, установили ли связь с постом, и получал неизменный ответ, что нет.
– Мое приказание… – переспросил Мартьянов, не договорив фразы.
– Передано начальнику связи, – поспешил доложить дежурный, – команда вышла на линию, взяли с собой двух собак Азу и Дикаря.
Дежурный стоял, ожидая новых вопросов. Мартьянов молча ходил из угла в угол кабинета. Скрипели половицы под фетровыми бурками. У Мартьянова наступило такое душевное состояние, когда надо спрашивать, задавать вопросы каждые полминуты.
– Барометр?
– Стоит на буре!
Зачем у него карандаш в руках? Мартьянов приготовился что-то записать…
– На буре?
– Да, товарищ командир.
Два обломка карандаша летят в угол.
– Звоните непрерывно на пост, докладывайте каждые десять минут.
Дежурный уходит и тихо прикрывает дверь.
Мартьянов останавливается у окна. В раме надоедливо дребезжит разбитое стекло. Он прижимает осколок пальцем, но атакующий ветер со свистом врывается в кабинет.
«Пурга на пятидневку закрутила, а довольствие на посту уже кончилось. Надо бы послать продуктов, в бойцах дух поддержать. Может, пойти самому? Это будет проверка поста». Но Мартьянов тут же отметает эту мысль – команда уже вышла на линию.
– Дежурный!
В раскрытых дверях останавливается красноармеец.
– Кто возглавил команду?
– Комвзвода Аксанов.
– Звонили?
– Все без перемен.
– Сколько времени?
– Был отбой.
Мартьянов остановился в недоумении и вынул часы. Стрелки показывали десять одиннадцатого. «Четыре часа с постом нет связи!» Только сейчас он ясно осознал, что уже поздний час. Его к ужину заждалась Анна Семеновна и обеспокоена, как всегда его опозданием. Мартьянов ушел из штаба, предупредив дежурного, чтобы немедленно поставил его в известность, как только установят связь.
…Комната. Накрыт стол. Тень от самовара на стене похожа на корягу. Облачко пара, как живое, ползет по обоям к потолку. Самовар уже перестал петь. Надо снова подогревать. И Анна Семеновна закрывает книгу, беспокойно поглядывает на часы. Маятник никого не ждет и мерно отсчитывает время.
Час возвращения мужа давно прошел. Она снимает с трубы колпачок, и самовар оживает, затягивая тихую, однообразную песню.
Анна Семеновна передвигает на столе тарелку с бутербродами, открывает крышку вазочки с вареньем и ловит ложкой самую большую малиновую ягоду и осторожно кладет ее на бутерброд с маслом. Она поворачивает тарелку с этим бутербродом в сторону, где всегда сидит муж. Задумывается. Ей кажется, что Семен Егорович протягивает руку за бутербродом и говорит устало: «А помнишь, как по малину ходили? Не забуду я. Ты обещала мне сына родить. Говорят, обещанного пять лет ждут, понимаешь, а я жду всю жизнь».
И обидного ничего нет в словах, а ей горько слышать. Будто она виновата в том, что не могла стать матерью. Раньше, когда была моложе, не теряла надежды. Ей хотелось, чтобы был сын, а теперь и думать перестала. А вот ягоду, обязательно выловит в варенье и положит мужу, чтобы еще раз услышать от него эти слова, пережить необъяснимые боль и радость, будто в словах его новая надежда спрятана.
Анна Семеновна вздрогнула от сильного стука в дверь. Сразу узнала, что пришел ее Сеня. Не оборачиваясь, опросила:
– Что-нибудь случилось?
– Пурга! А тут нарушилась связь с постом. Там люди. У них довольствие на исходе…
Жена быстро повернулась.
– Как же они?
– Послана команда… А ветер не стихает. К утру метель может усилиться.
Анна Семеновна сокрушенно покачала головой. Жена, как и он, встревожена и обеспокоена за людей на посту.
– Главное, красноармейцы-то посланы молодые со стажером Бурцевым.
– Это каким?
– Сын партизана с Амура. Парень выносливый и крепкий.
Вздохнул. Закурил, потом попросил:
– Горячего бы чаю, Аннушка, – быстро скинул борчатку, прошел к столу и сел в кресло.
Жена налила стакан чаю. Мартьянов взял бутерброд, улыбнулся.
– Опять ягодка…
На него смотрели тоскливые глаза жены.
Семен Егорович на этот раз промолчал и не сказал обычной фразы о сыне. Его захватили неотступные думы: неспокойно в тайге, тревожно на сердце.
Они долго сидели молча. Замер самовар. В наступившей тишине особенно громко тикали часы. Семен Егорович, не раздеваясь, прилег на кушетку и задремал. Анна Семеновна осторожно, не стуча, убрала посуду. Потушила свет и ушла в спальню.
* * *
Ночь была на исходе, когда, исправив повреждение, Бурцев с Петровым возвращались на пост. Почти ежеминутно сквозь мягкий пласт снега Бурцев нащупывал палками твердую корку дорожки. Казалось, лыжи тяжелели с каждым шагом.
Петров шел сзади. Он учащенно дышал широко раскрытым ртом, жадно глотая холодный воздух.
– Тяжело-о!
– Давай что-нибудь мне.
Бурцев взял у красноармейца винтовку, подумал о Петрове: «не втянулся ходить на лыжах. Вот что значит без тренировки и без привычки». Теперь грудь Григория стягивали ремни двух винтовок, линейная сумка, телефонный аппарат. Покачиваясь, Бурцев с усилием передвигал лыжи, широко расставляя ноги.
Вдруг лыжные палки провалились глубоко в снег. Бурцев остановился, стиснул зубы. Он понял, что сбился с дорожки. Тогда, сростив обрывки кабеля, командир дал один конец Петрову. Красноармеец был теперь на буксире. Определяя направление к палатке, Бурцев произнес вслух, словно хотел этим подтвердить безошибочность предположения:
– Идти надо чуть правее.
Они повернули вправо.
Ветер не стихал. Бурцев оглядел себя и красноармейца. Они были похожи на белых неуклюжих кукол. Бурцев приналег на палки, но ноги уже не были так послушны. «Что же это? Так и не дойдешь?!» – мелькнула мысль.
Бурцев посмотрел на Петрова, и ему захотелось вновь подбодрить уставшего красноармейца.
– Пурга-то стихает… – сказал он и понял, что этим хотел успокоить себя. Бурцев знал, что сесть отдохнуть сейчас, значит, не встать совсем, поэтому шел сам и тянул за собой Петрова.
Небо стало похоже на бушующий омут. В нем закружилась, завихрилась пурга. Неожиданно он увидел шест, торчавший в снегу. «Теперь близко», – радостно подумал и решил передохнуть. Усталость давно поджидала Бурцева.
Они присели на снег, съели пачку галет, хранившуюся в вещевом мешке. Стало совсем тепло и не слышно бушующей пурги. Уставшие тела начал сковывать сон. Подумалось: «Замерзающий человек не слышит ветра, не чувствует мороза, медленно и спокойно засыпает. Неужели пурга перестала? Почему так ноют ноги, руки, а грудь не сжимают ремни винтовок?» Нет, он еще не замерзает, он знает, что рядом с ним Петров. Ему отчетливо припомнилась едва видимая палатка, над нею красный флаг, возле нее красноармеец на посту. А может быть это только так кажется сейчас? Нет, красноармеец повернулся, приложил руку к шлему и всматривается вдаль. До слуха явственно донеслось:
– Бу-у-рцев!
«Ищут нас», – подсказало сознание, но он вместо того, чтобы ответить, лишь протянул руку. Красноармеец исчез. Теперь шест держал человек, обвешенный гранатами, пулеметной лентой.
Где он видел его лицо? Оно похоже на старую фотографию отца-партизана, которая висела на стене около зеркала. Бурцев всматривался в знакомые черты лица, заросшего рыжеватой щетиной. Это он, его отец, стоял сейчас перед ним. Бурцев готов был крикнуть, но отец повелительно поднял руку и заговорил. Он слушал отца много раз, но сейчас в рассказе его было что-то новое, чего еще он никогда не слышал. Это были слова о силе, воле преодолевать трудности, о мужестве. Он хорошо знал, что отец, отрезанный от своего отряда японской ротой, ушел в тайгу. Пять дней с перебитой рукой он пробирался до тропы, по которой возвращался отряд. На шестые сутки его нашли партизаны. Он был еще жив. Около него подняли винтовку без ремня, небольшой кончик его остался во рту отца…
Бурцев снова протянул руки вперед, но призрак отца, удаляясь от него, мгновенно исчез. Он чувствовал, что кто-то ласково гладит его теплой рукой, дышит ему в лицо, за воротник гимнастерки стекают щекочущие струйки холодной воды. С трудом Бурцев открыл глаза и вздрогнул. Перед ним, виляя хвостом, задрав лохматую морду, стояла собака.
– Аза! – прокричал он.
Собака залилась мелким лаем. Она протянула ему передние лапы. Бурцев схватил их и стал нежно гладить, как руки друга. Потом перед ним выросла фигура Аксанова. Бурцеву хотелось расправить плечи, стряхнув усталость, доложить командиру взвода, что повреждение устранено и связь с постом налажена. Но тело плохо подчинялось, его покачивало.
– Немножко устали. Присели отдохнуть, – проговорил он вяло, будто оправдываясь перед Аксановым, и стал тормошить заснувшего красноармейца. Они, действительно, немного не дошли до землянки. Командир взвода окинул Бурцева строгим взглядом.
Когда все трое ввалились в землянку, их обдало щекочущим запахом жирного супа, сваренного Власовым из говяжьей тушенки. Они сняли полушубки. Тепло окончательно разморило их.
– Покушать им быстрее, Власов, – распорядился Аксанов.
– Товарищ командир взвода, разрешите чуток вздремнуть, – они прилегли на нары и тут же крепко заснули.
– Всю ночь пробродили, – заметил Власов, – я тут в тепле сидел и то устал, а каково было им в пургу-то…
Аксанов набросил на Бурцева с Петровым одеяло, потом взял трубку и передал телефонограмму начальнику связи.
«Повреждение устранено стажером Бурцевым с красноармейцем Петровым, вышедшими на линию вечером. До поста не дошли. Устали. Сейчас отдыхают. Задержусь здесь на сутки, проведу с бойцами беседу о XVII партсъезде.
Комвзвода Аксанов».
А через час пост вызвал Овсюгов. Власов, поднявший трубку, как только раздался прерывистый писк зуммера, громко крикнул:
– Вас, товарищ командир…
– Тише, разбудишь товарищей, – и вполголоса: – Я слушаю…
В трубке послышался отчетливый голос начальника связи, разрешившего Аксанову задержаться на посту. Овсюгов интересовался состоянием бойцов.
– Здоровы. Сейчас крепко спят. Устали так, что даже не покушали…
– Хорошо! – отозвался голос на другом конце провода.
Овсюгов не вытерпел, предупредил Аксанова, чтобы он проявил заботу и внимание к бойцам. Андрей усмехнулся и, раздосадованный ненужным предупреждением, ответил:
– Понятно. До свидания, – и положил трубку. Аксанов широко зевнул, потянулся, повернулся лицом к спящим и почувствовал, как отяжелели за эту ночь его ноги и руки. Власов, внимательно посматривающий на командира, заботливо сказал:
– Вздремните часок, ведь намаялись – ночь-то тревожная была.
– Твоя правда. Только часок, и разбуди…
Красноармеец согласно покивал головой, подкинул дров в печку, звякнул дверцей.
Аксанов прилег на нары рядом с Бурцевым и сразу же заснул. Он проспал часа три. Власов не потревожил командира, а к вечеру проснулись Бурцев с Петровым и так приналегли на обед, что их аппетиту можно было лишь позавидовать.
Маленькое оконце землянки, мутное весь день от непрекращающейся пурги, сейчас потемнело. Власов зажег фонарь. Красноармейцы уселись на нары и стали слушать беседу командира взвода о XVII съезде партии.
– На съезде выступили командарм Блюхер и нарком Ворошилов.
Аксанов развернул газету и прочитал подчеркнутое красным карандашом место из речи Ворошилова о том, что непосредственная угроза нападения на Приморье вынудила нашу страну приступить к созданию Военно-Морских сил и на Дальнем Востоке.
– Вроде как бы про нас речь, – проговорил Власов.
– И про нас тоже, – подтвердил Бурцев.
Андрей незаметно и уже совсем легко, чувствуя, что его слушают с нарастающим вниманием, пересказал содержание речи Блюхера и назвал цифры, приведенные им о строительстве Японией в Маньчжурии железнодорожных путей, шоссейных дорог, идущих в пограничной зоне, имеющих только стратегическое значение, аэродромов, посадочных площадок и складов.
– Больше трети всей японской армии сосредоточено в Маньчжурии, заявил командарм. Вот послушайте, как говорит о нашей готовности Блюхер, – и Аксанов прочитал: «Мы укрепляем границы ДВК, крепко запираем их на замок. «Наши границы, как сказал Ворошилов, опоясаны железобетоном и достаточно прочны, чтобы выдержать самые крепкие зубы…»
– Здорово сказал! – вставил Бурцев, глаза его горели.
Красноармеец нравился Аксанову своей порывистостью, откровенностью, стремлением быть впереди, желанием сделать все, что будет ему поручено. Он в душе симпатизировал стажеру, радовался его успеху и всячески поощрял в нем проявление этой стороны характера. Какие-то внешне сходные черты сближали облик красноармейца с Мартьяновым, и Аксанов, закрыв глаза, видел вот таким же командира полка в молодости.
В заключение беседы Андрей кратко и сжато изложил значение решений съезда партии, дал оценку их значению в дальнейшей судьбе народов страны. Говорил он все напористее, боялся, как бы рассказ не получился вялым, растянутым. Незаметно для самого себя заключительная фраза о работе съезда партии привела Аксанова вновь к самому простому, обыденному – к жизни гарнизона, к честному выполнению обязанностей каждым бойцом, к строгому соблюдению воинских уставов.