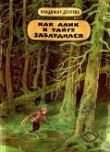Текст книги "Гарнизон в тайге"
Автор книги: Александр Шмаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц)
На квартиру Семен Егорович возвращался бодрым, хотя изрядно намотался за долгий летний день. Хотелось взять гармонь, давно уже ее не держал в руках, растянуть меха так, чтобы захлебнулись голоса.
Но был уже поздний вечер, когда Мартьянов шумно ввалился и еще от дверей звонко и мягко произнес свою излюбленную фразу:
– Горячего чайку бы, Аннушка! – жена поняла, что Семен Егорович возвратился в хорошем расположении духа.
– Что задержался, Сеня?
– Дела-а, – протянул добродушно, – дела-а, супружница моя. Умру, а они меня и в могиле, кажись, найдут.
– Слова-то какие, не вяжутся с твоим настроением, – отозвалась Анна Семеновна.
– Потому и говорю, что не вяжутся. Объездил, матушка моя, полгарнизона за день, аж поясницу заломило, и успел побывать на партийном собрании в батальоне Зарецкого. Вот люди-то там, прямо скажу – хозяева жизни!
Чайник давно уже стоял на столе, прикрытый цветастой «рязанской бабой» и поджидал Мартьянова вместе с ужином. Семен Егорович постучал носком умывальника на кухне, протер досуха холщовым полотенцем грубоватые, обветренные руки и прошел к столу. Закусывая и запивая горячим, крепко заваренным чайком, он рассказывал жене все накопившееся за день из того, что мог поведать смешного, забавного и важного из жизни гарнизона.
Анна Семеновна привыкла к подобным «отчетам» мужа за чашкой чая. Она слушала и Думала, что были они в разлуке десять-двенадцать часов, а казалось, не видели друг друга несколько дней.
– Какие люди в батальоне Зарецкого! – с прежним восхищением проговорил Семен Егорович, отпивая чай из стакана в серебряном подстаканнике, подаренном женой в день рождения.
Анна Семеновна осторожно спросила:
– А сам Зарецкий-то скоро вернется?
– Ждем. А что?
– Всякие разговоры ходят об его жене.
– Язык без костей, пусть мелют, – Мартьянов посмотрел на морщины, густо собравшиеся вокруг глаз жены. – Сморщилась. Ну, что там говорят еще?
– С Ласточкиным она встречается.
– Дело молодое, пусть встречается, – пошутил Семен Егорович, а потом серьезнее сказал: – Высечь ремнем этого девчатника, чтоб на чужих жен глаза не таращил, а знал девок. Теперь их в гарнизоне прибавилось, – и спросил о другом: – От Алешки нет писем? Забыл, дьявол его раздери, не пишет, понимаешь.
Лет восемь назад Мартьяновы усыновили воспитанника полка. Пожил он с ними немного, определил его Семен Егорович в пехотное училище. Нынче должен окончить его, получит звание командира взвода. Уже взрослый, самостоятельный человек.
– Оно и понятно, – продолжал он свою мысль. – Приемный. Гришка был бы не такой. Теплее. Родной сын…
Мартьянов смолк. Анна Семеновна почувствовала всегдашний укор в его словах. Детей своих у Мартьяновых не было, а когда они оба касались этого разговора, он недовольно смолкал, а она чувствовала себя виноватой, хотя вины в этом ее не было – после перенесенной болезни и операции Анна Семеновна навсегда лишилась счастья материнства, самого дорогого в жизни женщины.
– Не печалься, я ведь не виню тебя, – он подошел к ней, взял за плечи, наклонился и провел несколько раз гладким подбородком по ее разгоревшимся щекам. Потом отошел к голландке, прижался к ней спиной, словно хотел погреться, и заговорил:
– Ну, нет у нас детей, где ж возьмем, если нет? Но думать-то об этом не возбраняется, Аннушка? Вот я и думаю иногда при встрече со здоровыми, крепкими парнями в ротах: «Мой сорванец Гришка был бы таким же». Закрою глаза и представляю его красноармейцем, потом командиром, но не гражданским.
Анна Семеновна не перебивала мужа, хотела, чтобы он выложил все, что думал. Выскажет, и ему будет легче.
– Вот и думаю, – продолжал он, – умирая, родители могут завещать детям продолжить с честью их любимое дело. Правда, всегда на место выбывшего из строя бойца встает другой, чей-нибудь сын, но как хочется, чтоб это был твой…
Мартьянов снова подошел к жене.
– А киснуть-то не надо, Аннушка. Не только в детях счастье.
Семен Егорович заставил повернуться жену лицом к окну, а потом шагнул, широко распахнул его створки.
– Вот тоже наше счастье, и нами оно рождено! – и указал на яркие электрические огни гарнизона. – Доброе дело на век. Красуйся!
ГЛАВА ПЯТАЯМилашев ходил и твердил слова стихотворения. Стихотворение давало только тему, нужно было к нему написать мелодию. Он насвистывал отдельные музыкальные фразы, но законченного предложения с нужной трактовкой темы не получалось.
Увлеченный насвистыванием мотива, Василий незаметно зашел в глубь леса. Тихо шумела тайга. Он присел на пень и стал вслушиваться в монотонные и разноречивые звуки.
И вдруг откуда-то ворвалась ритмичная дробь барабана. Это с дальнего стрельбища донеслись то короткие, то продолжительные очереди пулемета, и эхо многократно повторило эту дробь, пока она не замерла совсем. Непрошеная дробь барабана не нарушила общего лейтмотива, а только усилила его, повторила… «Вот этого и не хватает для песни. Фраза найдена. Теперь ее нужно быстрее проиграть, послушать, как она прозвучит».
Милашев вскочил, побежал в клуб и, сев за рояль, ударил по клавишам. «Найдена общая кайма, уловлен контур. В таком темпе пойдет вся песня».
Еще раз проиграл он песню и вполголоса запел:
В глуши лесной о том нам спой,
Как лучшие из лучших
Стрелять идут, в десятку бьют,
Ложатся пули кучно.
Ему показалось, что песня прозвучала просто и сильно. Он записал мелодию на нотные листы…
И вот песня написана. Ее разучили в ротах, поют на вечерних поверках. С того дня прошло два месяца, а Милашева все еще волнует какая-то, на его взгляд, неясно выраженная мысль, все чего-то не хватает…
Что же он упустил? Он подслушал тему. Где? Странно! В тайге… И сразу же написал песню.
Мимо окна проходила рота. Красноармейцы пели «Песнь о десятке». Милашев встал, отодвинул книгу, раскрыл окно. «Надо со стороны послушать, правильно ли звучит песня. Моя и не моя песня. Здесь была пауза, а голоса протянули, и сразу чувствуется, что пауза лишняя. Песня ровнее, сильнее и бодрее звучит без паузы».
Аксанов, который командует строем, ускорил темп. От этого и песня зазвучала мощнее. Василий бросился к столу, перерыл нотные листки и с нетерпением пробежал глазами по нотным строчкам. Да, счет расходился. «Это получилось потому, что песню писал один, а сейчас ее пел коллектив и каждый старался внести свое участие в исполнение песни».
Милашев раскрыл нотную тетрадь и с лихорадочной быстротой стал менять в песне темп, уточнять верхние и нижние ноты. Местами песню следовало играть и петь не только в полную силу. Нет, форте должно перерастать в фортиссимо. Так он сидел, до тех пор, пока сиреневые сумерки не спустились на землю, а линейки нот и точки не стали сливаться в сплошную серую массу.
* * *
Начальник связи встретил Ласточкина вопросом:
– Вы изменились за последнее время. Что с вами? – он исподлобья окинул изучающим взглядом комвзвода.
– Не замечаю в себе перемен, – сухо ответил Ласточкин.
– Грубите старшим командирам, опаздываете на занятия, появился холодок к работе. Старого воробья на мякине не проведете… Здесь неудобно разговаривать, зайдемте к вам на квартиру…
Они шли несколько времени молча.
– У вас исчезла заинтересованность к службе, захромала дисциплина. А отчего? Меня больше всего беспокоит это.
– Не иначе, от любви, – иронизируя, недовольно сказал Ласточкин, едва сдерживая себя.
Овсюгов достал серебряный портсигар.
Комвзвода зажег спичку и дал прикурить комроты.
– Спасибо. Я и хочу сказать, зло кроется в вашей личной неустроенности.
Они поднялись на крыльцо и вошли в подъезд. В комнате был полумрак. Они присели на табуретки возле стола с разбросанными на нем книгами и продолжали беседовать. Овсюгов говорил о том, что плохое настроение командира передается красноармейцам. Ласточкин порывался возразить.
– Вы обождите, – повысив голос, требовательно сказал начальник связи, – послушайте сначала. В молодые годы я тоже пережил это угарное состояние. У кого не было, черт возьми, увлечений в юности. Влюбленному, как и пьяному, – море по колено. Я тоже увлекся настолько, что забыл про службу. Дело зашло далеко, – он вздохнул, – с женщинами связался, говори, попал в неприятность. Там было не было, а разговорчики на свет уже появились. Разговорчики – самое страшное для молодого человека. Я из-за них партию потерял. Был грех, не утаишь. Вот она, любовь-то куда хватанула! И сейчас оправиться не могу. А в личной тоже неприятности – осадок на всю жизнь.
Ласточкин не думал раскрывать перед командиром роты своих душевных мучений и тревог. Горькие морщинки появились вокруг его рта.
– Ничего особенного не было. Товарищеские отношения. Танцевал. Провожал. Хорошая, чуткая женщина…
– Все они хорошие и чуткие до известной точки нагрева. А как дошло до нее – закипит и, говори, пропал… Ничего особенного! – Овсюгов многозначительно ухмыльнулся. – Зато она по-другому расценивает, – он насмелился назвать имя, – Ядвига – женщина заметная. Она, как звезда, сияет, Но толку-то что в этом? Быстро погаснет. Пока сияет, вот и мутит молодые головы. Неудобно передавать чужой разговор, да скажу. Пришла она к жене и поделилась: «Мы с Колей напропалую закрутили»…
Ласточкин вскочил, сверкнул голубоватыми глазами.
– Враки! Не верю, не верю, слышите!
Он вскинул руки, а потом скрестил их на груди и неудержимо рассмеялся. Хохот его – резкий, нервный – потряс стены.
Пораженный Овсюгов оборвал разговор. Он уставился мутными глазами на комвзвода, пытался разгадать причину его смеха.
– Надоело, слышите, надоело! Я уже сон потерял от нравоучений. Может быть, вы прикажете мне не встречаться с Ядвигой? Ну, приказывайте! – выкрикнул Ласточкин.
Овсюгов посчитал лучшим перенести разговор до более удобного случая.
– Вы нагрубили мне, – сказал он упавшим голосом, – я не обижаюсь. Есть пословица – не в свои сани не запрягайся. Я попрошу лишь об одном, подумайте над моими словами.
Начальник связи достал часы: он был пунктуален.
– Вам надо обедать. Не задерживаю. Пока.
Выходя, Овсюгов наставительно повторил:
– Подумайте над нашим разговором…
Когда дверь за ним закрылась, Ласточкин заскрипел зубами, бухнулся на топчан и спрятал голову под подушку.
– Словно сговорились, все об одном и том же.
Раздался знакомый стук в дверь. Он знал, за дверью Ядвига, и еще плотнее придавил голову подушкой. Она вошла осторожно. Николай почувствовал легкое прикосновение теплой и дрожащей руки. Ядвига присела на топчан и стала ласково гладить его плечо. Он откинул подушку с намерением грубо закричать на нее, но сразу обмяк. На него смотрели печальные, полные слез глаза Ядвиги. Она молчала, и Ласточкин понял: Зарецкая слышала разговор с Овсюговым. Он хотел ее спросить об одном, говорила ли она с женой начальника связи, но Ядвига предупредила:
– Сплетни, бабьи сплетни. Зависть…
Николай присел, прижался ладонями к ее мокрым щекам, закинул голову Ядвиги с рассыпавшимися волосами и заглянул в ее лучистые глаза.
– Правда?
Она не сказала, а только сделала движение губами, и Ласточкин припал к ним долгим поцелуем.
– Я это знал, не поверил ему.
– Вы так кричали, что я все слышала. Не говори ничего, – и прижалась к нему, подумала, тихо проговорила:
– Завтра приезжает муж…
Ласточкин только крепче прижал Ядвигу к груди.
– Я встречу его и расскажу все.
Зарецкая промолчала. Он понял, что она одобряет этот шаг.
…Вечером, получив разрешение от начальника связи, Ласточкин, под предлогом проверить дальние посты, оседлал Вороха и выехал на полустанок Кизи. Он побеседовал с бойцами, несшими дежурство, проверил их знания, оружие, средства связи. Ночь провел в каком-то забытьи… Сон не приходил до утра. Только на рассвете он заснул, но сразу же вскочил, как только проснулись бойцы и застучали у костра котелками, готовя завтрак.
Голова казалась разбухшей, тяжелой, все тело разбитым. Вскочив с нар, не обуваясь и не одеваясь, Ласточкин побежал к озеру и бросился в прохладную воду, чтобы освежиться. Он долго не выходил из воды. Плавал, нырял. Почувствовав, что уже основательно продрог, Николай выскочил на берег, пробежал по зыбкому, мокрому песку метров пятьдесят, согрелся и только после этого возвратился к избушке.
Чай вскипел, и Николай с бойцами позавтракал. Катер ушел на амурский берег встречать хабаровский пароход.
Этот час прошел для Ласточкина в нервном напряжении. Говорят: «Рыбку ешь, да рыбака знай», а как раз он и не знал Зарецкого-то. Встречались они часто, говорили вроде обо всем, рассказывали анекдоты, играли в шахматы, а что за человек был Зарецкий, Ласточкин так ясно и не представлял себе. А вот теперь надо подойти к человеку, затронуть его самое сокровенное, а с какой стороны приступить – неизвестно.
В ожидании возвращения катера он прилег на траву, срывал былинки, жевал их и с безразличием смотрел на сверкающее сероватое озеро, на поверхности которого изредка показывалась черная спина играющей рыбины. Кругом все жило обычной жизнью: свистели птицы, беззаботно летали яркие бабочки, стрекотали кузнечики, ползали муравьи, шелестела трава, а он, потревоженный, напряженный, беспокойно метался со своими мучительными думами. «Скоро конец – одно или другое…» А что это было одно или другое, он так и не мог представить.
Катер стал подходить все ближе к берегу. Ласточкин поднялся, оправил гимнастерку, застегнул воротник, подтянул ремень. Он сделал все это для того, чтобы сосредоточиться на чем-то другом, постороннем.
Комвзвода видел, как спрыгнул Зарецкий на мостки и проворно пошел по прогибающимся доскам, держа в левой руке небольшой чемоданчик в белом чехле. Увидев комвзвода, Зарецкий искренне обрадовался ему, весело крикнул:
– Ласточкин, здравствуй!
Они поздоровались, не подав руки друг другу. Зарецкий, взглянув на комвзвода, на его осунувшееся лицо, тревожно горевшие глаза, участливо проговорил:
– Болен, что ли?
– Нет! У меня с вами разговор будет.
– А обождать нельзя, пока я позвоню в полк и закажу лошадь? – удивляясь такой спешке, спросил он.
– Нет! – решительно ответил комвзвода.
Зарецкий оставил возле мостков чемоданчик, и они пошли вдоль берега.
– Я слушаю. Что за чрезвычайное происшествие? – в прежнем, полусерьезном тоне проговорил Зарецкий.
– Я люблю Ядвигу, – коротко сказал Ласточкин.
Зарецкий остановился.
– Довольно шутить! – произнес он, хотя по тону, каким были произнесены слова, понял: Ласточкин говорил серьезно.
– Я люблю Ядвигу, – повторил Ласточкин с прежней настойчивостью и повернулся к комбату, открыто и прямо взглянул на него.
– Мальчишка! – взревел комбат, весь побагровев. – Как ты смеешь говорить мне об этом?
Ласточкин до крови прикусил нижнюю губу, глаза его решительно сверкнули, подбородок мелко задрожал.
– Комбат, опомнитесь! – грозно и предостерегающе выговорил он. – Сперва рассуди, а потом и осуди, но пойми: правду сказал сейчас…
– Молчи! – крикнул Зарецкий.
– Я думал серьезно поговорить. Не хочешь – не надо, – он запнулся. «Ты» он никогда не говорил комбату, даже в домашней обстановке. – Ядвигу не тронь, она ни в чем не виновата, – предупредил Ласточкин и косо посмотрел на комбата, сделавшегося сразу жалким в его глазах. Он твердо и торопливо зашагал от него, высоко и гордо вскинув голову.
– Лошадь мне! – крикнул Ласточкин бойцам, не доходя до избушки. – Возьмите чемодан комбата Зарецкого и вызовите ему подводу. – Он легко вскочил в седло и ускакал в гарнизон.
Зарецкий не сразу пришел в себя. Через два часа, положив чемодан в облупившуюся двуколку, он сел на любимого карего жеребца, истосковавшегося по седоку, и тронул его наметом. Настроение было самое подавленное, гнетущее. С ним по дороге повстречался Шафранович. Они остановили лошадей. Поздоровались. Тот поинтересовался:
– Как с учебой, товарищ Зарецкий?
Комбат ответил с неохотой, что принят, осенью занятия.
– Завидую. Счастлив! Покинешь сей прелестный край. А я вот буду коптить здешнее небо, черстветь душой и телом, – его охватила злость на все, на себя, на жизнь, на людей, захотелось сделать больно этому молчаливому человеку, будущему слушателю академии, и Шафранович с издевкой произнес:
– Век учись, а дураком подохнешь. Пока ты с академией возился, Ласточкин был счастлив с твоей женой, – и злорадно захохотал.
Зарецкий поднял голову, смерил инженера презрительным взглядом.
– Какой же ты негодяй, Шафранович, – пришпорил жеребца и ускакал.
ГЛАВА ШЕСТАЯЧистка проходила в летнем театре. Члены комиссии находились на сцене, украшенной портретами вождей и плакатами. Особенно выделялся ленинский лозунг, протянутый над аркой:
«Быть коммунистом – это значит организовывать и объединять все подрастающее поколение, давать пример воспитания и дисциплины в этой борьбе».
Желающие участвовать в чистке разместились на скамейках, прямо под открытым небом. Для лучшей слышимости на елке установили мощный репродуктор.
Посмотреть и послушать, как будут чистить коммунистов, собрались беспартийные бойцы, вольнонаемные рабочие УНР и жены начсостава.
Председатель комиссии Руднев, с четырьмя золотистыми нашивками на рукавах темно-синего кителя, с наглухо застегнутым воротником с белой каемкой подворотничка, прежде чем начать проверку, коротко сказал о политическом значении этой работы, проводимой партией в интересах укрепления ее рядов.
Он говорил неторопливо и негромко, но все слышали четкие фразы. Председатель комиссии легким броском головы закинул назад черные пряди волос, свисающие ему на глаза, и призвал всех активно участвовать в чистке. Во всей фигуре его, подобранной и аккуратной, чувствовалась уверенность и сила.
Чистку начали с Мартьянова. Он медленно поднялся на сцену, подал партийный билет председателю, повернулся к сидящим, окинул их открытым взглядом. Все здесь было близким ему, как и люди, которые сейчас смотрели на него и ждали, что он скажет в такой ответственный момент. И Мартьянов заговорил спокойно и твердо о том, кем он был раньше, какой тяжелый путь прошел, чтобы стать рядовым солдатом, партии.
Он говорил о себе без лишних и громких слов. Когда он коснулся службы в старой армии, то от слов его дохнуло жизнью старого, дореволюционного солдата. Царская армия! В шесть утра – горн. В семь – чай, хлеб, два куска сахару. Потом прямо на плац – начиналась муштра. В обед – щи да гречка, 22 золотника мяса, если не постный день. Затем снова муштра. Ужин. И опять каша да щи, но уже без мяса, а на закуску поп с молитвами и проповедями.
В кучке связистов сидел Григорий Бурцев, слушал и не представлял, как могли тогда люди служить в солдатах. То, что говорил Мартьянов, казалось неправдоподобным. Но он знал, что так и было, так жилось от первого солдата при Петре до последнего – при царе Николае.
Но вот Мартьянов коснулся того, как ему, унтер-офицеру, раскрыл глаза на жизнь питерский рабочий-большевик. Он возвратился с фронта в родные места, но в своей деревне уже не застал ни жены, ни сына. Где они теперь: живы или погибли, так и не знает. И тогда у ворот родного гнезда, охваченный неистовой злобой на весь старый мир, он возглавил партизанский отряд. Можно ли было ему, Мартьянову, оставаться в стороне, не брать в руки винтовки, не мстить врагам за разрушенную семью, за исковерканное счастье?
Несколько сот человек, сидящих на скамейках, молчали. Бурцев забыл обо всем – рассказ командира потряс его суровой прямотой и откровенностью.
Руднев не прерывал рассказа Мартьянова – яркой исповеди человека. Он думал: «Перенести столько невзгод, и любить людей – это значит проявить тот незаметный, будничный героизм, к которому все привыкли и перестали даже ценить его: дескать, что же тут такого – обычное дело». Сам рабочий, он невольно вспомнил, как, будучи юношей, штурмовал Зимний дворец.
Светаев торопливо записывал в большую тетрадь. И тоже думал: «Какая же красивая душа у Мартьянова!» И спрашивал себя: «Ради чего все это пережил, испытал командир?» И отвечал: «Ради партии и народа».
Там, где сидели женщины, произошло маленькое замешательство. Клавдия Ивановна, склонившись к Мартьяновой, уговаривала:
– Анна Семеновна, перестаньте.
– Нет, я не плачу, не плачу, – вытирая слезы, катившиеся по щекам, тихо говорила та. – Это минутная слабость, она пройдет.
Председатель поднялся и спросил, будут ли какие вопросы к товарищу Мартьянову. Поглаживая щеки и подбородок, он осмотрел ряды скамеек. Глаза красноармейцев, командиров были устремлены на Семена Егоровича. Они словно все еще жили тем, о чем только что рассказывал командир.
Руднев перевел свой взгляд дальше, на тайгу, разомлевшую от полуденного солнца. По дороге гуськом тянулись подводы. Лошади, запряженные в передки, везли бревна. Сзади них серым хвостом поднималась пыль. «Подвозят строевой лес для Дома Красной Армии», – прикинул председатель комиссии.
Собрание молчало. Налив в стакан воды, Руднев отпил несколько глотков и внимательными глазами опять окинул сидящих.
Шаев снял фуражку, вытер платком вспотевший лоб. Он терпеливо выжидал, что будет дальше. Ему не хотелось первым говорить о Мартьянове, пусть лучше вначале скажут другие.
– Есть вопрос, – неожиданно раздался голос. Поднялся десятник Серов. – Скажи-ка, где дрался с гадами Советской власти?
Руднев приветливо улыбнулся и попросил, чтобы Мартьянов коротко рассказал об этом.
– Хорошо! – и Семен Егорович, повернувшись к председателю комиссии, шутливо добавил: – Мне бы географическую карту с указкой. С картой-то биография нагляднее будет, – и стал называть города и деревушки, где он бывал солдатом, унтер-офицером, командиром партизанского отряда, а потом командиром роты, батальона и, наконец, полка.
– Все ясно, – сказал Серов.
– Если ясно, то кто желает выступить? – спросил Руднев и дал слово красноармейцу. Бурцев не сразу выбрался и, не дойдя до сцены, повернулся, сбивчиво заговорил:
– Товарищ Мартьянов – правильный большевик, у него есть чему поучиться молодым бойцам, – Бурцев запнулся, откашлялся и повернул голову в сторону председателя комиссии. – Я все сказал…
Красноармеец вытер потное лицо рукавом гимнастерки. От волнения у него замельтешили перед глазами лица сидящих.
Светаев, сдвинув фуражку на затылок, старательно записывал. Аксанов наклонился и тихо сказал ему:
– Биография по человеку. Хороший очерк написать можешь.
Выступил комроты Колесников, сказал, что много лет знает Мартьянова как смелого и волевого командира, принимавшего участие в событиях на КВЖД. Боевые подвиги он считал лучшей аттестацией коммуниста.
– Дрался не щадя жизни. Шел впереди и увлекал за собой других. Храбрый, боевой командир. И как коммунист – принципиальный, требовательный к себе и подчиненным… Хочется пожелать товарищу Мартьянову новых успехов на благо родины, – закончил Колесников.
– Зачем так хвалят? Лучше бы чуточку поругали, – заметила озабоченная Анна Семеновна.
– Правда сама себя хвалит, – ответила ей Клавдия Ивановна.
Шаев сначала хотел выступить, но теперь раздумал. Сергею Ивановичу казалось, следовало бы пожелать Мартьянову всерьез подумать об учебе, но об этом они часто говорили и едва ли стоило теперь напоминать ему еще раз. Должен понять сам это неумолимое требование нынешней жизни.
Руднев наклонился поочередно к членам комиссии, затем объявил, что есть предложение считать проверенным товарища Мартьянова.
Дружные, долго не смолкающие аплодисменты были ответом на его слова. Тогда Руднев быстро наклеил марку на партийном билете Мартьянова и подал его командиру.
Теперь на сцене появился Шаев и протянул председателю комиссии партбилет, вынутый из кармана гимнастерки.
– Знаем его, – послышались многочисленные голоса.
– Порядок, товарищи, порядок, – предупредил Руднев, подняв руку, – он для всех обязателен…
Помполит коротко рассказал об основных вехах своей жизни, словно перелистал страницы книги о гражданской войне на Урале и Сибири, о мирных днях Красной Армии. О личном он говорил скупо. Куда с большим воодушевлением он касался общественной жизни, политической и партийной работы. Будто попав в свою стихию, он чувствовал себя увереннее и голос его сразу крепчал:
– Тут верно подметили, что коммунисты – люди государственные. Им много дается, но и много спрашивается. По-другому, товарищи, и не может быть в нашей партии. Что касается меня как коммуниста, то я исполнял все поручения партии и впредь обязуюсь быть ее дисциплинированным членом.
Клавдия Ивановна откинула назад пепельные волосы. На открытом лбу ее блеснули мелкие капельки пота. Она несколько раз приложила к нему смятый комочком платок и тяжело вздохнула. Ей казалось, что Сергей Иванович говорит не так и не то, что надо сейчас говорить на этом большом и ответственном собрании. Она внутренне порывалась помочь ему, но не знала, чем и как и, машинально схватив руку Анны Семеновны, сжала ее.
– Ничего, ничего, все будет хорошо, – понимая ее душевное состояние, прошептала Мартьянова, – твой Сергей Иванович – умница.
А помполит тем временем продолжал:
– Все ли гладко, все ли хорошо в жизни полка? Конечно, нет. И повинны в этом мы с Мартьяновым, а больше всего я, как первый помощник командира, его глаза и уши. С меня и спрос должен быть вдвойне, товарищи.
– Зачем он об этом говорит? – опять забеспокоилась Клавдия Ивановна.
– Надо и говорит. Ему виднее.
– Конечно, конечно, – согласилась Шаева.
Сергей Иванович, засунув большие пальцы за ремень, заговорил о недостатках, какие не успел устранить в быту и отдыхе командиров и их семей, в культурном обслуживании красноармейцев, в проведении их досуга.
Шафранович неожиданно вздрогнул, весь съежился, будто приготовился, что его сейчас ударят. Припомнилось анонимное письмо, отправленное помполиту зимой как раз об этих же трудностях и неполадках в быту. Поступил, как трус, а следовало подписать. Теперь это выглядело бы проявлением смелости, доказывало бы принципиальность.
И вдруг Шафрановича осенила мысль, от которой бросило в жар. Он почти задохнулся от дикой, радости. Да, он скажет сейчас о том, что Шаев толстокож, не проявил внимания к быту командиров, больше умеет «прорабатывать» на заседаниях, чем заботиться о людях, что он сухой начетчик и проглядел в работе главное – живого человека.
Чтобы все прозвучало убедительнее, он раскроет авторство, скажет: вынужден был послать анонимку лишь потому, что боялся гонения за правду. План выступления созрел молниеносно. Он показался Шафрановичу настолько весомым и доказательным, что должен был произвести ошеломляющий эффект. Именно эта мысль как бы придала ему больше силы и смелости, подхлестнула его, а внутренний голос тверже шепнул: «Выступай».
Давид Соломонович осмотрелся по сторонам, словно боялся, что мысли его могут разгадать. Кругом люди сидели плотно, а около него было пустовато. Словно он одинок. Ничего, скоро услышите, что скажет Шафранович! Рано, слишком рано меня выбрасывать на свалку!
Последнее время инженер почувствовал, что к нему стали относиться с большей осторожностью, недоверием, чем раньше. Он не простит себе никогда, если упустит случай и не выступит, не заявит во всеуслышание о себе.
Шафранович слушал рассеянно. Помполит фамилии его не назвал и не мог назвать. Инженера опять поглотила мысль о выступлении. «Однако о чем еще бормочет Шаев?» Он вслушался:
– Я говорю об этом, товарищи, потому, пусть не думают о нас, коммунистах-руководителях, что мы какие-то святоши, люди без ошибок и промахов в своей работе. Они есть и у нас, мы живые и нам присущи ошибки. И если мы говорим о них, значит, здоровы и сильны, не страшимся врага и умеем и должны всегда правде смотреть в глаза, как бы она ни была горька, как бы ни торчала рогатиной в нашем большом деле.
Помполит смолк. Ему задали несколько вопросов. Шафранович пропустил их мимо ушей. И как только Руднев объявил, есть ли желающие выступить, инженер громко произнес:
– Разрешите.
Он нарочито медленно пробирался сквозь ряды скамеек к сцене, чтобы улеглось волнение, охватившее его в последнюю минуту, и чтобы дать возможность слушающим лучше сосредоточиться на его выступлении. Он знал, чем спокойнее будет говорить, тем большее впечатление оставит его речь.
Давид Соломонович взошел на сцену, протер очки, хотя выступать собирался не по написанному. Опять же он сделал последнее умышленно, чтобы этим жестом обратить на себя внимание.
– Центральный Комитет призывает нас развернуть большевистскую критику поведения коммунистов, вскрыть все болячки и тем помочь партии еще теснее сплотить свои ряды. Заслугами в прошлом, как бы они ни были хороши, теперь никого не удивишь. Надо показывать дела, говорить прямо и откровенно о личных недостатках…
Шафранович сделал паузу, проверяя, какое впечатление произвело начало выступления, и продолжал о том, что Шаев, как человек с большими заслугами в прошлом, как коммунист лишь попытался самокритично взглянуть на себя, но не рассказал о безобразиях – не хватило мужества.
– Быт командира не устроен, это факт, – бил словами инженер, – культурный досуг не организован, хотя есть клуб. Кто виновен в этом? Помощник командира полка по политической части…
Шаев весь напружинился. Правильно критикует. Пусть даже резче скажет. «Не принять горького – не видеть и сладкого».
Слушая Шафрановича, Сергей Иванович только подумал, что слишком уж знакомы ему обороты речи. Где он их слышал, кто говорил ему вот эти же слова? Шаев чуть не подскочил от догадки. Анонимка, присланная анонимка! Округленными глазами он посмотрел на инженера. «Автор – Шафранович. Теперь не могло быть никаких сомнений. Вот, вот! И о клубе так же писал: клуб есть, а отдыха в нем не организовано. Тихой сапой действует!».
– А почему это происходит, товарищ Шаев? – инженеру нравилась вопросно-ответная форма, она звучала убедительнее. – Да потому, что очерствело и обросло коркой сердце политического руководителя. Шаев стал толстокож, проглядел в работе живого человека, к которому партия призывает нас быть внимательным и чутким. Может быть, комиссар не знал условий, в каких жили и живут командиры? Если не знал – плохо, он должен был знать, а сигналы были, серьезные сигналы…
Помполит достал платок и вытер лицо быстрыми движениями и торопливо сунул его в карман брюк. Клавдия Ивановна, наблюдавшая за мужем, почувствовала, как ему больно, прижалась к плечу Мартьяновой и глубоко вдохнула недвижный, знойный воздух.
– Что он говорит, что он говорит, ведь неправда, – шептала она.
Анна Семеновна только крепче сжала ее руку и продолжала слушать, думая о Шафрановиче, как о желчном и коварном человеке. Ведь многое в бытовом неустройстве командиров не зависело от Шаева.
Светаев перестал записывать и не спускал глаз с помполита. Он пытался угадать, о чем мог думать Шаев в эту минуту. Редактор взглянул на Мартьянова. Командир грозно нахмурил брови и склонил голову. Только Руднев, казалось, слушал Шафрановича так же, как он слушал других, ничем не выдавая душевного состояния.