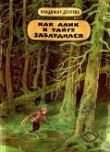Текст книги "Гарнизон в тайге"
Автор книги: Александр Шмаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
СЧАСТЬЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯЛоцман Силыч хорошо знал дикие берега лимана, рифы, подводные камни, отмели, легкие дуновения ветра с Охотского моря – предвестника страшных штормов. Не помнил он, сколько судов водил за свою жизнь. Бывало, подойдет судно к маяку, поприветствует угрюмые скалы, хмурую тайгу короткими гудками и ожидает его, лоцмана Петра Силыча. А у него внизу, у причала, как застоявшаяся лошадь, пофыркивает катер. Вскочит Силыч на борт катера, крикнет рулевому, не поворачивая головы: «Отчаливай!» Сынишка, стоящий за штурвальным колесом даст сигнал мотористу-брату «полный вперед», и, резвясь, побежит катер по бархатно-зеленым волнам бухты, как игривый конь по полю. Радостно Силычу: вся семья на катере, только жена на маяке. Гордость подмывает стариковское сердце, и мысли такие наплывают: «Что капитан сейчас передо мной? Ничто! Поднимаюсь на палубу я, и меня встречает команда, как самого лучшего и уважаемого хозяина здешнего моря. Вверяет свое судно капитан мне и в распоряжения мои не вмешивается. Стоит, покуривает трубку и приговаривает: «А знаток ты, Силыч, большой. Незаменимый ты лоцман у нас на лимане». Хоть и радостно слушать такие слова капитана, а отвечает ему сердито: «Не мешай, капитан, дело мое сурьезное. На мель судно сядет или бок проткнет о камень, кто отвечает? Я отвечаю. Твоя голова в стороне. С меня спросят».
От мыслей таких хмелеет голова Силыча. Есть чем жизнь вспомянуть, о чем людям порассказать. Поседела голова лоцмана, поредели волосы, а он по-прежнему водит суда по лиману. Только зрение стало не то, глаза бывалую остроту потеряли, и в душу вкралось сомнение. Это самое страшное за всю жизнь, что довелось испытывать Силычу, боялся, что свое имя опозорит и почетное звание хозяина морей падет. И Силыч, чтобы оставить за собой славу лучшего лоцмана, стал подумывать: не оставить ли работу по старости? Мысль эта неотступно преследовала Силыча.
Минутами мысль была настолько сильна, что лоцман садился за стол, писал заявление об отставке, и каждый раз оно оставалось недописанным. Так прошли последние два года его жизни.
Наступила на маяке зима 1932 года. Морозы рано сковали бухту, скрепили лед далеко в лимане. Зима была глубокоснежная, по всем приметам Силыча, предвещала хорошую охоту. А как любил он поохотиться в тайге! Бывало, только ударят заморозки, стихнут в море шторма, последние пароходы распрощаются с маяком, а Силыч уже готов выйти в тайгу. Как не идти на охоту, если сразу станет пусто на душе у Силыча. Тоска, как ветер на чердаке, свободно разгуливает и все воет. Воет день и ночь. Тогда и маяк лоцману кажется осиротевшим. Потух его единственный глаз – притихла бухта. Жизнь маяка замерла на всю зиму. Чтобы скрыть свою кручину, Силыч запасался боевыми припасами, едой, прихватывал с собой старшего сына и уходил на охоту. Была, не была охота, а коротал лоцман зиму в тайге. Так подкралась к нему 19-я зима на маяке. Не ждал Силыч перемены в своей жизни. Готовил на смену сына, чтобы славу отцовскую держал. Редко, но все же о смерти подумывал, приглядывал место для могилы. И вдруг приключилось с Силычем на старости лет небывалое, голова у лоцмана кругом пошла.
Пробыл два месяца в тайге, вернулся на маяк, а тут появились новые люди – все до одного военные. Приходит вчера человек к нему, командир красноармейский, и говорит:
– Ты – лоцман на этом маяке?
– Как видите, – отвечает Силыч.
– Поглядывай за горизонтом, хозяев ждем.
– Чего ждать зимой в море?
– Хозяева на днях прибудут…
Встрепенулся Силыч. Невдомек ему, о ком ведет речь командир. Заинтересовался. Спросил:
– О чем говоришь-то?
Командир улыбнулся, пошутил:
– Зверь в тайге появился, бродит. Предупредить надо, чтобы врасплох не захватил.
– Не пойму, – признался Силыч.
– Газет не читаешь. Следить за газетами надо.
– Правду говоришь, командир. Газеты зимой – редкость. На полгода оторваны от Большой земли.
– Теперь по-другому заживем. Завтра тебе телефон поставят бойцы. Совсем хорошо будет. За горизонтом поглядывай. Что увидишь, звони, Мартьянова спрашивай.
– Мартьянова? – Силыч прищурил черные, как угли, глаза и пристально посмотрел на командира.
– Да, да! Звякай, старина, и проси к телефону Семена Егоровича. Давай лапу…
Мартьянов сдернул перчатку и протянул свою жилистую руку. Силыч не сразу ответил рукопожатием. Он стоял в раскрытых дверях и смотрел на уходящего командира.
Не утерпел Силыч, поделился мыслями со старухой, так он называл жену, уже постаревшую и молчаливую. Весь век мало говорила она с Силычем, больше молчала да рожала ему сыновей. Безропотная, хозяйственная, невзыскательная, так и провела свою жизнь с Силычем на маяке, видела счастье и не видела. Вся отрада у нее – сыновья да муж.
Силыч не посвящал ее в свои дела: «С бабой разве можно совет держать». Но все-таки приходили минуты, когда он запросто перед нею «душу свою выкладывал». Мало скажет жена, но все же обмолвится словечком, а оно, как весеннее солнышко, обласкает сердце, сделает светлее голову.
В молодости Силыч обижался на жену, что не разговорчивая была, а сейчас смирился: «постарела, что со старухи потребуешь». Сыт, обут, в сторожке тепло, сыновья вымахали больше отца с матерью – и требовать Силычу нечего.
…Ночь была бесконечно длинна. Однообразно тикали ходики. Силыч вставал и поддергивал несколько раз цепочку, где вместо груза висели гайки. Он подходил к окну и смотрел на море. «За горизонтом поглядывай, хозяев ждем».
– Что они, хозяева-то, с неба свалятся? – ворчал старик. – Некого ждать с моря зимой.
Отходил от окна. Ложился на деревянную кровать и кряхтел, ворочаясь с боку на бок. Мысли не давали спать. Промучился Силыч до утра, встал спозаранку и растревожил жену:
– Топи печь, гречушные блины заводи.
– К празднику берегла муку.
– Не ворчи, старуха, думы блинами, как червяка в животе, заморить хочу. Измучили они меня.
Утром на маяк пришли красноармейцы с младшим командиром Сигаковым, установили телефон и ввели дежурство. Силыч все еще ничего не понимал. Завязывал разговор с красноармейцами, но бойкий связист отвечал:
– Скоро сами узнаете.
– Я хозяин здесь. Хочу знать, что делается на маяке!
– Приказано лишнего не говорить.
– Хозяева-а нашлись! Ну и делайте все сами, – ворчал лоцман.
Два дня бушевали обида и непокорное самолюбие в Силыче, как непогода в море. Не один раз вызывал Мартьянов лоцмана к телефону.
Дежурный связист объяснял:
– Не идет. Ворчит.
– Арестую, если просмотрит пароходы.
И связист передавал Силычу:
– Арестует, если пароходы просмотришь…
«Много вас, хозяев, на маяке найдется. Хозяйствуйте над тайгой, а в мое корыто нос не суйте», – думал Силыч. Но сообщение о пароходах подкупало сварливого лоцмана: «Как так всю жизнь встречал пароходы, а тут пропущу?»
На третий день Силыч взял бинокль и пошел на берег. Долго вглядывался в горизонт, но голубой простор льда ничего не раскрывал. К полдню небо нахмурилось, как густые большие брови, нависли над морем тучи. Видимость уменьшилась. Привычный глаз Силыча и то еле различил далекий сероватый дымок. К вечеру он мог уже видеть: во льдах пробивался ледокол, а за ним в кильватере шли четыре товарных судна. Куда они путь держали, Силыч не знал, но чтоб провести пароходы по лиману, покрытому льдом, нужно было от лоцмана много осторожности, опыта, памяти и острого зрения. Глаза у Силыча пошаливали и начинали обманывать. Забыв недавнюю обиду, лоцман уже думал о другом: сможет ли он провести суда по лиману? Греха на лоцманскую душу принимать не решался. И он торопливо побежал к маяку. Задыхаясь, бросился к телефону.
– Пароходы отказываюсь вести, глаза ослабли, курса взять не смогу.
– Какого курса? – спросил Мартьянов. – Лоцман, понимаешь ли ты, что говоришь?
– Дайте отставку. Преступления на душу брать не хочу.
– Зажигай маяк и створные огни, понимаешь? – и повесил телефонную трубку.
Долго Силыч кричал в трубку, что он хозяин здесь и командовать собой не позволит. Телефон молчал. Это было гораздо внушительнее, чем повелительный тон Мартьянова. Силыч бросил трубку.
– Товарищ, аккуратнее обращайтесь. При таком ударе печенки у телефона отшибете…
– Указчик нашелся. Хозяева-а!
Силыч выругался и выбежал из дежурки.
Было уже темно. Далекие просторы лимана исчезли. Море погрузилось во тьму. От маяка в направлении к мигающим огням пароходов тянулась грива подводных рифов. Что будет, если ледокол сядет тяжелым корпусом на острия подводного камня? «Не мешай, капитан, дело мое сурьезное. Как на мель судно сядет или бок проткнет о камень, кто отвечает? Лоцман Петр Силыч ответ держать будет…»
– О-о, мать честная!..
И желтые косяки света разрезали темно-синюю даль лимана. Силыч зажег маяк. Опасения лоцмана были напрасны. Пароходы не пришлась вести по лиману. В тайге, в распадках долго перекатывались отрывисто-короткие гудки, наполняя ночь сиплыми звуками. Пароходы вошли в бухту и отдали якоря.
ГЛАВА ВТОРАЯМартьянов готовился принять официальный рапорт от заместителя, ругнуть за опоздание, но все повернулось по-иному. Он только выслушал короткий и деловой рассказ Шаева о жизни экипажа. Поднявшись на борт парохода, командир встретился с помполитом. Шаев, невысокий, толстоватый в бекеше, вышел ему навстречу из каюты, покачиваясь, схватил пухлыми пальцами его руку, крепко сжал и потряс.
– Заждались пароходов! – начал Мартьянов.
– Хватили горя в пути. Впрочем, кто горя не видал, тот и счастья не знает, – Шаев добродушно рассмеялся.
Они стали спускаться с парохода вниз, на лед. Там их ожидал автомобиль. Круглов почтительно поздоровался с комиссаром, взяв аккуратно под козырек, и быстро открыл дверцу. Командиры сели, и автомобиль покатил по бухте, поднимая за собой снежную пыль.
– Сейчас смешно, – рассказывал Шаев, – а в море не до смеху было. Я понимаю теперь, как это происходило. Когда производилась погрузка пароходов, в воротах Владивостокского порта остановили японского консула. Хотел попасть на пристань. Задержали и вежливо предупредили: «Сюда нельзя въезжать на машине». «Я прогуляюсь пешком», – ответил. «Место-то неинтересное для прогулки: нефть, дым, шум», – говорили ему. «Я люблю наслаждаться портовым пейзажем». Ему вежливо предложили любоваться бухтой с Ласточкиного гнезда. Обиделся, но уехал восвояси… А часа через два, когда грузили ящики с «леспромхозовским инструментом», – Шаев лукаво подмигнул, – в тупик, где шла погрузка, загнали состав порожняка и задним вагоном разбили несколько ящиков. Из них вывалились винтовки, ручные пулеметы, диски… Поднялся переполох. Там же стояли снарядные ящики, мог произойти взрыв…
– С расчетом действовали, – поспешил вставить Мартьянов.
– Вот именно. Красноармейцы бросились к этому месту и закрыли его своими телами. В это время с площадки одного вагона спрыгнул подозрительный человек. Красноармейцы задержали. Оказался японским подданным, служил в консульстве. «Значит, пронюхали, – подумал я, – будет дело. Это только цветочки, а ягодки впереди». И получилось так, как подумал, но случилось это уже не в порту, а когда пароходы были в море…
Автомобиль на подъеме забуксовал. Круглов выскочил, повертелся около машины и побежал вниз за песком. Шаев предложил пройтись. Подниматься на берег было скользко и трудно. Помполит расстегнул бекешу, сдвинул на голове шлем, подставив ветру крутой, высокий лоб.
– На пароходе разучился ходить. – Он остановился, повернулся и посмотрел на бухту.
С высокого берега вид резко менялся. Пароходы, стоящие в отдалении, казались маленькими. Отчетливо обозначились берега с множеством закрытых заливов.
– Удобная бухта.
– Замечательный порт будет.
Слева перед ними протянулась горная цепь, уходившая на запад. За ней еще выше громоздилась другая, третья… Когда командиры поднялись на крутизну, перед Шаевым раскрылась вся местность с резко изрезанным рельефом. Он увидел постройки, раскинувшиеся на склоне, спросил:
– Поселок?
– Наш город, – с гордостью ответил Мартьянов.
– Не вижу.
– Будет.
– А-а, будет… Понятно… – Шаев усмехнулся.
Замолчали. Их догнал автомобиль, но командиры не сели в машину. Шаев продолжал начатый разговор.
– Идут пароходы в море сутки, другие. Спокойно. Вдруг дежурный командир взвода Аксанов вбегает в каюту и докладывает, что замечена странная полоска на воде. Я поднялся на капитанский мостик и увидел: за нами шла подводная лодка. Эге, значит, следят. Чего только не передумал! На всякий случай – всех в трюм. Палуба чиста, никаких подозрений. Промелькнула мысль о Цусиме. Коварный враг, все сделает. А лодка приостановится, покажет перископ и опять за нами, как тень, следует. Что делать? Приказываю капитану в бухту зайти. Зашли. Простояли два дня. Тронулись дальше. Лодки нет, значит, только следила.
Мартьянов слушал внимательно быстрый говорок помполита и наблюдал за ним, как бы изучал, стараясь глубже понять его. Шаев, высоко поднимая ноги и покачиваясь, шел частым шагом. «И верно, после парохода нет твердости в ногах», – отметил Мартьянов. Помполит расстегнул бекешу и придерживал ее полы руками, заложенными в крест на поясницу, чтобы свободнее шагать. Он учащенно дышал.
– Тяжеловато?
– Одышка. Похожу больше – пройдет..
Мартьянову понравился ответ. Он сам любил держать «телеса под нагрузкой», как выражался часто, и уважал это стремление в других.
Шаев передохнул:
– Даем полный вперед. Начались льды гуще и гуще. Потом совсем – стоп. В дрейф попали. Что за день пройдем, за ночь потеряем – назад отнесет. Шлю радиограмму за радиограммой то в штаб ОКДВА, то во Владивосток: «Высылайте ледокол на помощь». А ледокол у черта на куличках. К берегам Камчатки загнали. Капитан – в тревоге. Что ни день, то лицо его тусклее. «Относит, говорит, нас к берегам Японии». Каково! Сами в лапы к зверю ползем.
Мартьянов поймал себя на мысли, что они с Гейнаровым не представляли, сколь сложна была обстановка, лишь опасались за Шаева: мол, наделает им лишних хлопот. Не умея хитрить, по простоте своей, он признался:
– Дела-то сложнее были, чем мы представляли по радиограммам.
– В радиограммах всего не скажешь, да и нельзя было, – отозвался Шаев, полуобернув голову и пристально посмотрел на Мартьянова прищуренными глазами.
– Ледокол задержал, выходит?
– Ледокол. О нем ни слуху ни духу… Пресная вода выходит. Сократили ее употребление. Норму ввели: по литру на человека, по два – на животину. Мало. Проходит еще несколько суток. Норму воды снизили до стакана. Начали дохнуть лошади. Одну, другую, третью… за борт спустили. Дело швах, а дрейф продолжается. Берега сначала были синие, потом побурели, стали почти рядом. Уже виднелись какие-то строения на берегу, лес. Среди красноармейцев разговоры пошли. Шило в мешке не утаишь. Собрал коммунистов и комсомольцев в кают-компанию, объясняю истинное положение. Говорю, ждем «Добрыню Никитича». Заметили дым на горизонте. Дымит, значит, ледокол идет. Опасность к японцам попасть миновала, а воды нет. «Добрыня Никитич» тоже без запаса пришел. Капитан предлагает идти обратно в Советскую гавань, я – вперед. Решаем идти дальше, к берегам своего Сахалина. У Александровского рудника организовали доставку воды. Как, спрашиваешь? Хитро придумали. Проложили узкоколейку от рудника до парохода и вагонетками возили. Набрали воды – ожили, а потом прямым курсом сюда. Вот так и опоздание набежало…
Шаев замолчал.
– Спасибо тебе! – растроганный рассказом Мартьянов потянулся к его руке и крепко сжал ее своими твердыми и длинными пальцами.
Подошли к городку.
– Знакомься да включайся в стройку. Вон как размахнулись, – вскинув голову, командир блеснул глазами.
– Вижу, – улыбнувшись, гордо ответил Шаев, – вижу, товарищ Мартьянов!
ГЛАВА ТРЕТЬЯБлекли звезды, занималась заря. Смолкли лебедки, и в бухте стало совсем тихо. Тоненькой лентой струился пар и дым из полосатых коротких труб пароходов. Звуки склянок в утреннем воздухе гудели плавно и долго. Бригады кончали работу. Пароходы были разгружены досрочно.
Утомленным возвращался Шехман с напряженного дежурства. Теперь все было похоже на сновидение. От свежести утра, его тишины острее ощущалась усталость. Дальние сопки подернулись красноватой позолотой. Вставало солнце. И казалось, все излучало свет. Первой закончила разгрузку бригада Сигакова. «Напористый младший командир, распорядительный и настойчивый. У него сказано – сделана».
Шехман возвратился в командирскую палатку еще до подъема. Подбросил в печку дров, разделся, чтобы прилечь до сигнала дежурного, а потом сходить в столовую.
На койке зашевелился Шафранович, приподнялся на локтях. Он достал из-под подушки папиросы и закурил. Шехман протянул руку к его коробке.
– Пожалуйста! – вежливо пригласил инженер. – Устали после дежурства? Изнурительно не спать ночь. У вас подтянуло щеки.
– Трудно – легко не бывает. Отдохну и опять как свежий огурчик…
– А я вот не сплю… Бессонница! Измотаешься за день, переутомишься – нет сна.
– Время сейчас суровое, что делать-то?..
– Видим мы только работу, отдыха нет, – пожаловался Шафранович.
– Рано думать об отдыхе, Давид Соломонович, – подчеркнул Шехман, – еще ничего не сделано.
– Борис, вы говорите не то, что думаете.
Они замолчали. Шафранович первый прервал молчание.
– Рабо-ота! – растягивая, начал он. – Работа-ать хорошо, но для жизни человека этого мало…
– Что же еще нужно? – зевая, спросил Шехман.
– Личная жизнь забыта, Борис, личная…
– А работа разве исключает личное?
– Рабо-ота? – опять протянул Шафранович. – Она высушивает личное. Работа – определение физики. Она требует затраты энергии, большой затраты! Вот вы с дежурства устали, думаете лечь поспать, чтобы снова тратить энергию… Подождите, не перебивайте. Это не грубо. Беда наша в том, что мы не научились еще правильно распределять энергию и ее тратить. Все отдаем работе и мало – личному. Жизнь наша не принадлежит нам: ею будет пользоваться будущее поколение…
– Это не ново. Об этом хорошо сказал Горький. Ну, дальше?..
– Наша заслуга в том, что мы закладываем фундамент, как любит говорить Мартьянов.
– Дальше! – нетерпеливо сказал Шехман. – Сытый голодного не разумеет. Я только с дежурства…
– Послушайте, – попросил Шафранович, – мы чернорабочие в жизни, мы жертвуем свое личное. Наше поколение – жертвенное поколение…
– Вон куда гнешь! – Шехман приподнялся на локтях и горячо заговорил: – В этом вся красота, Шафранович, вся прелесть!
– Да, быть может, да! Это нужно! Я понимаю, а мириться все-таки трудно. Человек живет один раз; вторую жизнь ему природа не даст.
У Шехмана отогнало сон.
– И не надо!
– Зачем же так тратить жизнь?
– Это эгоизм! – вскипел Шехман.
– Я-это знаю и не скрываю. Разве я не прав? Неужели никого больше не грызет этот же червяк? Он грызет, только все отмахиваются от него, обманывают себя, напускают равнодушие, – Давид Соломонович поднялся с нар, потушил папироску и, приоткрыв дверку печки, бросил окурок в пламя. Сидя на корточках, он продолжал: – Но ничего – время камни точит. Настанет минута, когда люди пожалеют о своей жизни. Захочешь личного и ты больше, чем я. Я его видел. Но оно уйдет. Как обидно будет сознавать это!
– Вы простудитесь и заболеете, – Шехман посмотрел на удивленного инженера и после продолжительной паузы с издевкой добавил: – и умрете. Дорожите своим личным…
– Вы невозможный человек, Борис.
– Я? Нет, возможный! Вся короткая моя жизнь прожита недаром.
– От этого не сделается краше старость. Не понимаешь? Не притворяйся, боишься признаться, – и с волнением продолжал: – Я хочу сказать: жить надо по-настоящему. Работа не волк, в лес не убежит, а жизнь уходит, ее не удержишь.
– Ну-у? – сердито сдвинул брови Шехман.
– Личное должно быть у каждого из нас.
– У меня личное – общее. Мое личное все, что видят глаза и делают руки здесь, в тайге, Шафранович.
– Политика, Борис, политика! Мы вот и говорить просто разучились. Говорим больше лозунгами да приветствиями. Все это хорошо было в первые годы советской власти, а сейчас уже не годится. Другие времена, другие запросы. Теперь изнутри человека надо видеть, а не снаружи.
– Согласен, – прищурил глаза Шехман.
– Об этом я и говорю. Если уже затронули Горького, то он часто говорил: «Человек – это звучит гордо». Значит, прислушивайся к человеку; его звучание – его личное. Я ведь понимаю нашу неизбежность отдаваться работе, кипеть, сгорать на ней. Эпоха наша переходная, классовые бои, интервенции, шпионаж, диверсии… Это требует напряжения. Но все это, пойми, – политика и лозунги! Я разве об этом толкую? Я говорю о внимании к человеку.
– Вы простудитесь и можете преждевременно расстаться со своей жизнью. – Шехман рассмеялся.
Шафранович сел на нары и стал обуваться.
– Это не софистика и не любовь к пустоцветному разговору, а мысли…
– Плохие мысли, затхлые, Давид Соломонович.
– Мысли о личном праве человека на жизнь, Борис.
Шехман порывисто поднялся с койки, накинул полушубок и молча вышел из палатки. Шафрановича охватило чувство смущения и злобы. Он ничего не ответил на грубость Шехмана. Он только повторил про себя: «Время камни точит».
Горнист протрубил подъем. Сначала у дальних палаток, потом ближе и, наконец, словно нарочно, остановился напротив, долго и назойливо играл одни и те же пронзительные ноты. Шафранович оделся. Торопливо закончил свой туалет и пошел завтракать. При входе в столовую начсостава он столкнулся с Шехманом. Инженер постоял мгновенье, криво посмотрел на усталую походку Шехмана и с горечью произнес:
– Молод, вот и горяч! Побольше поживет – остынет.
* * *
На вечерней поверке объявили приказ. Дежурный по гарнизону комроты Крюков выстроил красноармейцев в две шеренги, а сам стал посредине; правый и левый фланг окутала темнота. Около дежурного с фонарем «летучая мышь» вертелся писарь. Был объявлен перекур. Комроты Крюков не видел лиц, а лишь огоньки папирос, вырисовывающиеся цепочкой огненных точек, то вспыхивающих, то затухающих.
Обычно старшины проводили проверку по подразделениям и шли докладывать дежурному по гарнизону в штабную палатку. Но сегодня был особый приказ, и поэтому зачитывали его перед строем в присутствии командиров подразделений.
– Равня-айсь! – раздалась команда.
Огненная цепочка погасла, стало стихать покашливание.
– Смирно-о!
Комроты Крюков медленно, растягивая слова, начал:
– Объявляю приказ по гарнизону, – и, наклонившись к писарю, добавил:
– Посвети, ничего не видно…
Вытянутая рука подняла фонарь выше.
– …За досрочное выполнение задания командования по разгрузке пароходов объявляю благодарность перед строем командиру батареи товарищу Шехману…
Шехман сделал три шага вперед, повернулся лицом к строю и взял под козырек.
– …Младшему командиру товарищу Сигакову и бойцам его отделения, – повышая голос, читал Крюков. Из строя один за другим выходили красноармейцы. Скрипел снег под валенками, когда они повертывались. И снова слышался голос комроты:
– …Особо отмечаю геройский поступок шофера товарища Круглова, спасшего груз и машину. Объявляю ему благодарность перед строем и награждаю именной мелкокалиберной винтовкой…
Фонарь опустился вниз. Наступила пауза. Потом раздалась команда: «Вольно-о!» И сразу же над строем всплыл оживленный человеческий говор. Стали расспрашивать о Круглове. Многие еще не знали, что произошло за короткий зимний день в гарнизоне, и узнали это только из приказа.
– Можно разойтись!
Огонек фонаря, покачиваясь, стал удаляться. Красноармейцы расходились по своим палаткам.
Разговоры долго не смолкали.
Лепехин был озадачен приказом на Круглова. «Где же тут героизм? – спрашивал он себя. – Доведись до меня – и я так сделаю. Конечно, надо спасать машину, надо спасать груз. Не стоять же на льду, сложа руки, и смотреть, как тонет машина с грузом?»
– Хэ-э! – вздыхал он и, не то спрашивая, не то восклицая, добавлял: – Каково?! Героический поступок!
По дороге в палатку Лепехин встретил Мыларчика.
Они остановились.
– Я с ним в одной палатке живу. Парень с виду ничего особенного. Только специалист, технику свою знает. Всю ночь про мотор будет говорить. И вот на…
– Я видел, как он спасал. Смело-о! – сказал Мыларчик. – Ехал я с ним. Вдруг как хлобыстнусь головой об ящик. Машина враз остановилась. В чем дело? Спрыгнул на лед. Саженях в двадцати передняя машина в воду ухнула. Выскочил Круглов и кричит: «Что зыришь, машина тонет. Живей выгружать!» Лед кругом так и трещит, а Круглов бросился в воду, залез на машину и давай ящики сбрасывать. «Оттаскивай, – кричит, – не давай тонуть!» Вмиг ящики растащили. А лед все трещит. Машина по ось села. Тот шофер до смерти перепугался. Стоит ни жив ни мертв. Круглов прыгнул в кабинку и как загазует. Саженей пятьдесят льду проломал, а выдернул машину. Когда понагрузили ящики, Круглов и спрашивает другого шофера: «Трухнул?». «Ага», – отвечает тот. «Никогда, – говорит, – не теряйся: смелость города берет». Сел в машину и айда!
– Все?
– Нет, не все! Ты вот скажи мне, почему это сделал Круглов, а не другой шофер?
– Характер у него такой.
Они замолчали. Мимо проходил Шаев. Он почти наткнулся на них:
– Что стоите? Отбой слышали? Спать пора. – И Шаев скрылся в темноте.