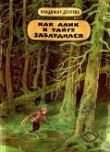Текст книги "Гарнизон в тайге"
Автор книги: Александр Шмаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)
Дорога была сжата горами. Она уходила в глубь тайги. Тихо дремали ели, пряча вершины в облачном небе. Торчали из-под снега пни и серые камни. Таежное молчание нарушала речушка Сомон. Она то сердилась и ворчала, выбиваясь из-под снега, то снова пряталась под его теплым покровом. Красноармейцы заглядывали в речушку, поправляли сползавшие с плеч винтовки, вытирали вспотевшие лица. Чистые воды Сомона распаляли жажду.
На западе пылала вечерняя заря. Темно-синие склоны гор побагровели и ожили, потревоженные ветром. Лес зашумел. Лохматые ели, кряхтя, покачивались морщинистыми стволами, покрытыми седым мхом и лишайниками. С треском отломилась сухая ветка, одна, другая. Тайга постепенно наполнялась потрескиванием и скрипом.
Отряд шел молча. За ним тяжело двигался обоз. Лошади брели в снегу и поминутно останавливались. Ездовые все громче и громче покрикивали на фыркающих лошадей.
– Расфыркались к непогоде.
Круглов ехал один в кошеве. Мартьянов в коротком дубленом полушубке шел на лыжах. Он был обут в ичиги, и ноги его казались тоньше и длиннее. Полевая сумка била по боку. Он то и дело отбрасывал ее назад. Незаметно Мартьянов уходил от отряда все дальше и дальше. Заметив это, он, останавливаясь, поджидал колонну. Мартьянов видел уставшие, раскрасневшиеся лица бойцов. Ему приходилось все чаще объявлять привалы.
Обеспокоенный Поджарый предупреждал красноармейцев:
– Воду не пить…
Красноармейцы собирались группами на привале. Пулеметчик Харитонов выкрикивал:
– Лепехина сюда!
Юркий Лепехин весело запевал:
Вот Малеев, он вороной
Настоящей стал у нас:
У Сомона на привале
Позабыл противогаз.
Приплясывая, он обегал круг, задорно откинув голову.
– Самокритикнул, – замечал голос.
– Полезно-о. Шутка – минутка, а заряжает на час.
Рядом журчала речушка. Испить бы один глоток – и жажда утолена. Но красноармейцы отворачивались, неистово били в ладоши и дружно, как бы глотая воду, глухими голосами вторили:
– Ас-са! Ас-са!
Лепехин, то пригибаясь, то выпрямляясь, раскинув руки крыльями, плясал «лезгинку».
Мартьянов подходил к красноармейцам.
– Товарищ командир, в круг…
Он отмахивался, но младший командир Сигаков уже протягивал ему гармошку.
– Походную…
Мартьянов брал гармошку, широко растягивал меха. Аккорды были сочны и звучны. Боец без песни, что без ружья.
Заметно выделялся заливистый тенорок Лепехина. Первые слова песни усиливали дыхание гармошки. Песню дружно подхватывали.
Нас побить, побить хотели-и,
Побить собиралися-а-а…
Лепехин отходил в сторону, садился под ветвистую ель к пулеметчику Харитонову.
– Люблю тайгу. В деревне вырос я, а деревни сибирские по рекам да лесам ютятся. Привычка – вторая натура человека, – Лепехин задумался. – В народе я вырос, а народ, знаешь, любит песню, тоже привычка. Особенно хорошо поется вечером, вот как сейчас.
Лепехин умолк, прислушался к песне, она становилась все громче, а потом, заломив шлем набекрень, откинув винтовку, начал декламировать:
Бесшумною разведкою
тиха нога,
За камнем
и за веткою
найдем врага…
Раз,
два!
Все
в ряд,
Впе-ред,
отряд!
– Ты сам сочиняешь или готовые рассказываешь? – спросил его стоящий в стороне красноармеец.
– Слушай, не перебивай, это товарищ Маяковский сочинил, – проговорил сосед.
Когда война-метелица
Начнет опять,
Должны уметь мы целиться,
Уметь стрелять.
– Должно, Маяковский в Красной Армии служил, здо-орово написал…
– У каждого человека свое, – заметил Лепехин.
– Они про Маяковского – ты про песни, – отозвался Харитонов.
– Про песни, – подтвердил Лепехин. – Народ без песни не живет. Песня, знаешь, с жизнью срослась. Пришлось мне быть в Казахстане. Казахи там живут. Вот народ – всегда поют, и в горе и в радости…
А красноармейская песня, вспугнув птиц, все нарастала и нарастала. Стаи ворон и сорок поднялись над тайгой и кружились над отрядом.
– И вот, значит, в ту минуточку тихо було. Где, кто шевельнулся бы, нема, – рассказывал Поджарый. Красноармейцы любили слушать булькающую речь старшины.
– Сижу это я на бережку, только глянул на воду, – ба-а, плыветь кто-то! Сумерки таки, что трудно опознать: мабуть зверь який, мабуть человек. Думаю, дай подпущу чуток ближе. Вскинул винтовочку, да як гаркну: «Кто плыветь?..» Я ж думал, это бисов сын, а мне как хрюкнет в ответ. Ба-а! Бисова дочь, это ж чуха плыветь пудов на двадцать…
Взрыв смеха заглушил последние слова Поджарого.
– Вот угадай наперед. Плюнул я, знать сорочки на мене не було, когда матка рожала…
Слышалась команда Мартьянова. Отряд поднимался и шел дальше. Нарушая ритм песни, красноармейцы все еще продолжали петь. Мартьянов любил песни, когда они пелись сильно, мощно. Весело поется – бодро идется. И слышалась команда:
– Отставить петь.
Спускалась ночь. Она надвигалась с востока и была уже близка. На западе поблекли яркие краски. Небосклон был объят бледно-розовыми облаками, и чем выше они поднимались к зениту, тем становились темнее и зловещее. Все медленнее и тяжелее шли бойцы по засугробленной дороге. Позади отряда шагал Поджарый. Он часто вытирал рукой потное лицо и подбадривал красноармейцев.
– Успевай, хлопцы, успевай!
– Далеко еще?
– Идти до той горки, за якую солнце пало.
– Плечи режет. Отдохнуть бы…
– Полпути прошагали, хлопцы, – уверял Поджарый, сам не зная, сколько еще идти, – теперь скоро. Мыларчик, не тянись!
Лепехин, шедший в центре отряда, слышал, как от головы колонны доносилось: «Не растягивайся!» – и передавал по цепочке:
– Подтя-ни-ись!
Позади слышалось:
– Отстал.
Лепехин узнавал, кто отстал, сходил с дороги, давал пройти вперед другим.
– Ты чего? Давай подружку, – брал у товарища винтовку, забрасывал ее за спину и добавлял: – Иди вперед, – и шел за ним.
В стороне стоял Сигаков и спрашивал:
– Кто отстал?
– Нет отстающих, – отвечал Лепехин. К нему подходил младший командир, брал вещевой мешок, подсумки, набитые патронами.
– Ну вот, теперь легче будет. Расстегни крючок шинели, выше подоткни полы, – советовал и уходил.
Был еще привал. Политрук Макаров, он же отсекр партбюро, созвал коммунистов и комсомольцев, но его окружили и другие бойцы.
– Последний день перехода, – говорил он. – Еще одно усилие – и мы у цели. Вы знаете, что значит завершить марш без одного отстающего? Это значит на отлично выполнить приказ Блюхера. Наш переход – дело чести и славы. Таких переходов еще не было в истории нашей армии…
Бойцы молчали. Они слушали Макарова и нарастающий шум тайги. Порывы ветра были предвестниками пурги. Пурга началась, как только спустилась ночь. Колючий снег бил в лицо откуда-то сверху и засыпал дорогу.
Мартьянов шел в голове колонны. Ноги его плохо нащупывали дорогу. Он сбивался в сторону, проваливался в снег, опять нащупывал твердую корку дороги, шел вперед и вскоре снова сбивался в сторону.
Отряд продвигался с большим трудом. Красноармейцы втягивали головы, наклоняли их вперед. Так лучше было защищать лицо от ударов снежного вихря. Бойцы затрачивали громадные усилия, чтобы передвинуть отяжелевшие ноги, но шли.
Мыларчик запнулся и упал. Его подняли слова Макарова: «Впишем героическую страницу… Впишем… Впишем». И Мыларчик шел дальше, не видя соседа впереди и сзади, будто был один среди воя тайги, в этом снежном месиве, залепляющем лицо.. Удары ветра иногда были так сильны, что его качало. Мыларчик боролся с пургой, с усталостью, твердя: «Впишем… Впишем…» Это была команда. Ее подавал внутренний голос. Команда вливала силы, и боец шел.
Около Мартьянова пыхтел Гейнаров и беспрестанно докладывал:
– Отстающих нет, но люди устали.
– Привал делать нельзя: присядет боец и не найдешь, заметет снегом. Идти, понимаешь, идти…
И отряд продвигался вперед. Мартьянова нагнал Сигаков..
– Товарищ командир, разрешите прокладывать лыжню…
Мартьянов по голосу узнал младшего командира. Он пригляделся и различил за спиной Сигакова три винтовки.
– Тебе и так тяжело.
– Ничего-о! Далеко до бивуака?
– Километров десять… Отстающие есть?
– Пока нет, – отозвался Сигаков и подумал: «Чтобы не было отстающих, надо разгрузить пулеметчиков». Он задержался и обратился к первому красноармейцу:
– Давай помогу.
Красноармеец устало отвел руку:
– Пулемет носит пулеметчик. – Голос был глуховатый, но твердый.
– Харитонов! – выкрикнул младший командир.
– Я Харитонов!
Сигаков не видел его лица, но знал, что оно сейчас гордое и строгое; таким был Харитонов во все дни перехода. Командир хлопнул бойца по плечу, выражая свою радость. Они с минуту шли молча, нога в ногу. Патом Сигаков обогнал Харитонова и скрылся во мгле.
Над лесом все сильнее бушевал ветер, потрескивали сучья. Казалось, ветер падал с высоты ночного неба невидимым грузом, беспощадно хлестал идущих и сбивал их с дороги.
От бойца к бойцу передавались слова Мартьянова:
– Свя-азь!..
– Держа-ать!..
– Голос-о-ом!..
Человеческие выкрики смешивались со стоном леса. Раздавался оглушительный треск. Еще такой удар ветра, и лес, как срубленный, казалось, грохнется на землю. Мартьянов знал: сейчас самый опасный момент, потеряй связь с соседом, сбейся в сторону и погибнешь в тайге – завалит, занесет снегом.
И опять по цепочке слышалась его команда:
– Свя-азь!..
– Держа-ать!..
В эту секунду налетел мощный порыв ветра. Волна шума прокатилась по тайге. А за ней раздался новый удар, сильный, как шквал. Ломая сучья, упало несколько деревьев.
Поджарый зло ворчал:
– Откуда этакая напасть!
В этот момент до старшины донесся крик ездового Жаликова. Кони его вязли в снегу, валились набок. И когда об этом передали Мартьянову, он выделил группу бойцов на помощь обозу. Люди помогали поднимать лошадей, перетаскивали грузы, тянули сани. Это были самые напряженные минуты. Темнота, глубокий снег, пурга, оглушающий, рев и стон тайги словно испытывали мартьяновокий отряд.
Взошла луна. Ее свет лишь разжижил густую, жирную темноту. Все стало серо-молочным. Идущие бойцы походили на движущиеся силуэты.
Лепехин почти задыхался. С каждым шагом идти становилось труднее. Ремни двух винтовок перерезали плечи, и больно ныли отекшие руки. Казалось, еще несколько шагов – упадешь в снег и не встанешь. Это была крайняя степень утомления, почти бессилия. И Лепехин пытался отвлечь себя, думать о другом, чтобы меньше чувствовать боль и усталость.
Он слышал возгласы товарищей, различал стук винтовок и рев тайги, но все это воспринималось им безразлично. Он передавал команду по цепочке и передвигал ноги потому, что ее передавали другие бойцы и шагали впереди и сзади него. В таком состоянии человеку легче идти вперед, чем остановиться или сделать какие-то иные движения: повернуться, снять винтовку или мешок, достать из него хлеб, чтобы подкрепиться.
Так шел каждый из бойцов отряда, затерявшегося в тайге и пурге, одолевая каждый шаг с большим трудом.
А над отрядом неистово бушевала стихия.
Мысль неотступна: «Вперед, только вперед!». Мартьянов воспитал свой характер на преодолении трудностей. Он чувствовал, что рядом с ним шагает начальник штаба, и ему самому становилось легче от этого. Прибавлялись силы. Единственное, что беспокоило командира – есть ли отстающие, и он спрашивал об этом Гейнарова.
– Нет! Отряд подтянулся, – глухо доносился ответ.
И, преодолевая сопротивление пурги, медленно, тяжело отвоевывая каждый шаг, Мартьянов шел вперед, а за ним, борясь с неистовством природы и ночи, шагал отряд…
ГЛАВА СЕДЬМАЯКругом дремала тайга. На востоке брезжил слабый рассвет: По небу плыли разорванные тучи. Они низко нависли над тайгой. Все еще не верилось, что пурга кончилась. Деревья, измученные ветром, отдыхали. Отряд, запорошенный снегом, спал. В козлах были расставлены винтовки, лыжи, лыжные палки, аккуратно сложена амуниция.
Дымили костры, утонувшие в глубоком снегу. Фиолетовыми лентами кверху поднимался едучий дымок. Дневальные, низко склонив тяжелые головы, боролись со сном, хотя утренний мороз щипал лица. Сигаков пытался считать до ста, но сбивался, как только переходил на шестой десяток. Веки смыкались, и сразу же голова падала вниз, и тело вместе с нею летело в бездну. Младший командир вскидывал голову. Не дремать! И снова начинал считать: «Раз, два, три… двадцать… сорок пять…» Сигаков старался шире раскрыть мутные глаза, но проходила еще минута, и веки опять смыкались. Тогда он вскакивал и начинал приплясывать. Он смотрел на соседние костры и видел, как Лепехин, назначенный дневальным, ходил среди бойцов. Сигаков тоже начинал обходить бойцов и смотрел на спящих. Сон отступал, как темень ночи перед утром, хотя голова была тяжела, как гиря, и тело охвачено ноющей усталостью.
Между козлами и кострами, словно на болоте кочки, расположилось по пять-шесть человек: кто сидя, кто полулежа, навалившись на плечо или спину товарища, засунув руки в карманы или в рукава полушубков, застегнув наглухо шлемы, намотав вокруг шеи шарфы, спрятав ноги в меховые мешки. Измученные бойцы спали. Одни из них были совсем неподвижны; другие взмахивали руками, даже во сне продолжая марш; третьи невнятно бормотали.
– Не замерз? – тормоша Харитонова, спрашивал Сигаков. – А то погрейся у костра.
Пулеметчик невнятно бормотал, повертывался на другой бок, поджимал под себя ноги, и Сигаков слышал, как он богатырски храпел. Так бы и прикорнул рядом, обнял его и крепко заснул. Нельзя! И младший командир ходил у костра, подбрасывал ветки в огонь. Посидит, поглядит, как пламя сначала лизнет голубоватым огоньком мох, потом ярко-красными жилками вспыхнет смола, лопнет кора и выбросит вверх сноп звездочек, потом встанет и снова начнет обходить спящих бойцов…
Мартьянов тоже не спал. Он не мог спать. Тело его ныло от усталости. «Еще час не больше и все пройдет. На рассвете сильно клонит ко сну. Только бы не было ознобившихся бойцов. Переход закончили хорошо, и вдруг кто-нибудь из спящих промерзнет, скоробит у огня полушубок, сожжет спальный мешок».
Каждые пятнадцать-двадцать минут командир обходил раскинувшийся в тайге отряд, осматривал красноармейцев, будил спящих. Он останавливался почти против каждого.
– Это связист мой. Умаялся, – Мартьянов наклонялся над Мыларчиком, трогал его за плечи.
– Не застыл?
– А-а?.. – отзывался боец и сквозь сон выкрикивал что-то невнятное. Мартьянов поправлял воротник его полушубка, подтягивал спальный мешок.
Он перешагнул через Мыларчика. Мартьянов сделал еще шаг вперед, остановился около скорчившегося красноармейца. Он узнал в нем Воронина – весельчака и плясуна.
– Погрейся, застыл, небось. Ноги-то свои талантливые отморозишь, понимаешь, – смеясь, говорил он. Воронин сонными глазами обводил командира, вставал и, покачиваясь, шел к костру.
Так Мартьянов, переходил от одного к другому. Каждому находил свое слово, как заботливый отец. Невольно каждый из них напоминал ему родного сына. У костра он шутил с младшим командиром:
– Клюешь, Сигаков?
– Клевал, товарищ командир.
– Как же избавился, расскажи.
– Вначале считал до ста – не получалось. Стал ходить – сон отшибло.
– У меня тоже наклевало, теперь можно уху варить… Никого не заморозил?
– Подогреваю.
– Подогревай, подогревай, чтобы тепло было, – Мартьянов задушевно смеялся. – Но что-то холодновато около тебя? – и возвращался к своему костру.
Полушубок командира, промокший от пота, теперь промерз и шуршал. Мороз покалывал спину, как иголками. И Мартьянов, сидевший у костра лицом к огню, глотая едкий дым, повертывался и отогревал спину.
Напротив устроился Гейнаров и, широко раскрывая рот, зевал. Он вытянул ноги к огню и постукивал ими. Подошвы сырых валенок чуть пожелтели. От них струился пар и дымок, распространяя запах пригорелой шерсти.
– Горишь, Михаил Павлыч.
– И впрямь душок пошел, – отдернул ноги Гейнаров и, зевнув, добавил: – Светает.
– Светает, – Мартьянов раскинул в стороны руки. – Ну, переход закончили… Понимаешь, и легче мне. Трудное начало сделано.
– Благополучно. Без отстающих. Это первый самый большой переход. Были на 500 километров. Да, хорошо прошли, – голос Гейнарова, хотя и усталый, зазвучал бодрее. – А теперь почти 1000 отшагали.
Мартьянов оживился:
– Кто в тайге километры считал. Расстояние от стойбища до стойбища на глазок определялось, да и то на версты, версты на сажень. Сажень же, сам знаешь, опять по человеку, – он чуть присел, – вот такая бывает… – снова поднялся, – и эдакая… Разве саженью нашу землю измеришь?
Мартьянов замолчал. Гейнаров стал насвистывать под нос.
– Переход суворовский. А пурга? Какая пурга была, Михаил Павлыч!
– Пургу не предусматривал даже Клаузевиц. Он восхищался быстрыми переходами Фридриха Великого в семилетнюю войну Пруссии с Австрией. Я хотел бы слышать его голос о нашем марше. В отдельные дни мы отмеривали 80—90 километров. Я тоже скажу, пруссаки неплохо шли, но как ни хорошо шагали, а за нами, русскими, им не угнаться. Наши бойцы Шли с полной выкладкой. За 13 дней пройдено почти 1000 километров! Клаузевиц от этой цифры в гробу перевернется…
Мартьянов слушал рассеянно. Он слабо знал военную историю, хотя Гейнаров упорно и настойчиво просвещал его. Командир разбирался в ней плохо. Он думал сейчас тоже о расстоянии, которое прошел отряд, но по-своему, просто, без сравнений. Последние слова заставили его встрепенуться.
– Масштабу карты тоже верить нельзя, – сказал он, – карта при царе Горохе составлялась. Здесь нет никакой синей извилины на бумаге, а в действительности – речка. Я так думаю, Михаил Павлыч, сегодня радиограмму пошлем в ОКДВА и без ошибки заверим Блюхера: 900 километров позади…
– Можно! – отозвался Гейнаров и продолжал высказывать свою мысль: – Когда Наполеон шел на Москву, он растерял около ста тысяч солдат, это без битв, только в переходе. А у нас не потерян ни один боец. Нет ни одного помороженного.
Начальник штаба вздохнул.
– Наши битвы впереди. Они начнутся сегодня. Вот тут бы не растерять бойцов, Семен Егорович.
Гейнаров замолчал. Он подумал: «Что идти? Ноги втянулись – шагай да шагай. Вот строить – это другое дело! На стройке необходим навык, а его нет».
Как развернется строительный фронт, он ясно не представлял, хотя первоначальные планы и наметки строительства знал. Что-то огромное представлялось ему по этим планам и тем срокам, которые давались командованием Армии. Он привык оперативно действовать за долгие годы службы. Взяты вводные, ясна обстановка. От него, начальника штаба, требовалось только решение задачи, и он давал его. Теперь нужно было выработать в себе привычку давать вводную обстановку, зная только общее решение. Таким решением для Гейнарова являлся приказ Армии о перегруппировке военных сил, формировании укрепленных районов, создании новых гарнизонов.
– Наши трудности впереди, – сказал он вслух.
Мартьянов не сразу понял его. Он пошевеливал головешки в костре. Вместе с дымом поднимались искры и рассеивались в воздухе. Спросил:
– Ты о гарнизоне?
Гейнаров молча кивнул головой.
И обоим стало ясно: думают они об одном. Одно тревожит, волнует их. Это – будущее. Оно начинается сегодня. Они должны будут оба приложить все умение, перенести всю людскую энергию на создание этого гарнизона. Первые дни покажутся особенно трудными, ночи – короткими. Это понимал каждый из них.
К костру подошел Поджарый.
– Ну, как? – спросил Мартьянов.
– Подчасков сменил. Все в порядке, – четко ответил старшина. Мартьянов назначил его дежурным последнего привала. Поджарый присел на корточки и, вытянув руки к огню, потирал их. Он неторопливо заговорил:
– До чего крепко опят. Подхожу, то ли дух есть, то ли нема уже. Думаю, что такое? Вертаю хлопчика, а он не шевельнется.
– Ознобившихся нет? – почти в один голос, перебив рассказ Поджарого, спросили Мартьянов и Гейнаров.
– Ознобленных нема, – так же неторопливо ответил старшина.
Поджарому хотелось поделиться впечатлениями, которые он получил при обходе отряда. Сунув почти в пламя руки, морща лицо и щуря глаза от дыма, он поправил головешки. Костер вспыхнул ярче.
– Приподнял я одного хлопчика, да и усадил в снег… Сидит, як кукла. Я гутарю: «Что с вами?», а он отвечает с просони: «Жимай, ребята, пустяк осталось до Тихого океана».
Гейнаров рассмеялся, не столько над тем, что и как рассказывал старшина, сколько над своей мыслью: «Ноги теперь втянулись – шагай да шагай. Во сне переход продолжают».
Смех его был короткий и одинокий. И странно, перестав смеяться, он подумал: «Смешного ничего нет, просто устала голова». Гейнаров вскочил и, постукивая нога об ногу, серьезно сказал:
– Тихий океан… Какой же он Тихий, старшина? Самый бурный, самый опасный!
– А в народе издавна поговорка живет: «В тихом омуте черти водятся», – добавил Мартьянов.
– Пройдемся, – предложил Гейнаров, – теперь наша очередь.
Мартьянов вынул часы и наклонился над костром.
– Да, скоро! – сказал он. – Очередь Поджарого дневалить.
Они широко расставили ноги, откинули полы полушубков и, захватив струю горячего воздуха, плотнее запахнулись.
– Хватит запасу? – пошутил Мартьянов.
– Должно хватить, – в тон ему ответил Гейнаров.
Они пошли к отряду.
– Утро вечера мудреней: вчера еще шли, а сегодня начинай закладку города, – сказал Гейнаров, – все обмозговывай, дело перед тобой прямо историческое развертывается. А жизнь какова? Стояли на зимних квартирах. Оседло жили. Приказ. Переход на новое место и начинай все сначала. Я с женой только расцеловаться успел. И всегда так – внезапно. Сегодня здесь, а через две недели в необитаемой тайге город строить надо. Вот она, жизнь армейская, Семен Егорович.
Мартьянов хотел сказать, что он не успел и попрощаться с Анной Семеновной, но промолчал: от этого легче не будет.
Они подошли к отряду. Огонь костров почти совсем потух. В глубоких снежных ямах с почерневшими краями шипели и трещали головешки. Над кострами висели, покачиваясь, прозрачные ленты дыма.
Больше синел снег. Чернее казались плывущие разорванные тучи. Восток заметно белел. Над спокойной и тихой тайгой вставал новый день.