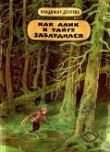Текст книги "Гарнизон в тайге"
Автор книги: Александр Шмаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
Была у Светаева одна слабость – любил писать. Аксанов говорил про Светаева:
– Романтик ты, Федор.
– Нет скрипача без скрипки, редактора без бумаги, – подтверждал Ласточкин, а Шехман объяснял:
– Мучается парень…
И, действительно, нужны были усидчивость и воля, чтобы днями и ночами находиться в редакции, исписывать десятки тетрадей. Светаев много читал. Он умел читать на ходу – от редакции до столовой, лишь бы не мешал дождь, туман, снег. Все знали эту непомерную страсть редактора к книгам, многие удивлялись его терпению. Однако эта странность не портила Федора, он всегда оставался среди друзей веселым, общительным, бурливым. Если Милашев доставлял удовольствие музыкой, то Светаев умел увлечь своим дневником, читал написанное или декламировал стихи. И редко кто думал, что прадед Федора Светаева – калмык, был пастух, жил на земле как вольная птица: сегодня здесь, а завтра там. От прадеда Федор унаследовал чуть широкие скулы, суженные прорези глаз, толстые губы, жажду к жизни, переменчивый, как погода, характер. Отец его родился от алтайской русской женщины, которая полюбила калмыка Светая. Если верить бабушке, то прадед, держа на руках ребенка!, сказал:
– Меня назвали Светаем потому, что я родился рано утром. Ты будешь Светаем потому, что степняк полюбил русскую женщину и нарушил старые законы…
Отец назвал сына Светаем, мать дала ему русское имя, и с тех пор у подножия снеговых гор Алтая размножились Светаевы, родилась деревня Светаевка. Шехман часто приставал к Федору, просил его написать «Арап калмыка Светая».
– Напишу, Борис, обязательно напишу, – обещал тот, – но… когда у тебя появятся шехманята…
– Я яловый, – шутил Борис.
– А я бесталанный, – отвечал Светаев.
Они смеялись. Но мысль, которую высказал Шехман, запала в душу, и Светаев на первой странице общей тетради крупно написал:
«Арап калмыка Светая».
Ниже мелким почерком вывел:
«Дневниковые записи, зарисовки, штрихи жизни, факты и мелочи».
Тетрадь лежала чистой до первого января 1933 года. И рождение «Арапа калмыка Светая» началось с поздравления, написанного на второй странице:
ГЛАВА ШЕСТАЯ«С Новым годом, с новым счастьем!
Весь день ползал на лыжах по тайге, по горам. Вспомнился родной Алтай, Аня в зеленом берете и перекинутом за спину зеленом шарфе. Она носила их в первое время нашей совместной жизни.
Прочитал диалоги Дидро, и словно по-новому мир раскрылся. Дидро заставляет думать, много думать над вопросами и жизни, и искусства.
…Далеко за полночь. Во всем корпусе бродит тишина. Ребята уже спят. В печке попыхивают головешки. Двумя часами раньше нас посетил начальник связи Овсюгов. В фигуре его, действиях, разговоре есть много от чеховских героев. В неслужебное время он любит носить гиляцкие торбаса, френч без ремня, ходить с собакой Гопс и подолгу разговаривать со своими командирами. У Овсюгова трусоватый характер. Андрей называет его «беспартийным спецом». Он часто заглядывает теперь в редакцию, с тех пор, как я поместил его заметку о работе связистов на выходе.
Я припоминаю одно из его посещений. В редакции сидел Борька Шехман. Подбежав к окну, он сказал:
– Лошадиная фамилия идет…
Я не понял.
– Его превосходительство Овсюгов решило навестить редакцию. Принимайте интервью, товарищ ответредактор!
И действительно Овсюгов принес заметку. Мы разговорились. Он робко спросил:
– Сидя дома, я надумал… – он запнулся, вынул серебряный портсигар и предложил папиросу.
Я не отказался. Закурил.
– Я надумал, – повторил он, – написать очерк об ударниках для вашей газеты…
Борька, чтобы не фыркнуть, отвернулся и стал вполголоса декламировать какие-то стихи о музе. Овсюгов не понял его и продолжал:
– Поймите, хочется показать, как они пришли совсем не умеющие включить телефонного аппарата, достигли сейчас того, что производят сложный ремонт. Могут быть телеграфистами на любой почте.
– Почтамте, – вставил Шехман.
Чтобы загладить поступок Борьки, я сказал Овсюгову:
– Одобряю. Попытайте силы. Литература – дело щекотливое, но с кем черт не шутит.
На прощанье я посоветовал ему прочитать, что рекомендуют все наши маститые писатели начинающим собратьям. Овсюгов ушел из редакции довольный и благодарный.
Борька долго хохотал, пока его высокий лоб не вспотел, и глаза не покраснели.
– Представляю, как примут этого очеркиста наши читатели. Сенсация!..
Овсюгов стал чаще бывать в редакции. Есть люди, которые очень медленно тянутся кверху. Таким людям надо помогать, следить за ними, внушать им веру в свои силы. Это хорошо умеет делать Шаев…»
Только в феврале выпал глубокий снег и по-настоящему установилась зима. Лохматые ели подернулись белым пухом, ослепительно сверкали под лучами негреющего солнца. Над тайгой застыло синее-синее небо. Люди, ждавшие этого зимнего дня, обрадовались ему: перестали дуть амурские ветры, гнавшие пыль с потрескавшихся от мороза дорог, опавшую хвою, побуревшие листья берез и рябины.
Дети высыпали на улицу. С наслаждением они бегали по глубокому снегу, лепили партизана, накатывали комья, насыпали горки. Весь день в городке стоял их крик, визг, слезы и смех. Ребята-школьники после занятий устроили «войну» и выбили снежками несколько стекол в окнах. К Шаеву с жалобой на ребят прибежала толстая, как снежная баба, Гавричиха.
– Это что же такое делается? Орловы ребятишки все окна побьют.
Шаев пообещал Гавричихе припугнуть мальчишек, а сам, как они, радовался снегу и готов был выбежать из политчасти и поиграть с детьми в «войну», побросать снежки.
Приближалась годовщина Красной Армии. Теперь можно было организовать хороший праздник: лыжные гонки на лошадях, соревнование на лучшего лыжника. Шаев, до этого негодовавший на природу, на зиму без снега, преисполнился новыми заманчивыми планами. Он почти забыл о жалобе Гавричихи, о выбитых окнах, хотя сообщение это было неприятным – стекла в гарнизоне вообще не хватало.
У корпусов начсостава было очень оживленно. Вместе с детьми в рыхлой перине снега барахтались женщины, они визжали и вскрикивали. Наскоро сделали трамплин. Беспрестанная цепочка людей, пригнувшись, мчалась от кромки леса вниз. Достигая трамплина, лыжники выпрямлялись, подпрыгивали, мгновение летели в воздухе с раскинутыми, как крылья, руками, а потом приземлялись и с невероятной быстротой неслись дальше, в ложбину.
Взвод Шехмана был в наряде. Поэтому Борис, в числе освободившихся командиров – любителей лыж, находился здесь. За ним установилась репутация лучшего лыжника. И теперь, когда он заходил к лесу, чтобы сделать побольше разбег, все наблюдающие с нетерпением ждали, когда мелькнет между другими лыжниками его фигура в белой фуфайке и белой шапочке.
Люда Неженец с замирающим сердцем следила за быстро мчавшимся Шехманом и боялась одного, чтобы он не упал. Ей нравилось, что все, кто был здесь, открыто восхищались Шехманом. В этот момент в глазах Люды Борис был явным героем – смелость и ловкость, умение владеть лыжами выделяли его среди других командиров. Он все больше и больше нравился ей. Люда ловила каждое слово, произнесенное о командире, по крупице скапливала все сведения о нем.
Сейчас она особо пристально следила за Шехманом, за каждым изменением его красивой сильной фигуры. Люде было приятно наблюдать за ним, тем более, что ей казалось, другие, кто был здесь, не замечали, не догадывались и не подозревали ее переживаний.
Все в нем нравилось девушке: привлекала смелость и ловкость Шехмана, быстрый говорок, его авторитет среди командиров. Она еще ясно не осознавала своего чувства. «Просто приятно с ним, Тинка», – говорила она подруге, когда хотела разобраться во взаимоотношениях с Шехманом.
В воздухе то и дело раздавались ойканья и айканья пугливых женщин. Эти крики только больше распаляли желание Неженец покататься, но у нее не было лыж. Она обратилась к раскрасневшейся от катанья Зарецкой, но та ответила, что еще не накаталась. Люда не обиделась. К ней подошла Анна Семеновна, взяла под локоть, прижала его и, отвечая поднятой свободной рукой командиру, помахивающему в знак приветствия, сказала:
– Рыцарь-то наш каков, птицей с трамплина летает!
– Хорош! – коротко отозвалась Люда и, припав к плечу Анны Семеновны, призналась: – Нравится он мне: сильный, смелый, ловкий…
– Чудесный человек, – и Мартьянова крепче прижала к себе Неженец.
Быстро наступил вечер. Зарумяненная тайга вскоре стала бледнее и наконец наполнилась просинью. Сразу стало холоднее.
Но похрустыванье снега под лыжами, громкие голоса исчезли лишь тогда, когда молодой месяц, заблудившись в лохматых вершинах елей, скрылся за темной полоской гор.
* * *
Началась инспекция войск связи. В гарнизоне ее проводил представитель дивизии. Два дня проходили командирские занятия, решались тактические задачи на карте. Инспектирующий то и дело осложнял обстановку новыми вводными, заставлял теоретически обосновывать тот или иной вариант решения.
И хотя подобных занятий с командирами взводов начальник связи не проводил, их выручили знания, полученные в команде одногодичников, уровень культуры и грамотность, достигнутые ими еще до армии. Все это облегчило их положение: Аксанов, Ласточкин и Милашев отвечали вполне удовлетворительно. Инспектирующий лишь отметил, что командирам взводов не хватает точности в уставной терминологии и топографических знаний.
Овсюгов боялся, вдруг кто-нибудь из командиров проговорится, что подобных занятий с решением тактических задач на карте начальник связи с ними не проводил. Тогда вся ответственность за это свалится на его плечи, репутация пошатнется, и, кто знает, какие выводы может сделать инспектирующий. А начальник связи, носивший четыре кубика в петлицах, мечтал уже давно сменить их на одну шпалу.
Хотя инспектирующий и делал маленькую скидку на особые условия, в которых находился гарнизон, однако вывод его был совершенно ясен: следовало усилить командирскую учебу. И, по существу, инспектирующий не столько проверял, сколько учил командиров решать задачи на карте в осложненных условиях, с широким развертыванием и применением всех новых средств связи.
Поверка знаний красноармейцев по специальности оставила хорошее впечатление. Бойцы в совершенстве знали технику, особенно телефонисты и телеграфисты. Радисты также настойчиво овладевали новейшей аппаратурой, только что поступившей на вооружение войск связи. Это были дары пятилетки – последнее слово технической мысли.
И бойцы радиовзвода, которым командовал Аксанов, гордились маленькими переносными коротковолновыми радиостанциями, удобными для обслуживания бесперебойной связью стрельбищ, отрядных учений, особенно на марше. Он давно отметил эту любовь бойцов к технике, но вместе с тем уловил легкое пренебрежение своего взвода к телефонному. Бойцы его считали, и это было совершенно неоспоримо, что радио принадлежит будущее, что телефонные аппараты УНАФ, с которыми возятся во взводе Ласточкина, – устарелая техника и ею не следует заниматься.
И Аксанову стоило больших трудов убедить взвод в том, что противопоставлять сейчас старую технику связи новой – ошибка, что надо в совершенстве овладеть той и другой, чтобы успешно решать задачи, стоящие перед связистами.
Инспектирующий тоже уловил эту, не совсем нормальную, тенденцию у радистов, их неправильное разделение техники на старую и новую. Беседуя со связистами, он подчеркнул, что в будущих боях можно победить лишь при условии использования всех средств, вплоть до связных собак.
При обсуждении итогов инспекции подразделений связи, проведенной в гарнизоне представителем дивизии, Мартьянов весь взбудоражился. Инспектировавший, докладывая о проверке красноармейцев телефонного и радиовзвода, сказал, что он уловил нездоровые отношения бойцов к новой и старой технике.
Мартьянов сердито сдвинул густые брови. Он слушал эти выводы и чувствовал, как ворошат его самое больное. Вот уже год, как Шаев не упускает случая и методично заговаривает с ним об учебе – длительной и упорной, о необходимости не отставать от жизни и ее требований.
Недавно опять между ними произошла горячая перепалка.
– Э-эх, Семен Егорович, – сказал Шаев, – мысли об учебе меня никогда не покидали и не покидают. Службу свою в армии я начал с конного разведчика на Урале. Учеба меня подняла. Я отлично понимал и понимаю, что жизнь становится требовательнее, запросы ко мне возрастают. Отставать было нельзя. И я пошел учиться. Окончил Академию Толмачева, и меня назначили сюда, в ОКДВА, к тебе в полк. Я работаю и чувствую, что пока на уровне. А раз так, и работать-то интереснее. А пройдет с пяток годков, и снова надо подумывать об учебе, о свежих знаниях, хотя и сейчас каждодневно приобретаешь их. Жизнь-то новые высоты набирает… Ты теперь и другое прикинь: когда человек отстает, совесть его мучает. Он обо всем может судить вполголоса. Как же можно отставать, тянуться в хвосте? Вырваться хочется вперед и шагать в голове. Мы с тобой – коммунисты, и этого требует от нас Устав партии…
Мартьянов вспомнил сейчас все это с такой ясностью, будто только что услышал от инспектирующего эти справедливые, горько и обидно звучавшие слова Шаева. И, больше отвечая на эти свои волнующие мысли, он в заключение сказал:
– Что ж, выводы ваши правильные – настроения нездоровые. Но корни их глубже, чем кажется на первый взгляд. Будем корчевать их беспощадно, они затемняют дорогу к свету, к нашему будущему…
ГЛАВА СЕДЬМАЯСемейный вечер начсостава был в разгаре. После небольшого доклада Шаева о Дне Красной Армии и выступления агитбригады, объявили танцы. Молодежь ждала их с заметным нетерпением.
Грянул духовой оркестр. Закружились пары. Ласточкин пригласил Ядвигу. Ее сердце слегка билось от музыки и прикосновения руки Николая, нежно лежащей на ее талии. Это было только в первую минуту, потом волнение ее улеглось. Она мягко скользила, поднимаясь высоко на носках.
– Вы удивительно легки в танцах, – склонив голову, сказал он. Ядвига почувствовала, как рука Ласточкина плотнее обняла ее талию.
Она, чуть отбросив голову назад, подняла полуприщуренные глаза на Николая. Свободный вырез ее платья открыл красивую шею. Ласточкин досмотрел жадным взглядом, и на его круглом подбородке мелко задрожала бородавка. Ядвиге не понравился его взгляд, верхняя губа ее с темным пушком сердито и недовольно поджалась.
Оркестр заметно ускорил темп. Ласточкин пошел быстрее. Сначала медленно, потом быстрее закружились электрические лампочки на потолке, пол, будто слегка покачиваясь, стал подвижным. Ядвига склонила помутившуюся голову на грудь Николая. Оркестр кончил играть. Ласточкин взял под руку Ядвигу, проводил ее к свободному стулу. Она не села, а прислонилась к стене, закрыв лицо руками. Комвзвода стоял рядом и придерживал Ядвигу за горячие локти.
– Вы обворожительны сегодня…
– Уходите от меня сейчас же…
Это было неожиданно. Ласточкин ждал другого ответа. Он решительно отказывался понять эту женщину.
– Я должен…
– Уходите, – еще настойчивее и требовательнее повторила она.
Сконфуженный Ласточкин отошел от Зарецкой, стараясь сделать это незаметно, но сцена уже привлекла внимание любопытных. На лице его выразилась растерянность и негодование.
– Что, фиаско?
– И ты в числе любопытных, – грубо ответил он Аксанову.
– Я только подошел и ничего не знаю. Но лицо твое?!
– Я иду домой. На вечере пусто и трещит башка.
Ядвига пришла в себя не сразу. Когда открыла глаза, Ласточкина уже не было около нее. Стало тоскливо. Оркестр заиграл фокстрот, и к Зарецкой вернулось желание снова танцевать, до безумия, до изнеможения. Она подошла к танцующим. За ней наблюдал Аксанов. Он пригласил Ядвигу, и они легко вошли в круг. Зарецкая держалась строго. Аксанов догадывался об отношениях Ласточкина и Зарецкой, и его интересовало теперь, что же произошло между ними. Он осторожно спросил:
– Николай допустил грубость?
Она сделала вид, что не расслышала вопроса.
– В начале вечера вы были веселее.
– Вам показалось.
Аксанов быстро перевел разговор на другое.
– Вы устали? Отдохнем.
– Я хочу танцевать. Я хочу движения, понимаете, только движения!
Зарецкая вспомнила недавний разговор с Шафрановичем. И хотя озлобленность этого человека была для нее чужда, она, еще не сумевшая разобраться во всей сложности своих чувств, охвативших ее в последнее время, и определить отношение к Ласточкину, проговорила:
– Какой здесь застой! Все одно и то же – дикая тайга, чахоточные ели, штаб, казармы, стрельбище. Где же здесь настоящая жизнь?
– Вокруг нас, – ответил Аксанов.
– Вы рассуждаете, как муж.
– Каким хотели бы видеть меня?
– Понимающим, чувствительным, человечным…
Они были сейчас близко у двери зала. Аксанов предложил выйти на свежий воздух. Зарецкая согласилась. Они оделись, вышли из клуба и направились по единственной в поселке дороге, намечавшейся быть улицей, названной «Проспектом командиров».
Вокруг было совсем тихо. Тени, падающие от построек, казались резко синими на снегу, залитом лунным светом.
– Пройдет еще год, и вы станете дикарями в вашей тайге, такими же медведями, как Шафранович, – заговорила Зарецкая, оглушая Аксанова обидными и тяжелыми словами, за которыми он угадывал горькую боль, чувство неудовлетворенности.
Аксанов долго и пылко говорил о жизни. Зарецкая рассеянно слушала и молча шла рядом. Незаметно они поднялись в гору. Далеко впереди мигал маяк. Ядвига часто выходила смотреть на него. Она подолгу стояла и глядела, как яркий кинжал прорезал темноту неба. Никто, кроме нее, не знал, что маяк на горизонте был семафором в ее жизни. И, когда вспыхивал свет, ей казалось – путь открыт. Сейчас, в лунном сиянии, свет маяка был бледен и слаб.
– Единственно, что я люблю – это маяк. Он хотя и обманывает, но открывает путь. За ним я вижу настоящую жизнь… Где-то далеко Москва иль просто город, шумный, светлый. Там безбрежна жизнь. Каждую минуту новые лица. Театр. Многообразие. Человек живет, как хочет. Мысленно я с каждым пароходом уезжаю туда. Чем я хуже других?
– Вы должны быть лучше и поэтому призваны жить здесь.
– А я не хочу, не хочу этого! Минутами мне кажется, вы гордитесь своим положением.
– Да, гордимся, – просто сказал Аксанов.
– Гордитесь тем, что оторваны от настоящей жизни, похожи на робинзонов, которые добровольно поселились в этой тайге…
Аксанов остановился и резко повернулся к Зарецкой. Удлиненное лицо его посуровело, карие глаза строго взглянули на женщину. Он взял ее за плечи.
– С чьего голоса поете? Это же гнилая философия озлобленного на жизнь человека!
– Прислушайтесь к разговорам Шафрановича, он бывалый человек, может быть, его здравый голос образумит вас…
– А-а, – протянул Аксанов, – вот откуда дует ветер…
Они повернулись и пошли обратно. Аксанову стало сразу скучно с этой женщиной.
– Получается очень странно. Живете вы с мужем, а генеральные линии у вас разные, – с досадой проговорил он.
– Разные, – призналась Ядвига, – я с мужем здорово воюю за свою линию.
– Лучше бы за одну бороться.
– У него на каждый день расписание с точностью до минут. Взгляните в книжку, которую вы называете «личным планом», и увидите – личного-то в плане нет. Все служба, заседания. День – в штабе, а до полночи – на квартире штаб. И остается по плану обязательный сон. Вот ваше личное.
– Но муж серьезно готовится в академию.
– Тем еще меньше у него остается времени для жены.
– Это все, что накипело?
Они подходили к клубу. Оттуда доносились звуки вальса. Семейный командирский вечер еще продолжался.
– Пойдемте быстрее. Я хочу танцевать.
И Зарецкая почти бегом устремилась в клуб.
* * *
В углу стоял маленький столик, накрытый бархатной скатертью. Ядвига пристально всматривалась в зеркало. Белое лицо ее слегка вытянулось, под глазами легли прозрачные синие тени, чуть согнутые тонкие брови выпрямились и теперь казались искусственно подведенными. Румянец, игравший на ее щеках, потух, и потому нос выступал на лице острым углом, а от него к приподнятой верхней губе с пушком сбегали две неглубокие морщинки. Она никогда не замечала этих морщинок. С лихорадочной быстротой она стала разглаживать кожу бледными длинными пальцами. Она заглянула в глубину глаз и почувствовала в блеске их что-то злое, холодное.
Ядвига поправила сбившиеся набок черные пряди волос и отошла от зеркала. Она не знала, верить ли тому внутреннему голосу, который подсказывал ей, что Ласточкин любит ее, или поступать с Николаем так грубо и резко, как поступила на вечере, оттолкнув от себя. Сделать последнее ей недоставало сил. Ядвигу охватывала досада за унизительное чувство собственной слабости. Опускаясь в качалку и устремив глаза в одну точку, она долго качалась, погруженная в забытье.
…Между тем внешняя жизнь ее была по-прежнему спокойна и тиха. Зарецкая, привыкшая к вечерней сосредоточенной учебе мужа, просиживающего за книгами до глубокой полуночи, все так же аккуратно готовила завтрак, обед, ужин, возилась с примусом, выходила пилить дрова, стирала белье, топила печь и нервничала, когда печь дымила. Открывая дверь в коридор, она усиливала тягу в печке. От этого ярче вспыхивало пламя, дым с металлическим звоном пробивал струю холодного воздуха в быстро нагревшихся трубах. В комнате становилось свежо. Изо рта шел пар. Ядвига, протирая маленькими кулаками воспаленно-красные глаза, с накинутым на плечо пальто стояла у печки, бока которой потрескивали и покрывались горячими пятнами румянца. Вскоре в комнате становилось душно, как в бане. Она открывала форточку и регулировала температуру. Прогорали дрова, исчезал румянец с печки. Температура падала. К утру вода в ведре промерзала насквозь.
Разговор с Аксановым на вечере заставил ее глубже призадуматься. Ядвига перестала жаловаться мужу на свою жизнь, покорялась обстановке, но была раздражительна. Ей хотелось, чтобы в комнате стало еще холоднее, дым едучее, электрический свет бледнее. Хотя бы это помешало учебе мужа, отвлекло его и дало возможность обратить внимание на нее, его жену.
Она ревновала мужа к томам Ленина, Маркса, логарифмической линейке, с которой он обращался аккуратно и внимательно. Все это отняло любовь, принадлежащую ей по праву жены, и превратило ее в нищую, которой нужно было просить, как подаяние, его поцелуи, ласки, внимание. Ядвига все чаще и чаще думала: «Зачем такому человеку жена?» Вспоминая день своего отъезда из Хабаровска, она не могла простить себе, что выехала сюда.
Однако Зарецкая была по-прежнему покорна, хозяйственна и даже стала больше уделять внимания комнате: чаще мыла полы, меняла скатерти на столах, тюлевые занавески на окнах и вкладывала всю свою энергию в заботу об уюте.
В одно из своих посещений Ласточкин, с присущей ему непринужденностью и желанием сказать комплимент, заметил:
– У вас, Яня, идеально в комнате. Просто не верится, что при скудной обстановке и здесь, в тайге, – он нарочито подчеркнул последнее слово, – вы смогли создать такой уют…
Она была польщена, но ничего не ответила. Зарецкая ждала этой похвалы от мужа, к которому приехала, ради которого в комнате создавался уют, но заметил это не он, а другой, чужой ей человек.
– Вы – настоящая полька. Только они способны показать во всем прекрасный вкус…
– Благодарю вас, – искренне ответила она, смутилась и чуточку растерялась от такой похвалы.
– Я всегда был неравнодушен к полькам…
– Это вы зря, – обиженно сказала она.