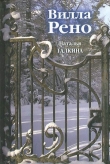Текст книги "Ревнитель веры (СИ)"
Автор книги: histrionis
Жанры:
Фанфик
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Эотасианцы в очередной раз единодушно закивали. Слова Люта отдавались в дальних уголках их душ умиротворяющим, ясным, словно лунный свет, теплом, и Этьен едва в нем не тонул.
Он боялся признаться себе в том, что долгие месяцы ему не хватало этого сладостного, неомраченного и толикой скорби чувства, которым оказался сейчас заполнен весь подземный зал. Он отчаянно не хотел соглашаться, что и ему, как и всем здесь собравшимся, необходимы эти слова так же, как воздух, что и сам он нуждался в приносимом ими покое так долго, что забыл уже, как вообще этот покой ощущается. Изо всех сил, что сейчас в нем имелись, он пытался отвергать от себя приносимые Лютом тепло и свет; со всем усердием старался гнать прочь искушение признать, что общество собравшихся в зале эотасианцев ему приятно до дрожи. Потому что Этьен был решительно с ними не согласен.
Лют разглагольствовал еще долго, в ответ на каждое свое слово встречая бурное согласие всех собравшихся, и Этьен слушал, не имея в себе сил для того, чтобы его перебить. Но в конце концов Лют все же закончил свой витиеватый рассказ, с трудом переведя дух, и вопрошающе взглянул на Этьена с Рено.
– Значит, – откашлялся чуть погодя Этьен, пытаясь собрать в голове единую картину из всего только что сказанного, – вы все здесь оказались потому, что больше идти вам некуда. Потому что в Дирвуде жизнь без Эотаса вам представляется невыносимой и потому что мириться с новыми порядками вы решительно не намерены.
– Конечно, это очень грубая формулировка, – недоверчиво поморщился Лют, – но да, она отражает суть дела.
Побитая светловолосая девушка по имени Анна, смешно прицокивая язычком, пыталась привлечь к себе внимание свернувшегося под боком у Рено Бераса. Пес, решительно ее игнорируя, самозабвенно выкусывал на своей спине блох. Украдкой глядя на неловкие потуги девушки, Рено, трепля Бераса между ушами, улыбался. Как ему казалось, незаметно.
– Позволишь сделать парочку комментариев к твоему рассказу, мэтр Лют? – скучающе спросил спустя некоторое время Этьен. Лют взглянул на него изумленно, но тут же отвернулся, кратко улыбнувшись.
– Разумеется.
Опустив голову так, чтобы никто не смог увидеть его ухмылку, Этьен выдерживал паузу до тех пор, пока не убедился, что каждый из присутствующих поглощен желанием услышать, что же он хочет сказать. Пока не выждал такое состояние духа у всех собравшихся, которое не давило на его собственную неуверенность еще сильнее.
– Мне искренне интересно, – выдохнул наконец он, – веришь ли ты сам во все то, что говоришь. Ты сказал, что первостепенная ваша задача – сохранить в эти смутные времена веру в Эотаса, пронести ее дальше несмотря на то, что главный ее источник оказался убит на мосту Эвон Девр. И вот не кажется тебе, мэтр Лют, что идея эта попахивает абсурдом?
Возмущение, пока еще мягкое, не стремящееся взорвать ему голову, мгновенно проникло в Этьена, обдало его изнутри удушливым жаром. Настороженное выражение лица Люта не изменилось.
– Позволишь узнать, почему ты так считаешь? – деликатно спросил он, глядя Этьену в глаза.
– Потому что мертвый бог ничем не сможет вам сейчас помочь, – невозмутимо отозвался Этьен. – Я, разумеется, не имею в виду никакую буквальную помощь – действительно мертв сейчас Эотас или нет, он в любом случае не имеет теперь на нас какие-то существенные способы влияния. Я говорю о том, что вера, которая так бездумно хватается за прошлое, не сможет оказать на людей никакого эффекта, кроме деморализации.
Эотасианцы молчали, но он явственно ощущал, как постепенно набухает в них недовольство. Один лишь Лют, казалось, оставался мертвенно спокоен.
– Я не согласен с тобой, – неодобрительно взмахнул рукой он. – Без прошлого нет и не может быть ни настоящего, ни будущего. Оно – единственный доступный нам источник, из которого мы можем сейчас черпать силы для того, чтобы среди нас не начал разрастаться упадок морали. И воли к жизни.
– Ошибаешься, – покачал головой Этьен. – Конечно, не могу не признать, что взгляд в прошлое порой необходим, чтобы не повторять совершенных в нем ошибок. Но вы обращены к прошлому и только к прошлому; вы не приемлите ничего иного, и это неприятие медленно убивает вас. Эотасово солнце взорвалось и обожгло всех, кто когда-то к нему тянулся, но вы игнорируете это, потому что так вам удобнее, и уперто не замечаете, как искры на затухающем пепелище продолжают опалять ваши души.
Возмущение медленно разрасталось с каждым брошенным им словом, все глубже проникая ему в нутро. Берас тоже чувствовал это: подняв голову, он, ощерившись, застриг ушами.
– Ересь, – тяжело выдохнул, выдержав паузу, Лют. – Эотас умер, принеся тем самым ради всех нас великую жертву. Кто мы такие, чтобы осмелиться о ней забыть, чтобы отвернуться от нее и сделать вид, что ничего не было? И как смеешь ты, нося на себе эотасовы символы, призывать нас к подобному?
– Потому что нет толка в вере, которая больше не внушает надежду, – процедил Этьен, сжав в кулаке ткань туники на груди. – Настоящее, которое Эотас после себя оставил, уничтожит вас всех, если вы так уперто продолжите хвататься за то, чему в нем уже не может быть места. Своим помешательством вы исковеркали саму суть Эотаса, извратили его до тщеславного монстра, который кормится теперь лишь людскими страданиями. Или вы действительно думаете, что Эотас, бог рассвета и искупления, взаправду хотел, чтобы остатки веры в него вас убили? Неужто вы и правда считаете, что все то, что творится с эотасианцами сейчас – ничто иное, как его божественная воля?
Воздух вокруг Этьена на короткий миг схлопнулся; в ушах у него зазвенело. Берас шумно рычал, переводя взгляд от одного эотасианца к другому.
Этьен ощутил в себе пламя. А затем, словно бы во сне, услышал голоса. Целый рой голосов.
«Убирайся. Уходи прочь. Я не желаю этого слышать. Никто не желает.»
«Тебе нет места здесь, если ты не принимаешь нашу веру. Если считаешь, что мы не правы лишь потому, что не позволяем себе забыть.»
В глазах у него поплыло; сердце учащенно забилось, ладони вспотели.
Нет. Он не мог оказаться там вновь. Ведь всего секунду назад все было реально…
«Эотас не забудет тебе этого. Он не будет выводить к свету того, кто погряз в своем грехе так глубоко. Того, кто осмелился утаскивать за собой во тьму других.»
«Эотас не простит тебе эти слова. Эотас не сможет простить того, кто не раскаивается. Того, кто так слепо уверен в своей правоте.»
Этьен встал, не ощущая под ногами земли. Сделал несколько шагов по направлению к лестнице, но тут же почувствовал, как гонимый им прочь огонь всколыхнулся в нем с новой силой.
«Ты никогда не будешь прощен.»
«Никогда.»
Этьен явственно ощутил, как его желудок начинает выворачиваться наизнанку. Он согнулся, чувствуя, что не может больше терпеть, что это пламя, пламя чужой злости, слепой и яростной, вот-вот разорвет его изнутри, что лишь секунды остаются до того, как он сгорит окончательно…
…но вдруг ощутил, как чья-то твердая рука схватила его за плечо.
– Прошу простить. Нам необходимо выйти.
Голос. Живой, теплый, совершенно реальный голос, который Этьен никогда не слышал в своих кошмарах. И ни за что бы не услышал.
Рено мягко помог ему опереться на себя, сделал несколько уверенных шагов к лестнице. И лишь когда ледяные капли дождя попали Этьену на лицо, он сумел очнуться окончательно.
Они буквально провалились в стену ночного ливня, бьющего по земле с таким усердием, будто это был для него последний раз. Вокруг стояла мертвенная тьма; единственным источником света остался храмовый подвал, и Этьен не смог успокоиться, пока они не отошли от него на такое расстояние, чтобы свет исчез из их поля зрения окончательно. Рено выпустил его неаккуратно, не дождавшись момента, когда Этьен смог бы стоять на ногах крепко. И когда Этьен все же упал, будучи до сих пор не в силах собраться, Рено лишь раздраженно вздохнул.
– С каждым разом становится все хуже, – бросил он, стараясь перекричать гул дождя и гомон взволнованных ворон.
Этьен долго не отвечал ему, бездумно водя по земле вокруг дрожащими руками, стараясь прочувствовать ее холод и влажность. За те недолгие мгновения, что они пробыли на воздухе, он успел промокнуть едва не насквозь, но это мало помогло успокоить его внутренний жар.
– Все та же поразительная проницательность, – наконец криво усмехнулся Этьен, даже не попытавшись подняться с колен. Рено вновь вздохнул.
– Ты же понимаешь, – начал он, сделав пару неловких шагов из стороны в сторону, – что так не может продолжаться вечно. Такими темпами однажды…
– Такими темпами однажды я просто свихнусь, – глухо закончил за него Этьен. – Каждый раз я пытаюсь внушить себе мысль о том, что у меня выйдет, что у меня взаправду получится хоть кого-то спасти от той участи, что постигла меня, но каждый, сука, раз я вновь убеждаюсь, что не способен на это.
Он опустил голову ниже, вцепившись пальцами в землю, и тяжело выдохнул. Дождь хлестал его по спине и плечам, холод медленно захватывал его нутро, но Этьен не ощущал этого.
– Хочешь знать, что было после той встречи с Вайдвеном? – Он усмехнулся, но голос его мгновенно сорвался. – Ты ведь наверняка думаешь, что для всех он был светом, что он вел людей к спасению из самых лучших побуждений. Вайдвен и сам, наверное, так считал. А потом случилась эта… резня с войском Унградра, и кровь залила ему руки таким потоком, что даже смерть не смогла отмыть его целиком.
Вайдвен думал, – хрипло продолжал он, – что в устроенном им аду я смогу вынести для себя какой-то урок. И, знаешь, я вынес. Осознал наконец для себя, что ни людям, ни богам нельзя верить. Понял, что единственной вещью, которую могут дать тебе те, за кем ты так самозабвенно идешь – это смерть.
Рено не издавал ни звука. Этьен не знал, стоит ли вообще за его спиной до сих пор Рено, но все равно не мог замолчать.
– Человек должен умереть лишь единожды. Лишь один раз он должен испытывать предсмертную агонию, лишь однажды должен прочувствовать ледяной ужас, что охватывает все твое существо перед смертью. А я успел умереть за время похода Вайдвена сотни раз. И столько же раз я убедился в том, что нет во всем мире никаких светлых богов. Есть только холод и тьма, которые остаются с тобой в тот момент, когда солнце неизбежно от тебя отворачивается.
Он поднялся на ноги сам, не получив никакой помощи извне. В нем уже не осталось никаких сомнений в том, есть ли сейчас кто-либо позади него.
– Оставайся и сгори вместе с ними, – холодно произнес Этьен, не оглядываясь. – Это совсем не моя забота. Ты прав: это не может продолжаться вечно. Я больше не могу… так. Вайдвен не оставил во мне никаких сил для того, чтобы кого-либо спасти. Опустошение, ставшее мне уроком, должно было научить меня тому, что в этом мире спасать не способен вообще никто. Пожалуй, я должен был понять это раньше.
Дождь, казалось, расступился перед ним, когда он сделал шаг в темноту. В Этьене не было больше сомнений относительно того, что он должен сделать дальше. Осталась лишь холодная уверенность в том, что выбор этот – единственный правильный. И он бы так и ушел прочь, ни разу не обернувшись. Если бы только в следующее мгновение его плеча не коснулась чужая рука.
– Я никогда не умирал, – спокойно сказал Рено, – и я надеюсь, что то, как это ощущается, я смогу узнать еще нескоро. Я никогда не чувствовал боль чужого человека так же, как свою собственную. Я никогда… даже не задумывался о том, как тяжело пытаться кого-то спасти. И, думаю, ощути я все это хоть однажды, я бы тоже решил уйти и никогда не оглядываться. Но ты – не я. Ты пережил все, о чем рассказал мне, ты сотню раз мог сдаться, покончить со всем, но все же не стал. И я искренне не верю, что Вайдвен мог отобрать у тебя все силы. Потому что не он поставил тебя на этот путь, а ты сам.
Этьен обернулся медленно, словно бы оттягивая момент, когда сможет увидеть перед собой чужое лицо. Но, обернувшись, не смог разглядеть ничего. Кругом стояла мертвая, непроглядная темнота. Этьен не придал этому значения.
– Спасибо, – прошептал он тьме перед собой. – Спасибо, наверное. Я… постараюсь этого больше не забывать.
Слова его частично заглушил гул барабанившего по земле дождя. Но Рено их услышал.
Комментарий к VII. Божественное наследие
* – вроде не канон, но учитывая, что эотасианские храмы в плане архитектуры, насколько я помню, чем-то основывались на греческих, то почему бы и нет, наверное?
шутки про наследие вайдвена не будет хд
я при написании главы, если честно, жалела немного о том, что выбрала именно такой (в принципе не особо-то и удобный) отрезок времени, но вставлять тему с пусторожденными ради одной шутки про пусторожденных показалось глупостью :”)
========== VIII. Искры ==========
Когда они вернулись обратно и успели немного просохнуть, Лют молча отвел Этьена в сторону, подальше ото всех остальных. При ближайшем рассмотрении зал становился не слишком просторным, спрятаться в нем можно было разве что за широким обломком колонны, валявшемся у лестницы – туда-то Лют Этьена и повел.
Они встали у булыжника так, чтобы оставшаяся у костра компания могла видеть только их спины. Свет сюда практически не доходил, и потому лицо Люта оказалось частично скрыто под тенью лестницы. И оттого оно мгновенно начало казаться Этьену еще более неприятным. Или это Люту начало казаться еще более неприятным лицо Этьена?..
– Прости, что отрываю от общего круга, – дежурно извинился Лют, потирая обрубок, скрытый под болтающимся рукавом. – Я не отниму много времени.
Этьен равнодушно взмахнул рукой, неотрывно глядя на собеседника. Тот избегал его взгляда.
– Я прошу тебя больше не упоминать при них, – Лют спазматично мотнул головой в сторону костра, – то, о чем ты говорил ранее.
– Разумеется, – сплюнул Этьен. – О чем же еще ты мог хотеть со мной побеседовать, кроме просьб о том, чтобы я заткнулся. Как-то слишком предска…
– Я разделяю, – перебил его Лют, заглянув наконец Этьену в глаза, – твои идеи. И прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Почему ты это говоришь. Но…
– Не говори чего-либо, что кончается всякими «но».
– …но сейчас не время и не место для высказывания подобного. Ты должен понимать, что с инцидента на Эвон Девр не прошло и года, и этого времени недостаточно, чтобы люди смогли с чистой совестью отказаться от Эотаса. Я понимаю, что настанет момент, когда им придется осознать, что их вера больше не имеет значения. Но момент этот наступить должен не сейчас. Потому как сейчас им в первую очередь необходимо время… и средство, которое залечит в их душах эту рану.
Со стороны компании послышались оживленные голоса, затем – короткое стаккато лютни. Кто-то, тихонько тенькая каждой струной по очереди, принялся настраивать инструмент, и остальные следили за этим с большим нетерпением. Этьен, глядя в их сторону, злобно усмехнулся.
– И чем же ты собираешься залечивать их «раны», позволь спросить? – насмешливо начал он, вновь обернувшись к Люту. – Иллюзией того, что вера их еще жива? Будешь подкармливать их лживыми речами, лишь бы только они не увидели жуткую правду раньше времени и не поранились еще сильнее, а потом что? В одночасье заставишь их отказаться от того, чем сам их потчевал, будто каких-то наркоманов, и уйдешь с гордым чувством, что сделал все правильно? Что именно так нужно заставлять людей искать силы в них самих?
– Единство, – процедил Лют, поджав губы. – Я залечу их раны единством, Этьен. Да, поначалу мне придется продолжать говорить им об Эотасе – но чем еще сейчас их можно сплотить? Ты хочешь убедить меня делать то же, что делаешь сам, но отказываешься при этом мыслить о том, к чему это приведет, не так ли? Давай же я расскажу тебе.
– Я не нуждаюсь в…
– Настолько провокационные заявления не вызовут в них ничего, кроме отторжения, – невозмутимо продолжал он, сжав руку в кулак. – Да, ты укажешь им верное направление, но задумывался ли ты о том, что они будут с этой информацией делать? А я скажу тебе: ничего. Они возмутятся твоему сумасбродству, начнут считать тебя богохульником и безумцем, а потом забудут обо всем, что ты так настойчиво пытался вдолбить им в головы. И вспомнят лишь в тот момент, когда искать иные пути будет уже слишком поздно.
Лютня на фоне заиграла плавнее, в мелодии послышался наконец единый мотив. Разговоры стихли мгновенно; даже урчавший у рук Анны Берас, казалось, начал прислушиваться. Песня, тихая и печальная, долетала от одной души к другой, отталкивалась гулким эхом от стен зала, медленно поглощая каждый фут* пространства вокруг. Каждый, кроме тех, что были скрыты за тенью разрушенной колонны.
– А ты не так наивен, как я сначала подумал, – выдохнул Этьен, перебивая музыку.
– Рад, что ты начал это понимать, – сдержанно улыбнулся Лют. – Не злись на меня. Я лишь хочу тебе показать, что у твоей цели есть иные пути достижения.
Этьен нервно усмехнулся, скрестив руки на груди. Он чувствовал, как беспокойно колебалась душа у Люта, как тот метался от неуверенности в том, сумеет ли хоть что-то до своего собеседника донести. И Этьен понимал его опасения. Потому что они были оправданными.
– Дело в том, мэтр Лют, что времени у нас как раз-таки и нет. – Этьен отвернулся, взглянул на подрагивающий костер. Свет, частично скрытый мраморной глыбой, падал лишь на половину его лица. – Нельзя быть уверенным в том, что на пути объединения этих несчастных ты не сделаешь неверный шаг, потому как оступиться в нашем деле легче легкого. А если это случится, если ты ошибешься хоть в чем-то, пусть даже и незначительном, то все твои старания пойдут прямиком псу под хвост. Если ты дашь их вере в Эотаса укрепиться, ничего из тобой только что сказанного больше не будет иметь значения. Именно поэтому все, что от нас требуется – изложить правду перед ними прямо сейчас, а не взращивать в них ложь, надеясь, что найдется когда-нибудь правильный момент, когда можно будет наконец рассказать им все так, как есть.
Он отступил на шаг назад, вышел из-за обломка колонны, повернувшись в сторону костра. Лют быстро шагнул следом, ухватился рукой за его запястье.
– Но, Этьен, послушай…
– Нет, Магран тебя побери, – он грубо выдернул свое предплечье из чужой ладони, отшатнулся от Люта, повысив голос. – Мы не придем к компромиссу, потому как слушать тебя у меня уже нет сил. Оставь свои попытки меня переубедить. Не сумеешь.
Лют замер, частично скрытый отбрасываемой Этьеном тенью. И больше не проронил ни слова.
***
– Боги правые, да кто ж так играет? – шутливо проворчал Этьен, усаживаясь у костра возле Рено. – Твою лютню наслушаешься, да и вешаться сразу же можно лезть. Дай-ка ее мне сюда.
Белокурый юноша, бренчавший на лютне, мгновенно прервал игру, взглянул на Этьена с недоверием. Лют, усевшийся неподалеку, со вздохом ему кивнул.
Этьен взял инструмент в руки не без удовольствия, со знанием дела проверил настройку. Затем с театральным вздохом подкрутил несколько настроечных колок еще раз.
– Откуда играть умеешь?
– Откуда надо, – бросил Этьен, перебирая в голове аккорды. – Была в Редсерасе одна мазелька…
– В Редсерасе?
– Тихо.
Он ударил по струнам неуверенно, тут же пожалев о том, что начал именно эту песню. Но останавливаться было поздно. Да и помнил он, если честно, только ее.
«**Знаешь, мой друг, я не пойду на войну.
Нет, я не устал и трусом меня не назвать.
Мне вновь захотелось вернуться в забытую ныне страну,
Откуда сто лет назад я ушел воевать…»
Поначалу Этьен едва не задохнулся своим смущением. Собственный голос, чистота звука, подобранная тональность – все вмиг показалось ему неправильным, глупым, каким-то словно бы чужим… А потом он вдруг услышал где-то внутри отголосок чужого любопытства.
Этьен поразился тому, как гулко отдавались пропетые им слова в душах эотасианцев. Они принимали его музыку недоверчиво, словно пробуя ее на вкус… Но только первые несколько мгновений.
«Я был наемником света, я был заложником тьмы,
Я умер за час до победы, но выжил во время чумы.
Я был безоружным бродягой, я был убийцей в строю,
Я дрался под белым флагом за счастье в чужом краю.»
Они отозвались его словам так быстро и ярко, что Этьен едва не подавился их принятием. Он вдруг перестал слышать свой голос, перестал ощущать движения пальцев на струнах – и в один миг забыл, где находится.
Этьен был сейчас вовсе не в разрушенном зале эотасианского храма, а где-то далеко-далеко позади, словно бы… дома. Он пел не горстке потерявшихся в себе самих глупцов, нет, но кому-то важному, правильному, родному; кому-то, чей свет, чье тепло и восхищение могли предназначаться ему, ему и только ему одному.
«Знаешь, мой друг, и ты не ходи на войну,
Лучше пойдем счастья по свету искать.
Пить из ручьев и петь, слушать лесов тишину,
Замки мечты возводить из речного песка.»
Не было ни слов, ни музыки, ни слушающих его людей – только тепло, бесконечно льющееся из каждого уголка тепло, подобное вспышке, солнечному сиянию, и одновременно с тем – чему-то, что выше, чище и светлее даже солнца.
«Я буду странником света, ты будешь странником тьмы,
Мы будем брести сквозь лето до звонких ворот зимы.
Мне быть бы героем саги, а ты можешь стать мудрецом —
Ты будешь бродячим магом, а я – бродячим певцом.»
Он видел перед собой давно знакомые лица родом из самого его детства, из самых далеких и недоступных ему нынешнему уголков памяти – и чувствовал даримые ими эмоции так, словно бы ощущал их впервые. Он видел перед собой ту самую девушку, ту единственную, потерянную где-то далеко-далеко в прошлом – и чувствовал связь с ней так, как никогда прежде.
А потом… Потом он вдруг увидел перед собой лицо Вайдвена.
И музыка мигом смолкла.
– Ну? Дальше!
…А, впрочем, ненадолго.
Этьен вдруг словно бы физически ощутил захлестнувшую только что зал волну тепла и так и не смог понять, что же послужило ее источником. Но потом он вновь ударил по струнам – и думать об этом у него уже не осталось возможности.
«Знаешь, мой друг, а мы ведь с тобой не умрем:
И если идти, дороге не будет конца.
Бедам и войнам назло мы будем вечно вдвоем,
Вечно рука в руке, песней сплетать сердца.»
Разумеется, там был Вайдвен – неизменно сияющий, яркий – ярче самого солнца, – и при том бесконечно далекий. Но Этьен больше не ощущал его присутствие в своей квинтэссенции тепла, как нечто неправильное – наоборот. Вайдвен должен был быть там. И это теперь не казалось Этьену чем-то чуждым.
«Мы будем помнить созвездья, но не будем помнить имен.
Мы будем смеяться и грезить вдали от битв и знамен,
Без мертвых богов и героев, без битвы добра со злом,
Чтобы однажды построить свой долгожданный дом.»
Этьен не понял, когда сумел открыть глаза, потому как вдруг увидел перед собой лицо Рено. И вдруг изумился тому, что не увидел его раньше. Рено сидел с ним рядом, едва не светясь от переполняющего его тепла, и все вмиг Этьену стало ясно. Все до последней капли.
Он вдруг понял, для кого пел только что, и более того – понял, про кого пел. В одночасье померкли перед ним образы тех, для кого звучала эта песня в прошлом. И Этьен всем своим существом вдруг ощутил, что никогда и нигде не сможет спеть ее ни для кого больше.
– Да уж, – кашлянул кто-то спустя пару мгновений, – после такого вешаться не захочется.
– Плясать, к несчастью, тоже, – выдохнул белокурый лютнист. – Все же… Спасибо.
– Да. Спасибо.
Этьен несдержанно усмехнулся, вздрогнул, осознав, где до сих пор находился. И вдруг с ужасом понял, что щеки у него влажные.
***
После того, как Этьен отыграл свою песню, эотасианцы разговаривали совсем немного. В конце концов, время было позднее, да и Лют не упускал шанса напомнить всем, что завтра их ожидает дорога. Тем не менее, времени этого хватило, чтобы Рено успел наконец запомнить всех членов группы по лицам и именам и составить свое окончательное о них впечатление.
Рено, в отличие от Этьена, эотасианцы определенно нравились. На все попытки себя разговорить Этьен реагировал очень остро, в конце концов уединившись в одном из дальних углов зала, время от времени недовольно поглядывая оттуда на общее сборище. А Рено, наоборот, впервые за долгое время наконец начал чувствовать себя в своей тарелке. И понимать, что, возможно, наконец ему удастся прояснить для себя кое-что важное.
Однако помочь ему в этом, как он полагал, мог только Лют. За прошедшие несколько часов он успел произвести на Рено очень приятное впечатление, показав себя умным, добрым и уравновешенным человеком. Самое главное, уравновешенным. За последние два дня Рено успел для себя отметить, что именно это качество он теперь ценил в людях превыше всего.
К счастью, вскоре Рено предоставился шанс поговорить с Лютом лично. Когда диалоги эотасианцев стали прерываться зевками едва ли не через слово, мэтр решил, что время ложиться спать все же наступило. Остальным он строго наказал принять положение лежа, а сам тем временем отошел к дальнему уголку зала – туда, где на брошенных у лестницы каменных глыбах отчетливо прорисовывались следы какой-то полустершейся фрески. Тут-то Рено и решил действовать.
Он выждал момент, когда эотасианцы увлекутся приготовлениями ко сну, перестав его замечать, и, тихонько выбравшись из общего круга, аккуратно направился в сторону склонившегося над куском мрамора Люта. И стоило только Рено подкрасться к нему на расстояние всего-то двух шагов, как мэтр, выпрямившись, неудовлетворенно вздохнул.
– Друг мой, – начал он, не оборачиваясь, – я ведь просил вас всех лечь спать. Ты же не хочешь чувствовать себя завтра выжатым, словно губка, правда?
– Не хочу. Простите. Я просто хотел вас спросить…
– А, Рено. – Лют обернулся к нему, и в лазурных его глазах ясно отобразилась усталость. – Ничего страшного, я всегда готов поговорить с тобой. О чем ты хотел спросить?
– Ну, понимаете… – Рено потупился, в неуверенности дотронулся до своего медальона. – Даже не знаю, как сказать. Вы ведь эотасианский жрец?
– Мне больше по душе слово священнослужитель, – мягко улыбнулся Лют. – Но да, ты все правильно понял.
От его ласкового голоса Рено смутился еще сильнее, отвернувшись к стене.
– Раз такое дело… Ох. Я просто, наверное, хотел вам признаться. Кое в чем важном.
Заметив чужую неуверенность, Лют коротко вздохнул, положив единственную руку Рено на плечо.
– Ничего не бойся. Я буду рад тебя выслушать.
Даже чувствуя поддержку, Рено все равно не смог посмотреть Люту в глаза.
– Просто, понимаете… – От напряжения на какой-то момент он нервно закусил губу. – Вы все – такие замечательные люди. И вы, мэтр, особенно. Вы ведь, наверное, хотите вести вперед только людей вам под стать. Тех, кто всем сердцем любит и почитает Эотаса. А я, понимаете… Я не такой человек. Я всегда в своей жизни совершал только ошибки, причем совершенно ужасные, и Эотасу я, наверное, противен. И просто… Я хотел спросить, действительно ли такому, как я, можно быть здесь с вами…
Лют слушал его очень внимательно, ни на миг не отрывая от Рено взгляда. А дослушав, вздохнул и аккуратно приобнял его одной рукой.
– Все в порядке, мальчик мой. Давай с тобой присядем.
Они отошли к лестнице – туда, где некоторое время назад проходил разговор с Этьеном. Небрежно уселись на пол, скрывшись за тенью каменной глыбы.
– Знаешь, какой грех в нашей вере является самым страшным?
– Не уверен. Убийство? Предательство?
Лют покачал головой.
– Ты отчасти прав. Перечисленные тобой деяния и правда являются очень страшными грехами. Но я говорил вовсе не о них. Попробуешь угадать еще раз?
– Нет.
– Хорошо. Я говорил об отсутствии у человека стремления к искуплению. Понимаешь, о чем я?
– Пожалуй. – Рено, подтянув колени к груди, опустил на них взгляд. – Но я почти ничего не знаю об искуплении.
– Как и я, – печально улыбнулся Лют. – Как и все мы, мой мальчик. Для каждого из нас это понятие преображается, меняется в форме, порой искажая свой первоначальный смысл, но при этом не теряя главной своей сути. Наша жизнь – это бесконечный поиск способов искупления. Но тот, кто не ищет этих способов, кто отчаялся и отрекся от желания измениться, и является самым страшным грешником в глазах Эотаса. Ты понимаешь меня, мой мальчик?
– Наверное. Но все же…
– Не нужно никаких но. Я понимаю, о чем ты хочешь спросить меня, однако не я должен дать тебе ответ на твой вопрос, а ты сам. Все люди, с кем ты успел сегодня познакомиться, включая меня – это грешники, стоящие на грани отчаяния, не видящие света ни впереди, ни внутри себя, но все равно до последнего вдоха готовые сражаться за свое право на искупление. Если ты правда хочешь идти с нами, то ответь сам себе: действительно ли ты готов отречься от себя прежнего, дабы познать раскаяние? Готов ли посвятить свою жизнь поиску туманного, никем не виденного и постоянно преображающегося понятия, зовущегося искуплением? И готов ли умереть за него?
Рено, положив подбородок себе на колени, молчал долго, глядя на мельтешащие на стенах отблески пламени. В конце концов Лют, не дождавшись его ответа, поднялся, осмотрел укладывающихся у огня эотасианцев.
– Ты не обязан давать мне ответ сразу же, – ласково сказал он, вновь взглянув на Рено. – У тебя есть столько времени на размышления, сколько тебе нужно. А сейчас, мой друг, я думаю, тебе уже пора…
– Я готов, – резко выпалил Рено, посмотрев Люту прямо в глаза. – На все, что вы перечислили, я готов. Я уверен.
Несколько секунд Лют казался обескураженным столь скорым ответом, но затем вдруг ласково, по-отечески улыбнулся. Выражение в его глазах говорило о том, что он ни на секунду не сомневался в решении Рено.
– Хорошо, мой мальчик. Я рад слышать это. А сейчас нам и правда пора ложиться спать. В конце концов, всех нас ожидает завтра дальняя дорога.
***
Этьен слишком поздно заметил, что среди эотасианцев есть вооруженный человек. Человек, чье лицо было отмечено пламенем, как и руки; человек, сидевший в тени, отдаленной ото всех остальных людей, согреваемый лишь собственным плащом. Внутри него Этьен ощущал что-то очень и очень знакомое. Но понять, что именно, не мог.
Он решился подойти к человеку с мечом в руках далеко не сразу. Пожалуй, только тогда, когда все эотасианцы, включая Рено, легли наконец спать. Костер продолжал неслышно трещать где-то на фоне, перебиваемый неровным дыханием некоторых раненых, пока Этьен подходил к темному углу зала.
Человек, объяв руками меч, положенный рукоятью ему на грудь, смотрел на огонь долго и неотрывно. Он был одет в легкую кожаную куртку, скрываемую плащом, металлические наручи с простенькой гравировкой по всей длине и обыкновенные потрепанные ботинки, навивавшие мысли о рабочем плуге и голодных свиньях. Когда Этьен подошел к нему вплотную, человек поднял на какой-то момент голову, вглядевшись ему в глаза, затем вновь перевел взгляд на огонь. Этьен счел это согласием, молча усевшись рядом.