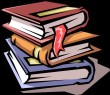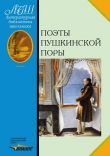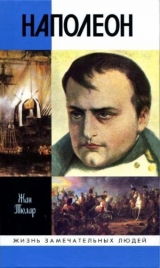
Текст книги "Наполеон, или Миф о «спасителе»"
Автор книги: Жан Тюлар
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
Религиозное умиротворение
Политическое примирение было бы невозможно без разрешения религиозных конфликтов. Трон и алтарь составляли при старом режиме единое целое. Вот почему члены Учредительного собрания решили, что с помощью Гражданской конституции духовенства им удастся реформировать одновременно и церковь, и государство. А поскольку церкви всегда казалось, что ее интересы совпадают с интересами монархии, революционеры стали проводить малопопулярную политику искоренения христианства. Увы, термидорианцы слишком поздно додумались до отделения церкви от государства, обернувшегося к тому же настоящей катастрофой для конституционного духовенства, полностью лишившегося как официальной поддержки, так и государственных субсидий. И вот результат: сильно поредевший клир разделился на конституционалистов и оппозиционеров, храмы конфисковывались и распродавались (Мишле вспоминает, что родился в церкви Непорочных Дев Сен-Шомон на улице Сен-Дени, в которой его отец разместил типографию), в Париже и провинции ослабла вера. Положение французской церкви должно было выглядеть безнадежным в условиях, когда обездоленный Пий VI доживал в плену у Директории свои последние дни. Казалось, что настал Апокалипсис, что близится конец света. И все же церковной элите удалось выжить, массы сохранили приверженность внешним формам религиозности (колокольный перезвон, песнопения и латынь), которых не смогли подменить ни теофилантропия [12]12
Теофилантропы («Друзья Бога и людей») – религиозное общество во Франции, образованное в 1796 году и просуществовавшее до 1802 года.
[Закрыть], ни богослужение на десятый день декады. Результаты борьбы за искоренение христианства, довольно ощутимые в городской среде, оказались ничтожными в деревне. Из всего спектра антиклерикальных свобод крестьянин воспринял лишь то, что его устраивало: смягчение некоторых «табу» в половой сфере и отмену церковной десятины. Вот почему новая власть не могла игнорировать религиозную проблему, от решения которой зависела ее дальнейшая судьба.
Католики, во всяком случае в Париже, без энтузиазма встретили государственный переворот, явно не суливший ощутимых перемен в религиозной политике, поскольку у власти остались все те же члены Конвента и идеологи. Гадали о намерениях Первого Консула, но вполне вероятно, что и сам Бонапарт не имел никакой определенной программы в отношении церкви, кроме понимания того, что эта проблема требует безотлагательного решения.
Перед ним открывались два пути: пустить дело возрождения религии на самотек, освятив тем самым факт отделения церкви от государства, или, заключив соглашение с главой христианского мира, положить конец конфликту, увенчав себя лаврами миротворца. Если часть идеологов готова была оказать предпочтение первому варианту, темперамент и расчет решительно склоняли Бонапарта ко второму. Трудности, связанные с решением вопроса о границах влияния папы на французскую церковь, о возвращении церкви ее имущества, о возрождении духовно-монашеских орденов, не могли отпасть сами собой. Первому Консулу было тем более важно начать переговоры с папой, что они позволили бы ему не только отвратить верующих католиков от Бурбонов, но и упрочить авторитет новой власти. В своем отчете о Конкордате Порталис замечательно емко выразил умонастроение Первого Консула: «Интересы правопорядка и общественного спокойствия не допускают того, чтобы решение вопроса о религиозных институтах было передано на усмотрение церкви». Религия могла стать эффективным сдерживающим началом. Не стремился ли Бонапарт, наряду с достижением миротворческих целей, подчинить себе галликанскую церковь? Скорее всего не вера, а трезвый политический расчет руководил Первым Консулом. Впрочем, здесь не место поднимать вопрос о религиозных взглядах Бонапарта.
Первые же политические шаги, предпринятые консулами, свидетельствовали о намерении правительства положить конец гонениям на церковь. Постановлением от 28 декабря 1799 года неотчужденные храмы передавались в распоряжение «гражданам коммун, во владении которых они находились до первого дня января II года». Они могли быть открыты для верующих постоянно, кроме последнего дня декады. Это постановление совпало с Днем года. «У дверей храмов наблюдалось большое скопление народа, – читаем в одном полицейском донесении. – Закрытые прежде церкви вновь распахнули свои двери на радость толпы, состоящей из представителей обоего пола. Люди пожимали друг другу руки и целовались». То было время, когда еще не возбранялось интересоваться истинными намерениями Первого Консула. Перед вторым итальянским походом Бонапарт поделился ими с Талейраном: «сговориться с новым папой» Пием VII, избранным неутомимым конклавом 14 марта 1800 года.
Переговоры с Римом
Победа при Маренго, упрочив власть Бонапарта, позволила ему приподнять завесу над своими замыслами. 18 июня, отдав распоряжение о проведении торжественного богослужения в миланском соборе, не столько для того, чтобы, как писал «Бюллетень резервной армии», «произвести впечатление на народы Италии», сколько в расчете на французскую общественность. 25 июня он сообщил в Верчелли кардиналу Мартиниану о своем намерении начать переговоры с папой. Эта новость немедленно достигла Рима. Пий VII, не заблуждаясь относительно ожидавших его трудностей, в целом поддержал идею переговоров.
Монсеньор Спина, архиепископ Коринфский, был приглашен Бонапартом в Париж. Заручившись согласием Курии, 5 ноября он прибыл в столицу. Только здесь узнал он имя своего будущего визави – бывшего генерального комиссара армий в Вандее Бернье, которому Бонапарт поручил вести переговоры под наблюдением Талейрана. Последний не мог принять в них непосредственного участия, так как, проголосовав в свое время за принятие Гражданской конституции духовенства, лишился духовного сана. В том же положении оказался и лидер конституционалистов Грегуар, всегда настойчиво призывавший не доверять коварной дипломатии Ватикана. В отличие от них у Бернье было более солидное прошлое, а также достоинства прирожденного дипломата, которые очень ему пригодились: начавшиеся в ноябре переговоры затянулись на несколько месяцев. Бернье сумел проявить терпение. Ему удалось обеспечить политическое примирение в Вандее и положить конец религиозным конфликтам. Больше чем все генералы, вместе взятые, он способствовал росту престижа Бонапарта. Очень скоро переговоры уперлись в вопрос об отставке епископов. С «конституционными» епископами все было просто, куда сложнее обстояло дело со старыми кадрами священнослужителей, которым папа предложил снять с себя духовный сан. Вправе ли был Пий VII требовать этой жертвы от тех, кто, несмотря на преследования, пытался сохранить верность папскому престолу? Второе осложнение: Рим выражал пожелание, чтобы католицизм был объявлен государственной или, по крайней мере, «главенствующей религией». Между тем французская сторона не могла не считаться с общественным мнением, которое не потерпело бы столь откровенного возврата к прошлому. И последнее: вопрос о церковных владениях, распроданных во время революции под видом национального имущества. Папа соглашался не требовать их возврата, однако предстояло оговорить форму возмещения ущерба. Общей сумме компенсации Бонапарт предпочел вариант, при котором государство брало бы на себя материальную заботу о духовенстве, переведя священнослужителей на оклады. Это был ловкий маневр, обеспечивавший превращение епископов и кюре в «функционеров».
Конкордат
Первая редакция документа, подготовленного к началу ноября 1800 года, не прошла из-за происков Талейрана, который нашел, что он ущемляет интересы как состоящих в браке епис-копов, так и его собственные. Вторая редакция была отвергнута после взрыва адской машины. Фуше, арестовав действительных виновников – агентов роялизма, – спровоцировал ужесточение позиции Первого Консула на заключительном этапе переговоров. Бонапарт нервничал: Конкордат был необходим ему для того, чтобы упрочить свою популярность и отвратить католиков от роялизма, у которого по-прежнему оставалось еще немало сторонников. Медлительность Ватикана выводила его из себя. Под угрозой военной оккупации Рима в Париж отправился государственный секретарь Пия VII Консалви. Будучи человеком большего масштаба, чем Спина, он переиграл Талейрана. Однако заключительному этапу переговоров суждено было стать драматическим. После трехдневного обсуждения соглашения, редактировавшегося бесчисленное множество раз, был наконец-то намечен день его официального подписания: 13 июля 1801 года. Собираясь уже поставить свою подпись, Консалви (предупрежденный Бернье) вдруг обнаружил, что поданный ему текст не соответствует предварительно согласованному варианту. Последовали выражения протеста, угрозы разорвать отношения, требования выработать новый Конкордат и, наконец, ярость Бонапарта, швырнувшего документ в камин и тут же продиктовавшего девятый (!) вариант, который он безо всякой правки попытался навязать участникам переговоров. Однако Консалви был неумолим. Здесь уместно обратить внимание на реакцию Бонапарта: он не пошел напролом. После принятия компромиссного решения в полночь 15 июля «Соглашение между Его Святейшеством Пием VII и французским правительством» было наконец подписано. В преамбуле правительство отмечало, что римско-католическую религию исповедует подавляющее большинство французов. Принципы реорганизации французской церкви оговаривались в следующих основных статьях: папский престол совместно с французским правительством пересмотрит административное деление на диоцезы. Первый Консул назначает епископов, которым папа доверяет каноническую инвеституру. Епископы и кюре приносят правительству присягу на верность, за это государство выплачивает им жалованье, а церкви получают право пользоваться доходами от своего имущества.
Верующие вздохнули с облегчением. Вскоре, 15 августа 1801 года, Пий VII подписал договор. В немногословном послании он предлагал легитимным епископам сложить с себя священнический сан. Большинство из них так и поступило. Несколько епископов основали на западе страны, в пику Конкордату, малую роялистскую и схизматическую церковь, однако влияние ее на паству было незначительным.
Вскоре Рим направил в столицу своего легата – кардинала Капрара. Со своей стороны, Бонапарт сменил в Вечном городе посла Како на более авторитетного представителя – кардинала Феша, архиепископа Лионского, своего дядю.
Быстро определили новые епархии, во главе которых назначили новых епископов: двенадцать бывших конституционалистов (в числе которых был и Ле Коз), шестнадцать оппозиционеров (в частности, Шампьон де Сисе) и тридцать два вновь призванных (среди них был и Бернье, который хотел стать архиепископом Парижа, но, получив всего лишь должность коадъютора, вынужден был довольствоваться диоцезом Орлеана).
Были и недовольные. В римской курии их было не так много, как во французских законодательных собраниях. Государственный совет встретил Конкордат молчаливым неодобрением. В Трибунате текст соглашения подвергся откровенно ироничной оценке. Во главе Законодательного корпуса находился атеист, а сенат кооптировал своим председателем Грегу-ара, бывшего епископа-конституционалиста, который резко раскритиковал соглашение. Армия также не скрывала своей враждебности.
Бонапарт воспользовался этой, в общем-то ручной, оппозицией, чтобы поручить новому министру культов Порталису отредактировать, не согласовывая их с папой, основополагающие статьи документа. Эта редакция существенно изменила самый дух Конкордата. Отныне Рим лишался права издавать буллы. Запрещалось созывать соборы и посылать легатов без одобрения правительства. Во всех семинариях вводилось обязательное преподавание декларации галликанской церкви 1682 года. Всем церковнослужителям предписывалось ходить в облачении французских священников, а в храмах пользоваться единым катехизисом. Желая подчеркнуть, что католицизм не является более государственной религией, министр внутренних дел Шапталь включил в свод правил протестантского богослужения пункт, согласно которому как пасторы, так и кюре переводились на государственные оклады.
Результаты Конкордата
18 апреля 1802 года в праздник Пасхи многочисленной религиозной манифестацией во вновь открытом для богослужений соборе Парижской Богоматери было торжественно отмечено возвращение к «свободе вероисповедания». По окончании службы генерал Дельмас, ярый республиканец, будто бы проворчал: «Ну и капуцинада! Какая насмешка над ста тысячами погибших ради того, чтобы покончить со всем этим». Несправедливый упрек. Не считая эпохи террора, когда в глазах общества католицизм и монархия составляли одно целое, Революция не была враждебна церкви. Гражданская конституция духовенства оказалась несчастьем куда большим, чем спланированный заговор против христианства. Народное воодушевление, вызванное окончанием гражданской войны, смело оставшиеся запреты и превратило своевременно опубликованный Шатобрианом «Дух христианства» в бестселлер.
Словом, Первому Консулу удалось достичь двух целей: восстановить религиозный мир и подчинить церковь государству. Что касается первого пункта, то Людовик XVIII сразу понял, какую опасность представляла для него утрата опоры в лице католицизма. Узнав о начале переговоров, он тут же направил верительные грамоты Мори, представлявшему его интересы перед папским престолом, чтобы не допустить какого бы то ни было соглашения между папством и «чудовищным правительством, которое вот уже десять лет ввергает Францию в скорбь». Однако Пий VII отослал Мори назад в его диоцез на Монтефиасконе. Роялисты в резких выражениях давали выход своей ярости в связи с подписанием Конкордата. Жозеф де Местр писал: «Я от всего сердца желаю папе такой же смерти (и по той же причине), какую я пожелал бы своему отцу, если бы завтра ему случилось запятнать меня позором». Слабость роялистской оппозиции 1803–1809 годов в какой-то мере объясняется умиротворением религиозного конфликта.
Впрочем, победа, одержанная Бонапартом над Римом, оказалась недолговечной. Он хотел вывести духовенство из подчинения папскому престолу и поставить его в зависимость от государства. Но был ли у галликанской церкви, имевшей право на существование в условиях христианской монархии, хоть какой-то шанс выжить в атеистической республике? С чего бы это стала она отдавать предпочтение не папскому престолу – центру всемирного христианства, – а главе государства, который цинично заявлял, что видит в ней лишь свою социально-политическую опору? Дювуазен, епископ Нантский, друг Фуше и один из наиболее преданных сторонников Империи, в таких словах выразит отчаяние, охватившее епископов в пору конфликта между духовенством и Империей. «Я умоляю императора, – диктовал он в 1813 году за несколько часов до своей смерти, – вернуть свободу Святому Отцу. Его неволя омрачает последние мгновения моей жизни».
К миру на континенте
Консульство застало Францию в состоянии войны со второй коалицией, в которую входили Австрия, Россия и Англия. Хотя в сентябре 1799 года и удалось не допустить иноземного вторжения, необходимость заключения мира стояла по-прежнему остро. Разве не воевала страна со всей Европой более семи лет? Бонапарт в полной мере смог ощутить рост своей популярности после подписания Кампоформийского мирного договора.
Придя к власти, он обратился к Англии и Австрии с мирными предложениями, однако ни премьер-министр Питт, ни канцлер Тугут не пожелали начать переговоры. Ответ Англии прозвучал оскорбительно. «Разве якобинство Робеспьера, Триумвирата и пяти директоров хоть в чем-то изменилось, сконцентрировавшись в человеке, воспитанном этой средой?» – возгласил Уильям Питт. Впрочем, Бонапарт и не рассчитывал на положительный отклик; этот политический демарш обеспечил ему поддержку общественности. «Монитор» парировал наскоки английской прессы анонимными статьями, надиктованными, без сомнения, самим Первым Консулом: «Подвергать оппонента оскорблениям – очень древний обычай. Нельзя не признать, что в этом деле англичане оставили нас далеко позади».
Перед Бонапартом открывались две возможности разделаться со своим ближайшим противником – Австрией: заключить союз с Турцией, на манер Франциска I, или с Пруссией в духе Людовика XV. Дескорш де Сент-Круа, посланный в Константинополь для урегулирования с султаном вопроса об оккупации Египта, полагал, что его миссия будет полностью выполнена, если ему удастся договориться о выводе французских войск из Эль-Ариша. Что же касается прусского короля, то Первый Консул направил к нему с дипломатическим поручением верного Дюрока. Дюроку был оказан благосклонный прием: Берлин не возражал против такого сближения, в результате которого Пруссия могла бы рассчитывать на приращение своей территории за счет Германии. И все же Га-угвиц ограничился лишь пространными рассуждениями.
Когда же Бонапарту стало известно, что, после того как англичане нарушили соглашение о капитуляции французских войск из Эль-Ариша, Клебер одержал победу над турками в Гелиополисе, его намерения резко изменились. Вновь охваченный давней восточной грезой, желая удержать завоевания египетского похода, он принял решение впредь не обсуждать, а диктовать условия мира.
Вторая Итальянская кампания
Осажденный в Генуе Массена оказывал австрийцам героическое сопротивление. Сюше сдерживал натиск противника в долине реки Вар. Намереваясь положить конец атакам австрийской армии, Бонапарт решил предпринять наступление на два фронта. Моро, поставленному во главе стотысячной армии, было поручено действовать вдали от Апеннинского полуострова, в Баварии, отвлекая на себя силы генерала Крея. Италию Первый Консул взял на себя. Смелый маневр – переход через Большой Сен-Бернарский перевал, который французская пропаганда приравняла к подвигу Ганнибала, позволил ему, правда, с невероятными усилиями, из-за отсутствия необходимого снаряжения и опыта преодоления горных перевалов большими войсковыми соединениями, обойти австрийцев с тыла. При выходе из ущелья столкновение с фортом Бар, обороняемым капитаном Бернкопфом, могло обернуться для экспедиции катастрофой. Пришлось обходить его высящимися над обрывом тропами, по которым можно было протащить лишь незначительную часть и без того уже изрядно пострадавшей артиллерии. Бонапарт вторгся в Италию почти с таким же малым количеством вооружения, какое было у него в 1796 году.
Цель всех этих усилий состояла в том, чтобы, атаковав с тыла австрийцев, главные силы которых были сосредоточены в Генуе и Ницце, перерезать коммуникации, связывающие их с тылом. Вот почему, вместо того чтобы поспешить на выручку к Массена, в Геную, Бонапарт устремился по дороге в Милан, куда и вступил 2 июня 1800 года. В тот же день через Сен-Готардский перевал подоспело подкрепление из Германии. Австрийцы оказались в ловушке, и Мелас поступил так, как этого и ждал от него Бонапарт: он двинулся к Милану для восстановления прерванных коммуникаций. Однако превосходно задуманный план провалился из-за неожиданной потери Генуи. Теперь армия Меласа имела мощный плацдарм, благодаря которому английский флот мог беспрепятственно снабжать ее боеприпасами и продовольствием. В этой ситуации уже нельзя было ждать, когда противник предпримет прорыв в угодном Бонапарту направлении. Следовало как можно скорее идти наперерез Меласу, чтобы не дать ему войти в Геную. Однако настичь неприятеля оказалось нелегко. 9 июня Ланн, посланный во главе авангарда, столкнулся с австрийцами у Монтебелло, но вскоре опять потерял их. Бонапарту пришлось рассредоточить силы на два больших отряда, направив один, под командованием Дезе, к Генуе, а другой – на север, к истоку По. Опасный маневр. Вторично Наполеон прибегнет к нему в битве при Ватерлоо, когда в решающий момент корпус Груши опоздает к месту сражения. 14 июня Мелас, сосредоточив силы на бормидском направлении, атаковал значительно поредевшую в результате дробления на поисковые отряды армию Бонапарта. Если бы эти отряды не подоспели вовремя, судьба развернувшегося при Маренго сражения была бы решена в пользу обладавших подавляющим численным превосходством австрийцев.
В три часа дня, после отчаянного сопротивления, войска Бонапарта начали отходить. Мелас уже решил, что сражение выиграно, когда около пяти часов вечера под грохот орудийной канонады в бой вступил головной отряд Буде из дивизии генерала Дезе. Это явилось для австрийцев полной неожиданностью, ведь они были уверены, что сражение уже завершилось. К десяти часам вечера войска Меласа были отброшены за реку Бормида. Поражение обернулось победой. Ею французы были обязаны вовремя подоспевшему Дезе, вскоре сраженному пулей, а не полководческому гению Бонапарта. Здесь следует заметить, что многочисленные трактовки, которые Наполеон давал этой битве, начиная со сводки, отправленной из Итальянской армии, и кончая надиктованными на Святой Елене мемуарами, представляли собою весьма произвольную интерпретацию этого сражения, в котором роль Дезе оказалась приуменьшенной, а заслуги Первого Консула – преувеличенными.
Люневильский договор
Победа при Маренго, превознесенная пропагандой, еще больше укрепила авторитет Бонапарта. Однако пункты подписанного Меласом в Алессандрии договора, предусматривавшего эвакуацию австрийцев из Пьемонта, Ломбардии и Лигурии, не означали прекращения войны. Вена по-прежнему надеялась на победу в Германии. Однако ряд поражений, которые Крей потерпел в Баварии от Моро, сделали эту надежду иллюзорной. Австрии пришлось пойти на переговоры. Для встречи с Жозефом Бонапартом в Люневиль прибыл новый канцлер Кобенцль, однако переговоры зашли в тупик из-за того, что соглашение с Англией о субсидиях не позволяло Австрии заключать сепаратные договоры до февраля 1801 года. «Было очевидно, – писал Жозеф, – что на каждый свой шаг к разумному миру венский двор отваживается лишь под давлением нависшей над ним угрозы, так что нам следует рассчитывать только на силу нашего оружия».
Выведенный из терпения Первый Консул возобновил войну. Пока Итальянская армия под командованием Брюна двигалась к Ломбардии, на германском фронте Моро, окружив в Гогенлинденском лесу эрцгерцога Иоганна, уничтожил 3 декабря 1800 года главные силы австрийцев, открыв французам дорогу на Вену. Бонапарт не простит этой блистательной победы своему сопернику. В результате успехов, одержанных Дюпоном в Пеццоло, Макдональдом – в Альпах и Мюратом – над Неаполитанским королевством, Италия почти полностью перешла в руки французов.
Словом, австрийцев вынудили принять условия Бонапарта. Люневильский договор, подписанный 9 февраля 1801 года, закрепил оговоренные Кампоформийским договором территориальные аннексии в Италии, Бельгии и на Рейне. Из всех своих итальянских владений Австрия сохранила лишь Венецию. Она признала образование Батавской, Гельветической и Цизальпинской республик. Последняя, в частности, расширила свои владения за счет Моденского герцогства и Легацо. Между строк договора прочитывались две преследуемые Бонапартом цели: Италия и Рейн. Признание Веной Цизальпинской республики упрочивало французское влияние в Северной Италии. Эрцгерцог Фердинанд, уступив Тоскану инфанте испанской, жене герцога Пармского, подтвердил распространение этого влияния за пределы Цизальпинской республики. Что касается Германии, то Австрии пришлось согласиться на границу по Рейну между Францией и Империей. Ей не удалось также воспрепятствовать вмешательству Франции в вопросы, касающиеся возмещения убытков лишенным своих владений левобережным князьям.
Амьенский мир
Оставались еще Англия и Россия. У Бонапарта имелись основания многого ожидать от России. В самом деле, Павел I был от него в восхищении, а при уставшем от требовательных эмигрантов русском дворе образовалась своего рода партия франкофилов. Желая упрочить наметившиеся благоприятные тенденции, Бонапарт отпустил домой семь тысяч русских солдат, взятых в плен в Швейцарии, а 21 декабря 1800 года направил царю письмо, в котором предложил заключить союз между «двумя могущественнейшими мировыми державами». В нем, в частности, шла речь о таком разделе Турецкой империи, при котором Константинополь отходил бы к России, а Египет – к Франции. Правда, этот вариант не устраивал Англию, покровительствовавшую султану для того, чтобы обезопасить подступы к Индии. Уже Россия стала отдаляться от Англии, уже в декабре 1800 года образовалась Лига нейтральных государств (Швеция, Дания и Пруссия), блокировавшая главные пути британской торговле, когда в марте 1801 года подкупленные партией англофилов офицеры задушили царя в его спальне. Бомбардировка 2 апреля Копенгагена, предпринятая английской эскадрой, ускорила распад Лиги нейтральных государств. Новый царь, Александр I, едва взойдя на престол, повел дело к сближению с Англией.
Париж с прискорбием воспринял весть о смерти русского императора. «Павел I умер в ночь с 24-го на 25 марта, – сообщала «Монитор». – 31 марта английская эскадра прошла через Эресуннский пролив. Когда-нибудь история приподнимет завесу над возможной связью между этими событиями». И все же Бонапарт не отказался от демаршей в отношениях с Россией, направив в апреле 1801 года Дюрока в Санкт-Петербург.
Он прекрасно понимал, что не справится с Англией, не добившись превосходства на море, и делал все, чтобы преуспеть в этом. 1 октября в Сент-Ильдефонсе было подписано секретное соглашение с Испанией. В обмен на данное в Люневиле обещание подарить герцогу Пармскому итальянское королевство Бонапарт получил Луизиану, которая могла бы стать опорным пунктом на случай войны с Англией, и шесть военных кораблей. Аранхуэсский договор, подписанный 21 марта 1801 года, подтвердил ключевые пункты соглашения, оговоренные в Сент-Ильдефонсе. На основании Флорентийского договора 29 марта неаполитанский король уступал Франции остров Эльба и закрывал свои порты для английских кораблей. Были подписаны также договоры с Алжиром, Тунисом и Триполи. Договор, заключенный 3 октября 1800 года в Монтфонтене, восстанавливал между Францией и Соединенными Штатами «прочный, нерушимый и всеобъемлющий мир», основанный на признании основополагающих принципов морского права.
Все это грозило Англии серьезными осложнениями. Разумеется, война дала ей очень много: французские и голландские колонии, Мальту, захваченную ею в сентябре 1800 года, выгодную контрабандную торговлю с испанскими колониями в Америке, усиление влияния в Индии, отпадение от Франции Египта, ставшее неизбежным после убийства Клебера (14 июня 1800 года), которого сменил недалекий Мену, подписавший в августе 1801 года капитуляцию.
Однако явный рост престижа Франции, возраставшие в английском обществе симпатии, приведшие к возникновению среди элиты партии франкофилов, беспокоили Англию. К тому же экономика этого островного государства начала испытывать негативные последствия кризиса, явившегося результатом инфляции и недорода 1799 и 1800 годов. Армии приходилось подавлять вызванные ростом цен народные волнения. Нерешенность ирландской проблемы, а также безумие короля лишь осложняли положение. В начале февраля Питта сменил Аддингтон. Возглавивший внешнеполитическое ведомство лорд Хауксбери предложил Парижу начать мирные переговоры. В ответ Бонапарт направил в Лондон баденца Луи Отто. Переговоры едва не провалились, споткнувшись о египетскую проблему. В результате, по предварительному соглашению (1 октября 1801 года), было решено, что Египет отойдет Турции, а Мальта возвратится к своим прежним хозяевам – рыцарям ордена Святого Иоанна. Вопрос об эвакуации англичан ставился в зависимость от ухода французов из всех неаполитанских портов. Англия оставляла за собой свои колонии за исключением островов Тринидад и Цейлон.
Подписание предварительного соглашения было с энтузиазмом встречено британской общественностью, уставшей от войны и растерявшейся перед угрозой растущей нищеты: 15 процентов англичан оказались за чертой бедности. Раздавались даже голоса, выражавшие сожаление в связи с отсутствием торгового договора. Франция была признательна Первому Консулу за то, что он сдержал данное в Брюмере обещание положить конец конфликту.
Дело дошло наконец до выработки итогового документа, подписанного 27 марта 1802 года в Амьене Жозефом Бонапартом и Корнуоллом. Перед этим 8 октября 1801 года был заключен мирный договор с Россией, а 9 октября – с Турцией.
Опустошаемая на протяжении десяти лет войной Европа обрела наконец мир. Впрочем, на деле речь шла скорее о передышке. Наполеон отнюдь не склонен был отрекаться от своей восточной грезы, да и Англия не собиралась мириться с гегемонией Франции на континенте. Ссылаясь на Берка, которому в 1790 году на месте нашей родины виделась бескрайняя пустыня, Шеридан воскликнул в палате общин: «Взгляните на эту карту, на ней повсюду Франция».
И все же Амьенский мир получил всеобщее одобрение: «Рабочие говорят о мире и о Первом Консуле с неподдельным энтузиазмом. Их вера в правительство не знает границ. Иначе – в светских кругах, где это счастливое событие почти не обсуждается. Похоже, там оно, напротив, вызывает скорее разочарование. Поговаривают, не без иронии, что народу мнится, будто на него снизойдет манна небесная, и удивляются удаче, которая неизменно сопутствует всем начинаниям Первого Консула».
В провинции и особенно в портовых городах, пострадавших из-за войны на море, новость была воспринята с большей радостью, чем в Париже. В Бордо дома будто бы даже были иллюминированы. По сообщениям префектов, юг, за исключением средиземноморского побережья, проявил большую сдержанность, чем север. Так или иначе, но благодаря прекращению военных действий престиж Бонапарта значительно вырос. После Кампоформио и Люневиля – Амьен. Бонапарт представал миротворцем. До образа корсиканского людоеда было еще далеко.
Преодоление экономического кризиса
В 1801 году еще можно было сомневаться в прочности режима. Да, якобинцы и роялисты потерпели серьезное поражение. Весть о победе при Маренго уничтожила в зародыше заговоры, которые плели некоторые неуверенные в завтрашнем дне брюмерианцы. Армия, несмотря на происки кучки генералов, сохраняла спокойствие. Парижские предместья, по заверениям Фуше, не вызывали опасений. И все же стоило какому-нибудь уличному восстанию объединить оппозиционные силы, и оно смело бы консульское правительство. Больше всего на свете Бонапарт боялся голодного бунта. Ни Людовик XVI, ни монтаньяры так и не смогли найти от него действенного средства. Насилие? «Солдаты не любят стрелять в женщин, которые кричат у хлебных лавок с детьми на руках», – заметил Наполеон в одном из писем. Урожай 1799 года оказался скудным, и цена на мешок муки резко подскочила. Однако в июне все возвратилось на круги своя. Известие об очередной победе (при Маренго) совпало со снижением цен на хлеб. От прошлогодней дороговизны остались лишь воспоминания.