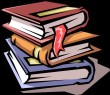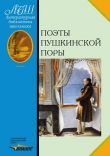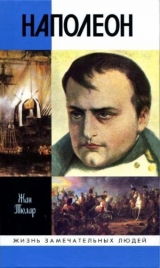
Текст книги "Наполеон, или Миф о «спасителе»"
Автор книги: Жан Тюлар
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Создание 5 февраля 1810 года Главного управления полиграфии и книготорговли и увольнение типографских рабочих предвещали не заставившее себя долго ждать дальнейшее наступление на гласность. Декрет от 3 августа 1810 года разрешал каждому департаменту издавать не более одной газеты. В порядке исключения допускались одноразовые выпуски литературных и научных газет, а также печатание объявлений о продаже недвижимости и перемещении товара. К октябрю 1811 года число парижских газет сократилось до четырех: «Монитор», «Газетт де Франс», «Журналь де Пари» и конфискованная 18 февраля 1811 года у братьев Берген «Журналь де Деба», переименованная в «Журналь де л'Ампир».
Полиция взяла эти газеты под неусыпный контроль. В довершение ко всему 17 сентября 1811 года Компьенский декрет конфисковал все парижские газеты в пользу государства. Барыши поделили полицейские, придворные и писатели. За всю свою историю Франция не знала такого драконовского режима. В результате читатели получили угрюмые, пошлые, полностью подконтрольные правительству листки, начисто лишенные интереса. На излете Империи выяснилось, что парижского буржуа лишили кофе, сахара и газет. Этого он вынести уже не мог.
Буржуазия, пострадавшая в свое время от революционного террора, с трудом переносила усиление полицейского гнета имперской власти. С возвращением Фуше на набережную Вольтера деятельность полиции стала устрашающе эффективной. Фуше разделил свое ведомство сначала натри, затем – на четыре департамента, которые возглавили государственные советники: Реаль, Пеле де ла Лозер и префект полиции Дюбуа. Демаре была поручена служба безопасности, призванная своевременно распутывать интриги и заговоры. За исключением одного-единственного «прокола» – заговора генерала Мале (1808), допущенного в результате подогреваемого Наполеоном соперничества двух параллельных служб (министерства и префектуры полиции), соперничества, усложнившего механизм расследования, полиция неплохо справлялась с возложенными на нее обязанностями: все попытки Пюизе внедрить свою лондонскую агентуру провалились. 9 января 1808 года был казнен заговорщик Лe Шевалье; 5 июня того же года был арестован Прижан, подготавливавший восстание на западе.
Но Фуше умел быть лояльным и по отношению к Фобур-Сен-Жермен [22]22
Аристократический район Парижа.
[Закрыть], смягчив, к примеру, условия содержания под стражей де Полиньяка. Его отставка напугала нотаблей. Сменившему Фуше Савари явно недоставало изощренности «лионского расстрельщика» [23]23
Так окрестили Фуше за расстрелы картечью населения Лиона после подавления восстания 1793 года.
[Закрыть]. Савари не только демонстрировал свою брутальность в Испании, но и совершал одну оплошность за другой. Так, он надумал снабдить прислугу богатых домов расчетными книжками. Все усмотрели в этом очередной способ надзора за «добропорядочными семьями». Инициатива Савари вызвала всеобщее негодование, и хозяева практически не пользовались этими книжками. Под предлогом «сбора статистических данных о моральном и социальном облике граждан» Савари задался целью составить досье на всю Францию, вмешиваясь в процедуру заключения брака богатыми наследницами и девицами из аристократических семейств. Такое вторжение сыска в личную жизнь окончательно дискредитировало ведомство с набережной Вольтера. Не Фуше создал миф об имперской полиции, напротив, он постарался сделать ее как можно менее заметной. Бесцеремонный характер контроля, постепенно взятый на вооружение режимом, проявился в промахах Савари.
Если абсолютная монархия, согласно знаменитой формуле Сен-Симона, была «долговременным царством подлой буржуазии» (мнение, ни в малейшей степени не разделяемое самой буржуазией), то имперская форма правления после 1807 года перестала быть властью одного класса – той же буржуазии, – став игрушкой в руках Наполеона. Получилось нечто прямо противоположное ожидаемому. Надеялись на постепенную эволюцию от диктатуры общественного спасения к конституционному правительству либерального типа. На деле же, как подчеркивает Моле, «гений Наполеона, вся его человеческая природа противились любому разделению власти. Единоначалие составляло, по его мнению, непременное условие сильного правительства; власть, подвергаемая критике, ограниченная, сдерживаемая – обречена на колебания, ей недоступны те мгновенные озарения, благодаря которым Наполеон совершал свои чудеса… Когда же его звезда начала угасать, – добавляет Моле, – известно ли вам, в чем он видел выход из затруднений и прочные основания для будущего? Он упрекал себя в том, что наделил Законодательный корпус слишком большой свободой, а сенат – слишком большим авторитетом».
Разве могли нотабли, без сожаления наблюдавшие за тем, как канул в Лету старый режим, допустить, чтобы порядок сменился авантюризмом, а авторитет власти – тиранией?
Глава II. ПРОСЧЕТ: ДВОРЯНСТВО И ИМПЕРИЯ
«Нелепый предрассудок эгалитаризма все еще остается религией лавочников», – предупреждал якобинец Фуше. Наполеон не внял его предостережениям. Первую ошибку – создание дворянства – он допустил еще до начала войны в Испании. Тогда он сказал: «Революцию совершило тщеславие; свобода была лишь предлогом». Открывая нотаблям доступ к новым титулам, Наполеон надеялся заставить их смириться с упразднением свобод. Кроме того, он рассчитывал амальгамировать революционную буржуазию со старой аристократией, противопоставив ее Бурбонам. Двойной просчет: старая знать служила узурпатору спустя рукава, а в торговых лавках, если верить Фуше, всерьез скорбели об утрате равенства. Заволновалась и деревня: неужели, несмотря на данную императором в 1804 году клятву, в стране возродится феодализм? Словом, реакцию общественности никак нельзя было назвать восторженной.
Этапы одного творения
Идея равенства так укоренилась, что Наполеону пришлось потратить восемь лет на создание нового дворянства, хотя уже с 1804 года никто не питал иллюзий относительно характера наполеоновского режима. «Нация не созрела для двух вещей, – признавался Первый Консул Редереру, – для наследственных должностей и дворянства. Наследное дворянство, происхождение которого обусловливалось благотворными деяниями и великими заслугами перед отечеством, не сумело удержать позиции. И все же оно куда приемлемее новой знати, которая не преминет вознестись над своей ровней».
Составленные избирательными коллегиями списки нотаблей – влиятельных людей, которые могли бы стать родоначальниками новой аристократии, исчезли после принятия Конституции X года. Администрация Империи проявила безразличие к факту их исчезновения. По мнению Редерера, На-полеон был против этих списков, видя в нотаблях новую, рожденную Революцией знать, которая вышла бы из-под его контроля. Вот причина проявленного Империей безразличия к деятельности избирательных коллегий.
Можно ли рассматривать учреждение ордена Почетного легиона как шаг к возрождению знати, шаг, сделанный на сей раз самим Наполеоном? Не преследовал ли он цель создать элиту, аналогичную той, что была внесена в списки нотаблей, способную служить опорой консульскому правительству? Элиту, которая в отличие от предложенной избирательными коллегиями выделялась бы не своим богатством, но заслугами перед государством, а также тем, что была бы сформирована самим Первым Консулом?
30 июля 1791 года Учредительное собрание упразднило «все внешние признаки, указывающие на различие в происхождении», однако воздержалось от вынесения постановления относительно «общенационального знака отличия, присуждаемого лицам, отличившимся доблестью, талантами и заслугами перед государством». Конвент оговорил, что награды присуждаются «гражданам, славно послужившим отечеству». Наконец, Директория пополняла число воинских наград именным оружием. Эти знаки отличия ни в коей мере не посягали на принцип равенства. Они попросту не присуждались гражданским лицам. Учреждение Бонапартом ордена Почетного легиона расширяло границы поощрения. Он осуществил то, на что не отважилось Учредительное собрание. Слово «орден» не фигурировало в проекте закона, а древнеримское «легион» должно было успокоить общественность. Это, однако, не помешало Государственному совету подвергнуть проект решительной критике. На одном из его заседаний Берлье воскликнул: «Предлагаемый нам орден приведет к возрождению аристократии: кресты и ленты – монархические побрякушки!» – «Почему бы не рассматривать это нововведение в качестве единой награды для военных и гражданских лиц? Разве у людей, которые первыми подняли руку на деспотизм и провозгласили свободу, не те же права, что и у воинов, защитивших родину от чужеземцев?» – возразил Бонапарт. Не менее бурные дебаты развернулись в Трибунате. В Законодательном собрании на 166 голосов, поданных «за», пришлось 110 голосов «против». Основанный на присяге и наделенный земельными владениями, Почетный легион представлял собою в зародыше новое дворянство.
Следующим этапом в деле создания новой французской аристократии стали жалования сенаторам – сенатории. Сенатус-консультом 14 нивоза XI года предусматривалось учреждение одной сенатории на каждый апелляционный суд большой инстанции – своего рода административной единицы, за которую сенатор нес моральную ответственность. К сенатории прилагались дом и годовой доход из фонда национального имущества в 20–25 тысяч франков, предназначенных для покрытия представительных и дорожных расходов сенатора, обязанного какую-то часть года жить в своей сенатории. Если бы сенатории не передавались по наследству, они не воспринимались бы как возврат к феодализму и не оскорбляли бы эгалитарных чувств французов.
Подобно спискам нотаблей, орден Почетного легиона и сенатории представляли собою в конечном счете попытку возрождения дворянства. В конце 1804 года орден по непонятным причинам испытал финансовый кризис. Декретом от 28 февраля 1809 года он был лишен земельных наделов, находящихся в ведении когорт. В порядке компенсации ему было выплачено 2 миллиона 82 тысячи франков ренты при стабильных 5 процентах годовых. Это событие решило судьбу ордена: обретя поначалу благодаря своим земельным владениям значительное влияние, он перестал играть роль оплота аристократии, сделавшись тем, чем был в момент своего возникновения – обычной наградой.
Когда владельцы некоторых сенаторий обнаружили, что их доходы поступали от весьма удаленных друг от друга владений, их постигло глубокое разочарование. Так, в сенаторию Ажана входили национальные поместья, расположенные в департаментах Жер, Ло-и-Гаронна, Сена-и-Уаза, Эр-и-Луара, что существенно осложняло получение доходов владельцами сенатории. Приведенный пример – скорее правило, чем исключение. «Управлять здесь трудно и разорительно, прибыль ничтожна, владелец приходит в отчаяние от непрерывной борьбы за получение причитающегося ему дохода», – жаловался владелец сенатории Риома. В Бурже Гарнье-ле-Буассьер сокрушается с связи с «существованием скудных и изолированных друг от друга наделов, требовавших для обработки большого числа мелких арендаторов, сомнительная платежеспособность которых нередко оборачивается либо убытками, либо тяжкими пререканиями». Словом, таким феодам не удавалось стать княжествами.
Предрешенный исход
Бонапарт хотел править такой Францией, в которой аристократия получала бы богатство и должности лишь из рук императора. Что касается брюмерианцев, то они хотели бы тако-го дворянства, которое автоматически освящало бы непреходящий характер их власти. Наполеона такой вариант не устраивал. Недоверие к нотаблям побудило его ограничить роль избирательных коллегий и приостановить раздачу сенаторий, мотивируя свое решение ссылкой на разрозненность национальных угодий. Труднее объяснить довольно быстро наступившее охлаждение Наполеона к ордену Почетного легиона. Наметившееся к 1805 году падение его престижа свидетельствует о том, что император, вероятно, задался целью низвести его до уровня обыкновенного знака отличия, каковым орден и по сей день остается в нашей Республике.
Дворянство возрождается в Тюильри вместе с возникновением двора. Весьма скромный поначалу дом Первого Консула обретает со временем облик королевского дворца. Состоявшийся в 1801 году прием знати Этрурии повлек за собой расширение протокольного отдела и возвращение к ливреям. Официальная роскошь выставляется напоказ. Сапоги и брюки уступают место туфлям с пряжками, шелковым чулкам и коротким панталонам. Неопубликованное постановление от 12 ноября 1801 года учреждает должности одного гофмейстера и четырех префектов дворца. Множатся не только оказываемые Жозефине почести, возрастает значение благородного женского общества в окружении супруги Первого Консула: мадам де Люсей, де Лористон, де Талуэ и другие. Введение пожизненного консульства углубляет тенденцию, которая станет нормой после провозглашения Империи. Но сколько всему этому предшествовало предосторожностей! И сколько оговорок было сделано при восстановлении высокооплачиваемых государственных должностей! «Поначалу весь этот маскарад вызывал улыбку, однако скоро к нему привыкли», – читаем в мемуарах Фуше. Моле, со своей стороны, добавляет: «Бонапарт испытывал неловкость, представая перед республиканцами и солдатами своей армии во всем великолепии верховной власти». Сдержанное негодование проявляли не только военные, но и буржуазия. Многие с беспокойством наблюдали за возвращением эмигрантов. Кто еще выиграет от восстановления дворянства, как не старая аристократия? Фьеве зрел в корень; в декабрьской заметке 1802 года, анализируя реакцию общественности, он писал: «Нелегко понять, каким образом создается или воссоздается знать, если титулы, первоначально соответствовавшие занимаемой должности, а затем, по причине злоупотреблений, превратившиеся в персональные и наследственные, могут возродиться на том этапе, на каком они были упразднены».
Между тем возрождение монархических форм власти сделал о восстановление дворянства неизбежным. Декрет от 30 марта 1806 года, закрепивший за членами императорской семьи княжеские титулы, нанес первый урон принципу равенства: «Положение принцев, призванных править огромной империей, укрепляя ее союзами, и положение остальных французов никак не могло быть равноправным». Подтверждением этому служила матримониальная политика раздающего короны императора. Что уж говорить о других изданных в тот же день декретах? Принцесса Полина и ее супруг, принц Боргезе, получили Гасталийское княжество, принц Иоахим Мюрат – Клевское и Бергское княжества, Бертье удостоился Нёшатель. На территории Пармы и Пьяченцы возникли три графства, так называемые большие феоды. «Мы оставляем за собой право даровать вышеозначенные феоды кому пожелаем, объявляя их наследственными владениями, переходящими по наследству как законным, так и внебрачным потомкам мужского пола», – заявлял Наполеон. Это ли не возрождение дворянства, хотя бы и с помощью чужеземных феодов?
Но решительный и бесповоротный шаг был сделан императором два года спустя. Декрет от 1 марта 1808 года восстановил все старые дворянские титулы, за исключением виконта и маркиза. Высшие должностные лица Империи носили титулы принцев. К ним почтительно обращались «ваше высочество». Министры, сенаторы, пожизненные государственные советники, председатели Законодательного корпуса и архиепископы были графами. Председатели избирательных коллегий, первые председатели кассационного суда и Счетной палаты, епископы и мэры 37 славных городов получили баронство. Предполагалось также восстановление титула шевалье. Возрождение атрибутов старой аристократии сопровождалось восстановлением геральдического права. Учрежденный вторым декретом 1 марта 1808 года Совет юстиции титулов, в составе великого канцлера, трех сенаторов, двух государственных советников, одного генерального прокурора и одного генерального секретаря, рассматривал спорные геральдические вопросы и представлял свои решения на утверждение императору. Наполеон нашел остроумный компромисс между слабостью французов к почестям и провозглашенным в 1789 году равенством. Титул дворянина Империи не предоставлял никаких привилегий, не освобождал от уплаты налогов и исполнения законов. Иными словами, он не мог повлечь за собой восстановление феодальных прав. Хотя новые должностные лица нередко получали высокие оклады, эти оклады не были платой за соответствующий титул. Земельное владение, название которого иногда присоединялось к титулу, находилось за пределами Франции.
Титулами вознаграждались услуги, оказанные государству в гражданской и военной областях. Они были аналогичны древнеримским знакам отличия, которые не давали ничего, кроме полагавшихся их носителям почестей. Грамота, даровавшая маршалу Лефевру титул герцога Данцигского, раскрывает намерения императора.
«Желая засвидетельствовать нашему кузену, маршалу и сенатору Лефевру расположение за всегда отличавшие его верность и преданность и выразить признательность за выдающиеся заслуги, оказанные им в первый день нашего царствования (то есть 19 брюмера), а также за те, которые он не переставал нам с тех пор оказывать, украсив их недавно очередным блистательным подвигом – взятием города Данцига; желая также увековечить особым титулом это славное и достопамятное событие, мы решили пожаловать и настоящим жалуем ему титул герцога Данцигского с земельным наделом, расположенным в границах наших государств.
Мы желаем, чтобы вышеозначенное герцогство Данцигское стало владением нашего кузена, маршала и сенатора Лефевра, и передавалось по наследству его сыновьям, как законным, так и внебрачным, по праву первородства, в полную их собственность, под ответственность, на условиях и со всеми правами, титулами, почестями и прерогативами, определенными для герцогств конституциями Империи».
Следует особо отметить, что император не пожаловал маршалу ни имения, ни ренты, ни усадьбы в Данциге или его окрестностях. Дарованный титул – не более чем признание ратных заслуг, cognomen, по древнеримскому обычаю. Такого рода пожалования всегда обеспечивались доходами с земель, расположенных за пределами Франции. Этим Наполеон отдавал дань уважения общественному мнению, нетерпимому к любым формам феодализма, но также выражал и твердую решимость связать судьбу нового дворянства с будущим великой Империи.
Эти персональные титулы не наследовались, оставаясь признанием личных заслуг одного человека, а не всей семьи, как прежде. Впрочем, титул переходил по наследству в случае приобретения майората. Такой майорат должен был основываться на капитале, который передавался по наследству. Он мог включать в себя не обремененную ипотекой недвижимость, акции Французского банка или государственную ренту, размеры которой соответствовали титулу. Замысел императора нетрудно угадать. Воспоминания о трудной молодости в разоряющемся накануне Революции дворянстве привели его к мысли восстановить титулы, не возрождая феодализма, и обеспечить их хотя бы доходами от майората.
Такое доступное для всех дворянство рекрутировалось главным образом из среды военных, функционеров и нотаблей, правда, со значительной диспропорцией в соотношении: 59 процентов приходилось на военных, 22 – на функционеров (государственных советников, префектов, епископов, судейских) и лишь 17 процентов – на нотаблей (в эту группу входили также служащие государственных учреждений, сенаторы, члены избирательных коллегий, мэры). Доля коммерсантов, промышленников, людей искусств и представителей свободных профессий (врачей, адвокатов) была незначительной.
Скрытое недовольство, и в этом нет ничего удивительного, исходило именно из этих кругов. «Одним из неотъемлемых принципов торговли является то, что ею могут заниматься лишь равноправные люди. Наполеон же во что бы то ни стало стремился к установлению иерархии», – записал в дневнике Оттингер. «Финансисты выражают недовольство, – добавлял Фьеве, – тем, что социальные различия, основанные на воспоминаниях о классовом расслоении и служебном положении, оттесняют их на задний план».
Труднее понять чувства других нотаблей, поскольку дворянство присуждалось, как правило, автоматически, вместе с должностью сенатора, государственного советника и т. п. Лишь в отношении к майорату можно судить о характере вызываемого им интереса. Не исключено, что у нотаблей он был не столь велик, как можно было бы предположить. Между тем Совет юстиции титулов очень быстро заработал с перегрузкой. Так, на заседании 28 октября 1808 года рассматривался вопрос о присуждении майоратов графам Лафорету, Шовлену, Мероду де Вестерлоо, Даржюзону, председателю избирательной коллегии департамента Мэн-и-Луара Контаду, главному королевскому казначею Эстеву, аудитору Государственного совета Перего, председателю избирательной коллегии департамента Финистер Вальдарж-Серрану, камергеру Мерси д'Аржанто, мэру Монса Дювалюде Больё и т. д. Среди баронов, дела которых рассматривались Советом в тот день, было 9 префектов, 10 членов избирательных коллегий, несколько судейских. Правда, было и много неявившихся на заседание. Почему бы это?
Ажиотаж по поводу титулов разгорелся и среди военных. «Через мои руки прошло множество прошений, – свидетельствует член Совета юстиции титулов Паскье, – с ходатайствами о продвижении в дворянстве, словно речь шла о присвоении очередного воинского звания». Заигрывая со старой аристократией, Наполеон надеялся объединить ее с новой: на 23 процента древних родов приходилось 58 процентов бюргерских. Однако последние, хотя и составляли большинство, с беспокойством следили за возрастанием роли старой знати при дворе и префектурах. Возобновилась борьба самолюбий, воскресла взаимная ненависть. Не было ли создание дворянства Империи лишь предлогом для возведения прежних хозяев жизни на вершину иерархической лестницы? Судя по некоторым отчетам префектов, содержащих анализ общественного мнения, такое предположение имело реальные основания. И все же Наполеону не вполне удалось привлечь на свою сторону старую элиту. Нет слов, дворянство Империи пестрит выдающимися именами: Ноайль, Монморанси, Тюренн, Монтескью. Разумеется, немалую роль в переходе потомственной аристократии на службу Империи сыграли престижные должности и высокие оклады. Но был ли искренним этот союз? Паскье признавался, что согласился на сотрудничество с Наполеоном исключительно ради того, чтобы обеспечить себе будущее.
По-видимому, следует признать, что попытка создания дворянства в Империи была ошибкой и окончилась провалом. Ошибкой постольку, поскольку брюмерианцы не стремились к возрождению аристократии. Доказательством может служить сопротивление Законодательного корпуса учреждению ордена Почетного легиона. Эгалитаризм во Франции имеет тенденцию к нивелировке по нижнему социальному уровню: легче уничтожить вышестоящие классы, чем сравняться с ними. В этом – причина негодования, вызванного не лишенным, впрочем, здравомыслия призывом Гизо, который в эпоху Июльской монархии на требования понизить имущественный ценз ответил: «Обогащайтесь!» Нотабли приняли подаренные им почести и возомнили себя знатными. Паскье иронизирует над Гарнье, который критически относился к институту дворянства, однако «графский титул куда как нежно щекотал его ухо». Словом, выдвиженцы не испытывали признательности режиму.
В этом – причина катастрофы: дворянство Империи не стало опорой династии, на что так надеялся Наполеон. В 1812 году он признался Коленкуру, что институт дворянства не оправдал его ожиданий. Два года спустя старое дворянство вернуло себе все прежние титулы, а новое предало императора забвению.