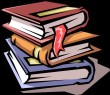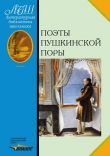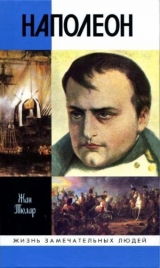
Текст книги "Наполеон, или Миф о «спасителе»"
Автор книги: Жан Тюлар
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
Генералу удалось оправдаться. 20 августа ему была возвращена свобода: опасаясь пьемонтского контрнаступления, комиссары Конвента дорожили Бонапартом. В его советах нуждался Дюмербьон, назначенный главнокомандующим альпийской и итальянской армиями. Захватив по рекомендации Наполеона Кайро, он подготовил превосходный плацдарм для последующего наступления на Пьемонт. «Мудрым маневрам, обеспечившим нашу победу, – признавался позднее Дюмербьон, – я обязан таланту генерала Бонапарта». По совету Бонапарта он собирался уже начать новое наступление с целью расчленения сардинцев и австрийцев, однако этот план был отвергнут Карно.
Оставался еще один вариант: готовящаяся экспедиция на Корсику. Мысль о ней не покидала Бонапарта, однако – увы! – он так и не принял в ней участия. Впрочем, у него появилась надежда утешиться. В Марселе через посредничество своего брата Жозефа он познакомился с Дезире Клари, девушкой из богатой семьи, состояние которой было нажито на производстве мыла и торговле тканями с Левантом. Жозеф женился на старшей сестре, Жюли, а Наполеон заручился согласием на брак с младшей.
Однако злой рок не унимался. Бонапарт узнает, что его вычеркнули из списка офицеров артиллерии и назначили командиром пехотной бригады, направляемой в Вандею. Решение принято: он поедет в Париж, объяснится и попросит направить его в Прованс. Обри, в прошлом капитан артиллерии, стал влиятельным человеком в Комитете общественного спасения, где он ведает вопросами обороны. К нему-то и следует обратиться. Однако Обри не спешит протежировать Бонапарту, подозревая его в симпатиях к якобинцам. Во время Директории он будет «фрюктидоризован» [6]6
То есть обвинен в контрреволюционной деятельности после демократического переворота 18 фрюктидора (1 сентября 1797 года).
[Закрыть]и умрет в ссылке.
Чтобы не ехать в Вандею, Бонапарт добивается разрешения уйти в отпуск. Впрочем, похоже, что он и взаправду болен. Он угнетен охлаждением отношений с Дезире Клари и своим материальным положением. На улицах Парижа Бонапарт являет собой забавную фигуру – живое воплощение отчаяния, ходячее разочарование. Будущая герцогиня д'Абрантес, знавшая его тогда по Парижу, сохранила для нас его живописный портрет: «В ту пору Наполеон выглядел на редкость непривлекательно, почти не следил за собой, и его растрепанные, небрежно напудренные волосы придавали ему неряшливый вид. Как сейчас вижу его, неуверенным и нетвердым шагом пересекающего двор гостиницы "Транкилите", в надвинутой на глаза неказистой круглой шляпе с полями, ниспадающими на плечи сюртука, как собачьи уши. Он размахивает длинными худыми и грязными руками без перчаток, ибо перчатки, по его словам, – ненужная роскошь, на нем плохо начищенные сапоги… Он худ, лицо его желто, – словом, вид у него болезненный».
Похоже, что именно в этот период он набрасывает фрагменты романа «Клиссон и Евгения». Клиссон – это конечно же сам Бонапарт.
«Клиссон был рожден для ратных подвигов. С младых ногтей он познакомился с жизнеописаниями выдающихся полководцев. Его сверстники еще сидели за партами и бегали за девчонками, а он уже размышлял о началах военного искусства. В том возрасте, когда начинают носить оружие, каждый его шаг был ознаменован блистательными деяниями. Победы сменяли одна другую, и имя его было ценимо народом, видевшим в нем самого ревностного своего защитника».
Евгения – это Дезире.
«Ей было шестнадцать лет. Нежная, добрая и живая, среднего роста. Не дурнушка, но и не красавица, она отличалась добротой, мягкостью и отзывчивой нежностью».
Раненный в сражении Клиссон посылает своего адъютанта Бервиля с весточкой к Евгении. Бервиль и Дезире влюбляются друг в друга. Клиссон догадывается о постигшем его несчастье и принимает решение погибнуть в предстоящем сражении: «Прощай, ты, кого я избрал мерилом своей жизни, прощай, подруга моих счастливых дней! В твоих объятиях я познал высшее блаженство. Я устал от жизни и ее благодеяний. Что ждет меня в будущем помимо скуки и пресыщения? К двадцати шести годам я до дна испил чашу эфемерной славы, но благодаря твоей любви я познал радость мужского счастья. Воспоминание о нем гложет мое сердце. Будь счастлива и забудь о бедном Клиссоне! Поцелуй моих сыновей! Да не унаследуют они пылкой души своего отца! А не то они, как и он, падут жертвами людей, славы и любви».
Прощание Клиссона, которому суждено умереть от «тысячи ран», – это и прощание Бонапарта с жизнью. Вновь он погружается в мысли о самоубийстве. Несмотря на гений, жребий выпал ему роковой. Он проиграл всё.
Глава IV. ЧЕЛОВЕК БАРРАСА
«Париж вновь предался безудержному веселью. Правда, пронесся голод, однако Перрон по-прежнему искрился светом, в Пале-Рояле было многолюдно и спектакли шли при полном аншлаге. Затем начались балы жертв диктатуры, на которых бесстыдное сладострастие срывало во время оргий свой ханжеский траурный наряд. Вскоре после Термидора некий человек, которому в ту пору было десять лет, отправился с родителями в театр, при выходе из которого был потрясен впервые увиденной им вереницей роскошных экипажей. Какие-то люди в ливреях, снимая шляпы, предлагали выходившим из подъезда зрителям: „Не угодно ли экипаж, сударь?“ Ребенок не сразу разобрался в этих новых формах общения. Он обратился за разъяснением к родителям, но узнал от них лишь то, что после казни Робеспьера произошли большие перемены».
Так завершает Мишле свою «Историю Революции». В самом деле, слишком быстро обнаружились истинные намерения тех, кто одержал победу над Робеспьером, кто получил прозвище «термидорианцев», состоявших из уцелевших жирондистов, осмотрительных дантонистов и раскаявшихся монтаньяров во главе с «молчаливым большинством» Болота. Программа этих термидорианцев получила емкое выражение в словах, оброненных Буасси д'Англа: «В стране, управляемой собственниками, царит общественный порядок, в той же, где правят неимущие, властвуют законы природы». А это значит, что Революции пора остановиться, так и не удовлетворив требований санкюлотов. Предместья столицы с горечью констатируют это. Голод, явившийся следствием неурожая и отмены продовольственных реквизиций, неслыханная дороговизна и рост безработицы вновь выгоняют на мостовые «патриотов». 12 жерминаля III года (1 апреля 1795 года) они штурмуют Конвент, однако из-за плохой организации рассеиваются под натиском отрядов Национальной гвардии. 1 прериаля (20 мая) под лозунгом «Хлеба и конституции 1793 года!» вспыхивает новое восстание, и вновь сказывается отсутствие руководителей. Верные Конвенту войска и батальоны Национальной гвардии, прибывшие из западных секций, без труда разгоняют манифестантов. Сегодня эти «последние дни революции» воспринимаются скорее как хлебные бунты, нежели как восстания с политическими требованиями. Тем не менее последовавшие за ними репрессии безжалостны. Личный состав секций уничтожен, санкюлоты обезоружены, Париж сломлен и в течение тридцати лет ни разу уже не поднимет головы.
«Лишь частная собственность может служить основой земледелия, промышленности, производства и общественного порядка», – не устают повторять термидорианцы. Словом, защита собственности, той, разумеется, и об этом следует помнить, которая была распределена в 1795 году. Термидорианцы – это партия дельцов, нажившихся на Революции, тех, кто скупал земли церкви и дворян-эмигрантов, спекулировал на армейских поставках или на падении курса ассигнатов, прибрал к рукам ключевые должности. Главный постулат их программы – ни в коем случае не ставить под сомнение правомочность свершившейся распродажи национального имущества. Программа поддерживается зажиточным крестьянством – состоятельными владельцами этого имущества. Для ее реализации важно исключить саму идею реставрации старого режима. В термидорианской фракции слишком много цареубийц, чтобы она желала возвращения Людовика XVIII, брата короля-мученика, даже если его воцарению будут содействовать самые умеренные из его сторонников, прочно обосновавшиеся на западе, в центре и на юге страны.
Проголосовав за конституцию 1795 года, вверившую исполнительную власть пяти директорам, а законодательную – двум Советам: Совету старейшин и Совету пятисот, Конвент заявил о самороспуске. Назначены новые выборы. Между тем о консервативных настроениях термидорианцев еще неизвестно провинциальным нотаблям, которые связывают с ними крайности террора. Не приведет ли это недоразумение к лавинообразному росту монархических настроений, которые если и не сметут буржуазный парламентаризм, то уж, во всяком случае, разделаются с теми, кто одержал победу над Робеспьером? Декреты 22 и 30 августа, объявившие, что в новые Советы должны быть избраны две трети из состава прежнего Конвента, преследовали цель вывести из этих собраний прежде всего «монархистов» и «фельянов» – сторонников конституционной монархии, что грозило новым парижским восстанием.
Генерал Вандемьер
Париж был свидетелем восстания санкюлотов. Теперь, в 1795 году, ему предстояло стать ареной выступлений роялистских секций. Декрет о переизбрании двух третей депутатов вызвал решительное неодобрение общественности. В нем прежде всего усмотрели стремление бывших депутатов Конвента остаться у власти. В Париже его отвергли все секции, кроме одной. Для умеренных роялистов настал благоприятный момент попытаться силой захватить власть, которой они уже не надеялись добиться законным парламентским путем.
11 вандемьера (3 октября 1795 года), получив известие о начавшихся в Дре волнениях, по инициативе секции Лe Пелетье, где находилась Биржа, семь парижских секций призвали к восстанию. Движение объединило всех недовольных. Главнокомандующий вооруженными силами, бывший дворянин Мену, с трудом скрывал свои симпатии к инсургентам. Поэтому проведение операции Конвент поручил штабу из шести человек во главе с героем 9 термидора Баррасом.
«Нам предстояло сразиться не с введенными в заблуждение патриотами, – читаем в опубликованных под его именем мемуарах, – а с многочисленными батальонами национальной гвардии. Эти достойные обыватели, величавшие себя и, быть может, на самом деле являвшиеся республиканцами, не понимали, что выбрали в вожди трусливых, облеченных привилегиями заговорщиков. Для победоносного сражения с серьезным соперником нет ничего лучше, как противопоставить ему его естественного противника – истинных патриотов, арестованных во время термидорианской контрреволюции».
Попросту Баррас рассчитывал укомплектовать вверенные ему войска якобинскими генералами, без дела прозябавшими в Париже со времени Термидора. Среди них был и Бонапарт, с которым Баррас познакомился при осаде Тулона и который неустанно напоминал ему о себе в надежде получить должность командира. Его разыскали. Лишь коварством редактора «Мемуаров Барраса» можно объяснить утверждение, что перед этим Бонапарт будто бы безуспешно сносился с руководителями секции Ле Пелетье. Со своей стороны, интерпретируя события 13 вандемьера, Бонапарт также существенно исказил факты. Если верить «Мемориалу», члены Конвента будто бы настойчиво просили его сменить Мену. И будто бы он долго колебался: «Стоило ли заявлять о себе, выступать от имени Франции? Победа заключала бы в себе нечто постылое, тогда как поражение обрекло бы грядущие поколения на неизбывное проклятие. С другой стороны, что сталось бы с великими истинами нашей Революции в случае кончины Конвента? Его поражение привело бы к окружению по периметру всей нашей границы и увековечению позора и рабства родины».
Поэтому он решается. Принимает командование, однако ставит условия. Предоставим ему слово: «Генерал живо обрисовал невозможность проведения столь сложной операции совместно с тремя представителями Конвента, обладавшими всей фактической полнотой власти и ограничивавшими его инициативу. Он добавил, что был свидетелем события, произошедшего на улице Вивьен, что виновные во всем случившемся комиссары нашли, однако, в членах Собрания оправдавшую их поддержку. Возмущенные таким оборотом дела, но неправомочные сместить означенных комиссаров без одобрения Собрания, члены Комитета, для пользы дела, дабы не терять времени, приняли решение ввести генерала в состав Собрания. Поэтому они предложили Конвенту Барраса в качестве главнокомандующего, а Наполеона назначили командующим, освободив его тем самым от опеки трех комиссаров, не дав последним повода к выражению недовольства».
Ни один из приведенных здесь фактов не соответствует действительности. Конвент не назначал Бонапарта командующим. Его имя, пока что малоизвестное, в отличие от имени Барраса, который прославился тем, что спас Конвент в эпоху Термидора, не упоминается ни в стенограмме заседания Собрания, ни в «Мониторе» [7]7
Правительственная газета.
[Закрыть]. Был ли он 13 вандемьера хотя бы заместителем командующего? Скорее всего его просто призвали в армию, подобно многим другим оставшимся не у дел офицерам. Документы тех лет лаконичны: «Комитеты общественного спасения и общей безопасности постановляют направить генерала Бонапарта во внутренние войска под командованием народного представителя Барраса».
Последний, в свою очередь, тоже искажает истину, утверж-дая: «В течение всего дня Бонапарт лишь единожды покинул мой штаб на площади Карузель, чтобы отбить Новый мост, потерянный Карто». Похоже, что приказы отдавал все же Наполеон. Между тем силы, находившиеся в распоряжении Конвента, были ничтожны: тысяч пять-шесть солдат без артиллерии и боеприпасов. Именно Бонапарт приказал Мюрату, командиру эскадрона стрелков в количестве 21 человека, захватить полевые орудия на площади Саблон и доставить их в Тюильри. Именно он отдал необходимые распоряжения по организации обороны Конвента, установив артиллерию на ведущих к Тюильри проспектах, что не позволило инсургентам сосредоточиться перед окнами дворца, как это случилось 10 августа. В 1792 году он не без пользы для себя присутствовал при падении монархии. Вот почему из-за неблагоприятной топографии местности он не расстрелял из орудий роялистов, расположившихся на ступенях церкви Святого Рохаса, так что Баррасу, появлявшемуся на решающих участках сражения, приходилось подбадривать верные Конвенту войска. Победа далась легко из-за низкой боеспособности национальных гвардейцев, отсутствия у них артиллерии и некомпетентности их командира – Даникана.
Впервые после Тулона Бонапарт оказался в стане победителей. 17 вандемьера спасшие Конвент офицеры были представлены Собранию. Фрерон напомнил, что Обри сместил большинство из них как патриотов. «Знайте же, – гремел он, – что генерал артиллерии Бонапарт, сменивший Мену в ночь на 12-е и имевший в своем распоряжении лишь утро 13-го для отдачи мудрых приказов, в эффективности которых вы имели возможность убедиться, был переведен из артиллерии в пехоту». Ищущий руки очаровательной Полины, Фрерон, при содействии Барраса, явно протежирует генералу Бонапарту – своему будущему шурину. Последний официально назначается заместителем командующего внутренними войсками. 24 вандемьера он становится дивизионным генералом. Утвержденный в этом звании, он принимает командование вместо Бар-раса, ушедшего в отставку 3 брюмера IV года. Ему поручено следить за порядком в столице, что свидетельствует о доверии, хотя эта должность и утратила былое значение после разгрома правой и левой оппозиций. Он расформировывает Национальную гвардию, реорганизует призванный сменить ее полк жандармерии, очищая его от роялистов – ставленников Обри. Ему приходится считаться с очередным вздорожанием хлеба из-за недорода, с нехваткой дров, с растущей в результате углубляющегося кризиса безработицей. Чтобы не дать якобинцам воспользоваться недовольством народа, толпящегося у булочных и на рынках, он закрывает их якобинскую секцию в Пантеоне. Для обезвреживания главарей использует на улицах Парижа войска, численность которых доходит до сорока тысяч – цифра по тем временам весьма внушительная. Приведем в этой связи один вошедший в «Мемориал» анекдот: «В те времена Наполеону приходилось прежде всего противостоять голоду, непрестанно возбуждавшему народные волнения. Как-то в один из дней, когда по обыкновению не завезли хлеба и у дверей булочных скопилась толпа, Наполеон патрулировал город в сопровождении нескольких офицеров своего штаба. От толпы отделилась большая группа людей, в основном женщины, которые окружили его и стали наседать, громогласно требуя хлеба. Толпа множилась, угрозы делались все более свирепыми, обстановка накалилась до предела. Некая необъятных размеров женщина более других привлекала внимание своим видом и бранью. "Эти эполетчики издеваются над нами! – кричала она. – Им бы только набивать брюхо и жировать. Им плевать, что несчастный народ подыхает с голоду". Наполеон спросил, обращаясь к ней: "Мамаша, посмотри, кто из нас толще, ты или я?" А в те времена Наполеон был очень худым. "Я был худ как щепка", – вспоминал он. Толпа разразилась хохотом, и офицерский патруль двинулся дальше».
К этому же периоду относится его связь с Жозефиной Таше де ла Пажри, вдовой гильотинированного генерала и матерью двоих детей. Он познакомился с ней у Барраса накануне Вандемьера. Забыты Дезире и несколько любовных увлечений, которые всеми правдами и неправдами навязывала ему герцогиня д'Абрантес. Жозефине тридцать три года, и, если верить современникам, ее красота уже слегка поблекла. «Она давным-давно пережила пору расцвета», – пишет Люсьен. Это была женщина с «желтыми, гнилыми, дурно пахнущими зубами», – по мнению одного, с «малопривлекательной грудью и слишком крупными ступнями ног», – по мнению другого. Жозефина не смогла бы нравиться, если бы не умела быть соблазнительной. Ей удалось пленить Барраса, сделавшего ее одной из своих любовниц. Этим, похоже, она и загипнотизировала Бонапарта, который надеялся с ее помощью добиться от ставшего после Вандемьера всемогущим Барраса солидной должности. Но неожиданно к расчету примешивается удовольствие. К тому же Жозефине отнюдь не требовалось проявлять все свои таланты, которыми наделил ее вышедший в те годы памфлет «Золоэ», чтобы воспламенить такого малоискушенного в сердечных делах человека, как Бонапарт.
«Я просыпаюсь с мыслью о тебе, – пишет он ей. – Твой пленительный образ и воспоминания о вчерашнем вечере не покидают меня. Милая, несравненная Жозефина, что вы со мной делаете? Вы сердитесь? Вы грустны? Взволнованны? Моя душа истомилась от горя, ваш друг не ведает покоя. Но еще мучительнее, когда, вверяясь охватившему меня чувству, я пью с ваших губ, из вашего сердца обжигающий меня пламень. Ах! Лишь этой ночью я окончательно понял, что вы и ваш облик – не одно и то же. Ты выезжаешь в полдень. Через три часа я увижу тебя. Но прежде, mio dolce amor, прими от меня миллион поцелуев, но не отвечай на них, ибо они воспламеняют мою кровь».
Да, Бонапарт – не Шодерло де Лакло. Удручающая пошлость этого и последующих писем – свидетельство неподдельной страсти. Не стал ли брак между Наполеоном Бонапартом и Жозефиной Богарне, заключенный 9 марта 1796 года, убедительным тому доказательством? Несомненно, что благодаря этому браку генерал рассчитывал установить более тесные связи с правившей тогда во Франции группировкой, одной из тайных гурий которой стала Жозефина. Однако вряд ли Баррас навязал ему эту брачную церемонию в обмен на должность командующего Итальянской армией. Чувство впервые сыграло в жизни этого прагматика заслуживающую внимания роль. Следует признать также, что союз этот немного удивил кое-кого из скептически настроенных современников.
Итальянская армия
Война продолжалась. Да, Испания, Голландия и Пруссия вышли из коалиции, призванной задушить французскую революцию. Однако главный соперник, Англия, по-прежнему оставался за пределами досягаемости. Следовало поэтому нанести удар по ее континентальной союзнице – Австрии. А что если наиболее уязвимое звено антифранцузского альянса – Италия? Бонапарт уже излагал этот план при Робеспьере. Теперь он вновь предложил его Директории, перед которой ему по долгу службы ежедневно приходилось отчитываться, докладывая об обстановке в столице. Карно по-прежнему враждебно относился к идее наступления на Пьемонт, не говоря уже об искушенном скептике, главнокомандующем Итальянской армией Шерере, который писал Массена: «Мне нужен доклад д'Обернона (комиссара-распорядителя), чтобы заткнуть рот здешним парижским болтунам, утверждающим, будто мы могли добиться гораздо большего. Вы догадываетесь, что я имею в виду Бонапарта, донимающего Директорию и министра своими нелепыми проектами и строящего из себя человека, к мнению которого прислушиваются».
Массена считал Бонапарта интриганом, Ожеро – глупцом. Шерер, уставший от обвинений в адрес Итальянской армии, 4 февраля подал в отставку. Похоже, что, получив его письмо, директора вызвали Бонапарта, который в очередной раз изложил им свой план. Как пишет в своих «Мемуарах» Jlaревельер-Лепо, его идеи в целом были одобрены, и по предложению Карно Бонапарт сменил Шерера. Баррас утвердил это назначение.
Разработанный Карно план предусматривал наступление на Вену силами трех армий под командованием Журдана, Моро и Бонапарта. Первая восьмидесятитысячная армия должна была двигаться по Майнской долине. Вторая, тоже восьмидесятитысячная, – по Дунайской – традиционные маршруты, опробованные еще в XVII веке. Наконец, третья – по долинам По и Австрийских Альп. На первом этапе кампании Итальянской армии отводилась роль статиста, однако Бонапарт настоял на том, чтобы она также участвовала в военных операциях.
26 марта он в Ницце и уже на следующий день выслушивает доклады Массена, Серюрье, Лагарпа и Ожеро. К этому их обязывают его звание и должность, хотя легенда и приукрасила их первую встречу 28-го Бонапарт докладывает Директории, что встретил в войсках весьма радушный прием, констатируя при этом бедственное положение, в котором находится вверенная ему армия. Впрочем, не будем преувеличивать. Комиссар Директории Саличетти, которого мы вновь находим в окружении Бонапарта, уже вовсю трудится над мобилизацией необходимых ресурсов. Существует и другая легенда – знаменитое воззвание: «Солдаты, вы раздеты и голодны». Она родилась на Святой Елене и, весьма вероятно, являет собою сжатое изложение куда более пространных речей, произносившихся перед полубригадами, выстроенными для спешного смотра накануне наступления.
Не станем вдаваться в детали кампании, вызывающей восхищение всех военных историков.
Австрийская и сардинская армии численностью до семидесяти тысяч человек обороняли внутренние склоны Альп и Апеннин по фронту от Кунео до Генуи, контролируя подступы к Пьемонту. У Бонапарта было тридцать шесть тысяч человек. Его план состоял в том, чтобы расчленить союзнические армии. Совершив бросок через Кадибонское ущелье и Бормиданскую долину, он вклинился между ними и разгромил на своем правом фланге австрийцев (12 апреля при Монтенотте и 14 апреля при Дего), а 13 апреля, на левом фланге, – сардинцев (при Миллезимо). Отрезанные от своих австрийских союзников войска короля Сардинии потерпели 21 апреля еще одно поражение при Мондови и через шесть дней подписали в Чераско акт о капитуляции. Дорога на Пьемонт была открыта.
Расправившись с сардинцами, Бонапарт повернул против австрийцев, поджидавших его у Павии, на левом берегу По. После переправы через реку у Пьяченцы он как из-под земли возник перед ними с юга. Не желая быть сброшенными в воду, австрийцы без боя отошли к реке Адда, где 10 мая в кровопролитном сражении Бонапарт разгромил их на мосту Лоди. Так, без особых усилий, Ломбардия была очищена от австрийцев. Жители Милана приветствовали Бонапарта как освободителя. После того как генерал поставил во главе созданного им муниципалитета умеренных республиканцев – буржуа и либеральных дворян, – Милан стал центром притяжения всех патриотических сил полуострова. Охваченные страхом герцоги Пармский и Моденский поспешили склонить Бонапарта к заключению мира, на который он согласился в обмен на тяжкие контрибуции. Лишь малая часть из них дошла до Парижа. 13 мая Бонапарт получил от Карно директиву, предписывающую ему временно отказаться от захвата Тироля. Это распоряжение он выполнил тем более охотно, что Моро и Журдан производили впечатление потерявших инициативу генералов. В директиве сообщалось также, что организация обороны Пьемонта поручается Келлерману, чему Бонапарт решительно воспротивился, объясняя свою позицию необходимостью единоначалия на итальянском фронте. Решительный тон победителя на мосту Лоди, которым он ответил на приказ об ограничении своей деятельности, удивил Директорию, и она уступила. Быстрота, с какой были достигнуты военные успехи, поразила самого Бонапарта. Она упрочила его представление о собственной исключительности и подхлестнула самолюбие. «После Лоди, – скажет позднее Наполеон, – я стал относиться к себе уже не как к рядовому генералу, а как к человеку, призванному повлиять на судьбу народа. Мне показалось, что я смогу сыграть не последнюю роль на нашей политической сцене».
Тем не менее до поры до времени он готов проявлять осмотрительность. Он следует рекомендации Директории, которая, идя на поводу у Ларевельера-Лепо, призывает его «поколебать тиару на голове у так называемого отца вселенской церкви». Французская армия оккупировала Болонью, Феррару и Лонго – папа согласился на переговоры, в ходе которых Бонапарт двурушничает, с одной стороны, обвиняя в письмах к Директории «попов», а с другой – выказывая в переписке с кардиналом
Маттеи бесконечное почтение к святому отцу, то есть демонстрирует скорее дальновидность (он отдает себе отчет в глубокой религиозности итальянцев), нежели собственные убеждения.
Тем временем обстановка на германском фронте резко ухудшилась. 24 августа эрцгерцог Карл нанес поражение Журдану. У Альтенкирхена при отступлении французских войск был смертельно ранен Марсо. В этой неопределенной ситуации Моро предпринял, по его словам, «стратегический отход». После того как австрийцы, ликвидировав угрозу на западе, повернули на юг, положение Бонапарта осложнилось.
Сражение развернулось в Мантуе, крепости, господствовавшей над долинами рек Минчо и Адидже, по которым австрийские войска двигались к Италии. Война длилась шесть месяцев, с 1 августа 1796-го по 2 февраля 1797 года. Семидесятитысячная армия под командованием Вурмзера пыталась освободить осаждаемый Бонапартом город. Армия была разгромлена в сражениях при Лонато и Кастильоне соответственно 3 и 5 августа 1796 года. За пять дней Вурмзер потерял двадцать тысяч пленными и пятьдесят орудий.
Месяц спустя силами Второй армии, насчитывавшей пятьдесят тысяч человек, Вурмзер предпринял новое наступление в долине реки Адидже. 4 сентября упреждающим ударом Бонапарт разгромил при Ровердо его авангард, а через четыре дня отбросил от Бассано и самого Вурмзера. Остатки его армии устремились к Мантуе, которую Бонапарт полностью блокировал после завершающего сражения с Вурмзером, произошедшего 15 сентября. Вся кампания заняла 12 дней.
В ноябре командование Третьей армией, численностью сопоставимой с разбитой армией Вурмзера, было поручено генералу Альвинци. На сей раз почти не имевший резервов Бонапарт оказался в затруднительном положении и вынужден был эвакуировать Верону. Однако на самом деле это была всего лишь военная хитрость. Смелым обходным маневром он атаковал неприятеля с тыла в болотах Арколе. В результате трехдневного сражения Альвинци вынужден был отступить.
В январе 1797 года он предпринял последнюю попытку. Командуя семидесятипятитысячной армией, он опрометчиво разделил ее надвое в надежде окружить Бонапарта. Решающее сражение развернулось 14 января у Риволи в устье Адидже. У Бонапарта было то преимущество, что он хорошо знал местность и имел в своем подчинении таких талантливых командиров, как Жубер и Массена, не говоря уже о незаменимом начальнике штаба Бертье. Ударив с левого фланга, Массена обратил неприятеля в бегство. Атаки кавалерийских стрелков Лазаля выправили положение в центре и на правом фланге французской армии, где Казданович имел численное преимущество. В итоге Бонапарт одержал победу. 2 февраля Мантуя капитулировала. Став полновластным хозяином Северной Италии (папа подписал с Францией Толентинский договор), заручившись нейтралитетом осмотрительного Неаполя, Наполеон 17 февраля двинулся на Вену. Отныне ведущая роль переходит к Итальянской армии, поскольку армии в Германии растрачивают свои силы на отвлекающие маневры. Вена выставила против Наполеона своего лучшего полководца – эрцгерцога Карла. Тщетно. Французские войска прорвали оборону в бассейне рек Пьяве и Тальяменто, а также в Тарвийском ущелье и вышли к Цеммеринскому ущелью, оказавшись в ста километрах от Вены, когда 7 апреля было заключено прервавшее наступательные операции пятидневное перемирие. Вовремя. «Итальянская армия оказалась один на один с могущественнейшей европейской державой», – жаловался Бонапарт. Наконец-то зашевелились Гош и Моро. 13 апреля австрийцы продлили перемирие, которое 18 апреля вылилось в предварительные мирные переговоры, начавшиеся в Леобене. Итак, вопреки планам Директории, именно Бонапарт нанес поражение Австрии. Его победы стали возможны благодаря взаимодействию двух тактических маневров, неизменно застававших неприятеля врасплох: охвату, который позволил Бонапарту почти без боя, благодаря одной лишь выносливости солдатских ног овладеть Миланом, и переброске войск, обеспечивавшей (под прикрытием наступающего авангарда, создающего у противника иллюзию, что он имеет дело с основными силами) нанесение решающего удара по наиболее уязвимому участку обороны. Вся эта стратегия основывалась на выносливости войск. Возьмем для примера дивизию Массена: 13 января она участвовала в боевых действиях в Вероне, затем, пройдя ночью по заснеженным дорогам тридцать два километра, 14-го утром вышла на плато Риволи, где сражалась в течение всего следующего дня, после чего, преодолев за тридцать часов более семидесяти километров, 16-го в точно назначенный срок подошла к Мантуе и обеспечила французам победу, овладев замком Фаворите. За четыре дня дивизия преодолела более ста километров и приняла участие в трех сражениях.
Политические итоги победы
В чем главная причина этих поразительных успехов? В преданности командиру. Ибо Бонапарт сразу же сумел завоевать авторитет у солдат, не только заинтересовав их материально (выплачивая, например, половину жалованья наличными), но и создав в Итальянской армии особый психологический климат. Это стало очевидно в 1797 году, когда из Германии подошло подкрепление: прибывшие далеко не сразу освоились в новой обстановке.