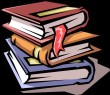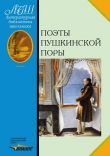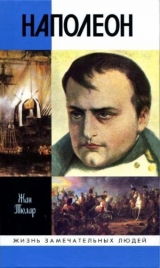
Текст книги "Наполеон, или Миф о «спасителе»"
Автор книги: Жан Тюлар
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
Глава VI. КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БЛОКАДА
После Тильзита Наполеону оставалось покорить лишь Англию. Побеждая на суше, он не рассчитывал победить на море. Катастрофа у мыса Трафальгар и слишком медленное возрождение французского флота препятствовали прямому нападению на Британские острова. Отсюда – замысел торговой войны. Намереваясь сокрушить промышленность и торговлю Англии, составлявшие основу ее могущества, Наполеон призывал, а то и вынуждал европейские страны не принимать британские торговые суда и доставляемые ими грузы. После расторжения Амьенского соглашения Бонапарт попытался посредством «coast system» (системы берегового контроля) закрыть английским судам доступ к берегам, находящимся в сфере его влияния. Он руководствовался охранительными мотивами, стремясь оградить французскую промышленность от наплыва конкурентоспособных английских товаров. Берлинский и миланский декреты, распространив блокаду на весь европейский континент, превратили ее в краеугольный камень всей внешней политики Наполеона. Отныне любое государство, не участвующее в континентальной блокаде, превращалось во врага: невозможно было сохранять нейтралитет в том противостоянии, которое Наполеон навязал «океанократам».
Из предыстории блокады
Отечественная история научила французов видеть в кредите хрупкое основание, разрушение которого неминуемо влечет за собой кризис основывающейся на нем политической формы правления. По их мнению, ахиллесовой пятой Англии была ее финансово-кредитная система. Многие экономисты, от Томаса Пейна до Лассаля (его трактат «Финансы Англии» вышел в 1803 году), указывали на непомерно разросшийся государственный долг, неэффективность бумажных денег и армию людей, находящихся на грани безработицы. Такие ученые, как Саладен и Монбрион, приходили к выводу, что столь импозантное с виду английское процветание – не более чем мыльный пузырь. Казалось, стоит перекрыть Великобритании доступ на европейский континент, и она обанкротится. В борьбе с надменным Альбионом Директория уже пыталась взять на вооружение эту политику, однако для ее проведения ей не хватило средств. После расторжения Амьенского договора Наполеон вновь вернулся к этой идее. Термин «континентальная блокада» был впервые употреблен в 15-й сводке Великой Армии, опубликованной 30 октября в «Мониторе». Однако еще раньше эта унаследованная от Директории мысль прозвучала в импровизированной речи Бонапарта, произнесенной им 1 мая 1803 года в Государственном совете, накануне разрыва с Англией. Мио де Мелито запечатлел ее для нас в своих мемуарах: «Нам предстоит еще оплакать наши потери на море, быть может, даже потерю наших колоний, зато мы укрепимся на суше. Мы уже завоевали на побережье достаточно обширные пространства, чтобы внушать страх. Мы и впредь будем расширять наши владения. Мы создадим более надежную систему берегового контроля, и Англия кровавыми слезами оплачет развязанную ею войну». По сути, речь шла о том, чтобы повернуть против Англии оружие, которое она первой пустила в ход еще во времена Столетней войны и применяла вплоть до царствования Людовика XVI. Она вновь прибегла к нему 16 мая 1806 года, объявив в правительственном приказе блокаду французского побережья. Этот скорее театральный жест позволил экипажам британских крейсеров шарить в трюмах кораблей, преимущественно американских, поддерживавших торговые отношения с Империей. После Йены, 21 ноября 1806 года, посчитав себя достаточно могущественным для нанесения ответного удара, Наполеон подписал берлинский декрет, вводящий режим континентальной блокады. Термин «блокада Англии» был бы, однако, предпочтительнее, поскольку «континентальная блокада» традиционно ассоциировалась с действиями британского военно-морского флота. Решение императора было воспринято как неожиданное и в известном смысле безапелляционное. Похоже, Наполеон даже не потрудился согласовать этот вопрос с торговыми палатами. Впрочем, последние косвенно заявили о своих интересах. 23 нивоза XII года Делессер потребовал введения запрета на увеличение налогообложения в целях поощрения нарождающейся отечественной промышленности. В 1806 году блокаду восприняли как средство вдохнуть жизнь в экономику, потрясенную кризисом, разразившимся в результате банкротства торговых объединений, которые неосмотрительно поддержало государственное казначейство. Словом, реакция владельцев мануфактур была позитивной, а коммерсантов, во всяком случае, не враждебной, хотя они и были задеты ею в первую очередь. В предновогодние дни 1806 года позиция франка ощутимо окрепла. «В Париже процентная ставка в коммерческих операциях повысилась», – сообщалось в одном из отчетов Торговой палаты.
Континентальная блокада
В преамбуле к берлинскому декрету император заявлял, что вопреки «человеческому праву, обязательному для всех цивилизованных народов», Англия, объявляя «врагами» всех подданных враждебного ей государства, арестовывает экипажи торговых судов и даже их пассажиров. Она распространяет на частную собственность право завоевания, которое применимо лишь в отношении государственного имущества враждебной державы, она объявляет блокаду «территориям, которые не смогла бы контролировать даже объединенными вооруженными силами – целым побережьям и всей Империи». И добавляет: «Принимая во внимание, что чудовищное злоупотребление правом блокады имеет целью воспрепятствовать общению между народами и возвести промышленность и торговлю Англии на руинах континента, что естественной самозащитой было бы воспользоваться в борьбе с врагом его же оружием, мы решили применить к Англии те методы, которые она закрепила в своем морском праве, и постановили: Статья I. Британские острова объявляются зоной блокады». Таким образом, в тексте берлинского декрета говорится о блокаде Англии, а не континента. Однако, не обладая достаточно мощным флотом, Наполеон вынужден был закрыть континент для английских судов и товаров. Отныне «любые формы торговых отношений с Англией запрещаются; любой английский подданный, задержанный в странах, оккупированных французскими войсками или войсками ее союзников, будет арестован как военнопленный; на любой магазин, товар или собственность, принадлежащие подданному Англии, будет наложен секвестр. Торговля английскими товарами запрещена, любой товар, принадлежащий Англии, произведенный на ее фабриках или доставленный из ее колоний, будет секвестрирован». Текст декрета направлялся «королям Испании, Неаполя, Голландии и Этрурии, подданные которых – такие же, как и мы, жертвы несправедливости и варварства английского морского права». Итак, на морскую блокаду Наполеон отвечает блокадой континентальной. «Море я хочу покорить силою суши», – произнес он знаменитую фразу. Запрет на английские товары не был новинкой, однако затронул нейтральные страны, в той мере, в какой блокада, утрачивая протекционистский характер, становилась инструментом войны.
Миланские декреты
На берлинский декрет Лондон ответил ноябрьским правительственным приказом 1807 года. Британский кабинет заявил, что берет в кольцо жесткой блокады все порты Франции, а также государств, находящихся в состоянии войны с Великобританией. Лондон намеревался запретить всякую торговлю, кроме той, которая велась с Англией, обеспечив свои коммерческие связи с наполеоновской Европой. Свобода мореплавания предоставлялась лишь судам, которые готовы были оплатить свой транзит в размере 25 процентов от стоимости груза. Отвечая ударом на удар, Наполеон первым миланским декретом (23 ноября 1807 года) распорядился арестовывать все суда, осмелившиеся зайти в английские порты, а вторым (7 декабря 1807 года) – любое судно, подчинившееся распоряжению британского кабинета министров. Текст первого миланского декрета завершался прямым призывом к Соединенным Штатам покончить с морским диктатом Англии. Казалось, обстоятельства благоприятствовали этому намерению Наполеона. После инцидента с фрегатом «Chesapeake», обстрелянным 22 июня 1807 года английским адмиралом Беркли, президент Джеффер-сон издал распоряжение, запрещающее английским военным кораблям входить в территориальные воды Соединенных Штатов. Наполеон рассчитывал на союз с Америкой. Однако серия неувязок сделала невозможным заключение этого столь важного для него договора. Решением от 18 сентября 1807 года император обязал своих корсаров задерживать нейтральные суда и конфисковывать находящиеся на них английские грузы. В сложившейся обстановке Джефферсон счел за лучшее не выпускать из своих портов американские корабли дальнего плавания. Он наложил на них эмбарго, вотированное Конгрессом 22 декабря 1807 года. В итоге 17 апреля 1808 года Наполеон подписал байонский декрет, объявивший собственностью Империи любое зашедшее в европейский порт американское судно. «Соединенные Штаты, – говорил он Годену, – наложили эмбарго на свои корабли. Следовательно, тот, кто утверждает, что плывет из Америки, на самом деле плывет из Англии, и его документы – фальшивка». Все это в конечном счете осложняло отношения с Соединенными Штатами и ухудшало перспективы сближения двух государств в случае успеха блокады.
Блокада в действии
Подписав в Тильзите договор с Россией, Наполеон задался целью полностью блокировать континент. «Этот грандиозный и потрясающий эффект – результат альянса двух ведущих мировых держав, – читаем в одном из документов 1807 года. – По их призыву целый континент восстает и сплачивается против общего врага. Война с островитянами, в которой участвует такое множество государств, призвана уничтожить их торговлю, парализовать промышленность, опустошить моря – самые плодоносные их владения. Это – блистательный замысел, столь же обширный, сколь и трудноосуществимый. И вот он осуществлен». В самом деле, за период с июля по ноябрь 1807 года континент оказался почти полностью закрытым для английских товаров. По договору, подписанному 31 октября 1807 года в Фонтенбло, Дания стала союзницей Франции. В результате дорога на Теннинген закрылась для англичан. Проигравшим войну Австрии и Пруссии также пришлось присоединиться к блокаде, однако наибольший ущерб британская торговля понесла после Тильзита, лишившись российского рынка. Последствия этой утраты сказались не сразу, из-за запоздалого закрытия русских портов, однако со временем Англия рисковала остаться без столь необходимого ее флоту сырья: конопли, льна и древесины. Голландия, находящаяся с 1806 года в ведении Людовика Бонапарта, хотя и с оговорками, примкнула к континентальной блокаде. Новоиспеченный монарх понимал, что эта призванная сокрушить Англию махина раздавит сначала Голландию. Поэтому он, по мере сил, старался смягчить ее тяжелую поступь. Одернутый братом, он вынужден был издать декрет (15 декабря 1806 года), объявлявший введение блокады в своем королевстве, но не перекрыл каналы контрабанды, служившие своего рода предохранительным клапаном для голландской экономики. Однако после того, как Наполеон пригрозил направить в его королевство мобильные войсковые соединения, Людовик 28 августа 1807 года решился обнародовать более жесткий декрет, за которым последовал арест около сорока британских торговых судов, пришвартованных в голландских портах. К концу 1807 года Голландия стала почти недоступной для Великобритании. Наведя порядок на северном побережье, Наполеон занялся югом. Жесткие санкции в отношении Англии были приняты Италией. 29 августа 1807 года генерал Миолис отдал приказ об аресте английских товаров, складировавшихся в Ливорно. Оккупации подверглась Пиза. Воинские гарнизоны разместились в государствах понтификата, в Анконе, Пезаро и Чивитавеккье. 19 февраля 1807 года строгий декрет ввел режим блокады в Испании. Были прерваны коммуникации с Гибралтаром. В конце 1807 года, после долгих препирательств, Португалии также пришлось присоединиться к антибританской коалиции. 6 ноября, спасовав перед ультиматумом Франции, португальские министры согласились наложить эмбарго на английские корабли. 8 ноября они отдали приказ об аресте британских подданных и о секвестре принадлежащего им имущества. Однако этому запоздалому решению не дано было предотвратить вторжение французских войск: 21 ноября Жюно пересек португальскую границу. Это событие обернулось тяжелыми последствиями для британской торговли. По сравнению с 1806 годом экспорт английских товаров в Лиссабон сократился в 1807 году на 40 процентов.
Кризис 1808 года в Англии
К концу 1807 года к блокаде, за исключением Швеции, сохранившей верность договору с Англией, присоединились уже все европейские страны. Лондон скоро почувствовал последствия этого торгового кордона. Особенно трудными для британской экономики оказались первые шесть месяцев 1808 года. В первом квартале доходы от экспорта упали с 9000 до 7244 фунтов стерлингов. Во втором было отмечено дальнейшее снижение: с 10 754 фунтов за тот же период 1807 года до 7688. Трудности усугублялись в результате прекращения товарообмена с Соединенными Штатами, поставлявшими англичанам пшеницу и хлопок. Застой на рынке колониальных товаров сопровождался беспрецедентным падением экспорта британской мануфактуры. Промышленники Манчестера не могли реализовать скопившиеся у них запасы хлопка. Не менее напряженная обстановка сложилась в Ланкашире и Шотландии. Серьезный кризис поразил суконную промышленность. И это при том, что разрыв торговых отношений с балтийскими странами привел к повышению цен на лен. В мае и июне 1808 года в ответ на рост дороговизны прокатилась волна народных возмущений в Ланкашире. В августе 1808 года наметились симптомы девальвации фунта. Все это давало Наполеону основание рассчитывать на победу, которую он пророчил в 1807 году в своем выступлении перед Законодательным корпусом: «Англия, наказанная за методы, которые составляли самую суть ее подлой политики, вынуждена сегодня наблюдать за тем, как от ее товаров отказывается вся Европа, а ее корабли, загруженные никому не нужными дарами, скитаются по бескрайним морям, где, как им казалось, они еще совсем недавно царили, и тщетно отыскивают от Зунда до Геллеспонта хотя бы один готовый приютить их порт».















Часть третья. РАВНОВЕСИЕ
Наполеон достиг вершины своего могущества не в 1811 году, когда родился римский король, а в 1807-м – после Тилъзита. К этому времени все страны континента превратились кто – в союзников, а кто – в вассалов Франции. Над Англией, оказавшейся в полной изоляции, лишившейся традиционных рынков сбыта, нависла угроза катастрофы. Естественные границы Франции по Рейну, Альпам и Пиренеям были надежно защищены. Давняя мечта монархов и Комитета общественного спасения стала реальностью. Экономическую депрессию 1806 года, как в свое время 1801-го, в конце концов удалось преодолеть, что свидетельствовало о способности власти контролировать механизмы, регулировавшие тогдашнюю экономику. Свыкшись с двухсотлетним господством абсолютизма, никто, похоже, не страдал от ограничения свобод, разве что буржуазия. Впрочем, «беспорядки» пугали ее куда больше. Партийная борьба окончательно сошла на нет, если не считать отдельных, лишенных политической окраски актов разбоя. Складывается новое социальное равновесие, от которого выигрывают главным образом нотабли. Но и народ доверяет тому, кто по-прежнему остается гарантом революционных завоеваний, находящих свое выражение в продолжающейся распродаже национального имущества, дележе общинных земель и равенстве перед законом. Словом, повышение заработной платы и частичное сокращение безработицы, по крайней мере в Париже, оставят у рабочих, особенно в преддверии грядущих невзгод, несколько преувеличенное чувство гордости неким «золотым веком», чувство, которое не изгладят из их памяти ни растущий гнет рекрутских наборов, ни ужасы оккупации 1814–1815 годов. Никогда прежде, похоже, Франция не выглядела такой могущественной, сплоченной, внушающей уважение. Краткий миг, предшествовавший появлению первых трещин, – благодатный, уникальный период для историка наполеоновской Франции, период, о котором на протяжении всего XIX века страна сохранит ностальгические воспоминания.
В этом кратком миге территориального, политического и социального равновесия, упроченного официальной пропагандой и военными победами, – истоки живучести легенды о наполеоновской Империи.
Глава I. НАПОЛЕОНОВСКАЯ ИМПЕРИЯ
На удивление многолика Франция эпохи Империи! Желающему посетить ее туристу Ланглуа дает ценные советы в «Путеводителе» (опубликованном в 1806 году и переизданном в 1811-м), который составил конкуренцию «Справочнику путешественника» Рейшара. Путешественнику не рекомендуется ввозить во Францию запечатанные пакеты и даже самые обыкновенные письма под страхом «не только ареста, но и штрафа в размере 500 ливров за каждое письмо». Зато ему советуют иметь при себе двухзарядный пистолет и ни в коем случае не доверяться извозчикам. Багаж путешественника, перемещающегося в собственном экипаже, должен ограничиваться коробом, чемоданом, обтянутым «коровьей» кожей, и шкатулкой для драгоценностей, денег и векселей, снабженной специальными болтами, позволяющими крепить ее в карете или номере гостиницы. Подорожные пошлины вполне умеренны: «Если ехать дилижансом, стоимость каждого лье, включая чаевые кучеру и кондуктору, не превышает одного франка, а за две лошади при езде на почтовых с учетом платы хозяину гостиницы и слуге – пяти франков». Стендаль, правда, приводит другие расценки, вспоминая, во что обошлось ему в XII году путешествие из Гренобля в Париж. Автор «Полного путеводителя по Французской Империи» особенно настаивает на различии между южной и северной Францией, западными департаментами и теми, что раскинулись по левому берегу Рейна; путешественника призывают учитывать особенности менталитета и ландшафта, местных промыслов и природных ресурсов. Аналогичные суждения выходят из-под пера гамбуржца Немниха в его интересных путевых заметках, опубликованных в 1810 году знаменитым тюбингенским издателем Коттой.
Северная Франция
На севере Империя простирается далеко за пределы абсолютистской Франции, включая Бельгию, а после аннексии Голландии – и Соединенные провинции. Лишь морской пейзаж и общее устье Рейна придают этой территории некоторое единство, непрерывно нарушаемое меняющимся ландшафтом и разноязычием. На севере – Голландия, в прошлом Батавская республика, ставшая в 1806 году королевством, вотчиной Людовика Бонапарта, ждущая того часа, когда в 1810 году она будет грубо аннексирована Наполеоном, нетерпимым к проявлениям своеволия брата. Задолго до этого события император сделал ему строгое внушение в ответ на пожелание последнего приспособить гражданский кодекс к местному праву: «Нация, насчитывающая 1 800 ООО душ, не может иметь собственного законодательства. Римляне диктовали законы союзникам; почему бы и Франции не навязать свои законы Голландии?» В дальнейшем континентальная блокада обострит конфликт между братьями. Стремясь предотвратить разорение своего королевства, экономика которого целиком зависела от морской торговли, Людовик вынужден был терпеть контрабанду, превращая тем самым Голландию в самое уязвимое звено наполеоновского кордона. Вот почему в 1808 году Наполеон решил ее аннексировать. В июле 1809 года, после неудавшейся попытки англичан захватить Зеландию, он лишь укрепился в своем намерении. В марте 1810 года Людовику было предложено уступить Франции без каких-либо компенсаций земли к югу от Рейна. Отныне семи тысячам французов (со временем их число возросло до двадцати тысяч) предстояло контролировать голландское побережье. 1 июля 1810 года Людовик, показав императору пример, отрекся от престола. Девять бельгийских департаментов, как более покладистые, были расширены за счет австрийских Нидерландов и Льежского княжества. С этого момента начинается развитие Бельгии. Если серьезные преобразования в политической сфере прошли вполне безболезненно, поскольку стандартизация административно-судебной системы, насаждаемая французскими властями, изгнала из памяти самый дух, царивший в бывших княжествах, то экономические и социальные потрясения оказались весьма глубокими. Разумеется, дворянство, несмотря на утрату привилегий, отстояло свои земельные владения и сохранило влияние в деревне. Однако распродажа национального имущества, ударившая прежде всего по церкви, обогатила не столько крестьян, религиозная щепетильность которых не позволяла им приобретать бывшие земли духовенства, сколько буржуазию, обладавшую до этого некоторым весом только в Льежском княжестве. Благодаря капиталам, нажитым на спекуляции национальным имуществом, и возможностям, открывшимся в результате расширения рынков сбыта, эта буржуазия проявляет заинтересованность в развитии промышленности. В Генте на базе английских ткацких станков налаживается машинное производство хлопчатобумажных тканей. Количество текстильных машин возрастает с 500 в 1808 году до 2 900 в 1810-м. Континентальная блокада и новое рудное законодательство благоприятствуют развитию угольной промышленности. В 1795 году в Бельгии было добыто 800 тысяч тонн угля. В 1811-м его добыча составила уже миллион 300 тысяч тонн. Военные заказы стимулируют развитие металлургии в Геннегау. В Антверпене, куда дважды – в 1803 и 1810 годах – наведывался Наполеон, наращивают мощность крупнейшие судостроительные верфи Империи. В 1807 году там со стапелей сошли четыре военных корабля, в том числе два – семидесятичетырехпушечных. В индустриальной жизни Империи Бельгия начинает играть все более заметную роль: на ее долю приходится половина всего добываемого угля и четверть всей выплавляемой стали. Гент, по свидетельству немецкого путешественника Немниха, выходит на второе после Парижа место «по числу многоотраслевых предприятий». Словом, в отличие от Голландии, промышленность которой была ориентирована главным образом на внешнюю торговлю, французская оккупация пошла Бельгии на пользу. Этим объясняется отсутствие какой-либо оппозиции режиму Империи. Буржуазию устраивает до поры до времени политический строй, благоприятствующий осуществлению ее экономических планов. Аристократия, долгое время ориентировавшаяся на венский двор, в конце концов примыкает к Наполеону после его женитьбы на Марии Луизе и соглашается занять места в Законодательном собрании. Герцог д'Аренберг и граф де Мерод становятся сенаторами. Несмотря на волнения 1798 года, вспыхнувшие в связи с объявлением рекрутского набора, и ухудшение отношений с папой, крестьяне остались верны Наполеону. Доказательством этому может служить сравнительно небольшой процент уклонившихся от воинской повинности, а также всенародный энтузиазм, которым было встречено в 1813 году возрождение французской армии после пережитого ею в России разгрома. Наконец, собственно северная Франция с ее индустриальными центрами в Лилле, Валансьенне и Амьене. Лилль – это одновременно и промышленный центр и рынок сельхозпродукции, производимой в регионе, специализирующемся на выращивании масличных культур, из зерен которых сотни давильных прессов выжимают масла, экспортируемые в Голландию, Ахен и Дюссельдорф. Хмель, табак, лен и тюльпаны дополняют список производимых на экспорт сельскохозяйственных товаров. Наконец, в самом городе, помимо фабрик, действуют сахарорафинадные, а также прядильно-ткацкие заводы, специализирующиеся на переработке хлопка по английской технологии. Больше других пострадал от революции Валансьенн. Состоятельные семьи, ведшие здесь светский образ жизни, были почти полностью истреблены, однако изготовляемые в подвалах батист и кружева, несмотря на их высокую себестоимость, сохраняли прежнее отменное качество. Ускоренными темпами развивается хлопчатобумажная промышленность в Сен-Кантене, где численность занятых в этой отрасли рабочих возросла с 502 в 1806 году до 1 500 в 1810-м, и в Амьене, где Морган и Делэ первыми установили на своих предприятиях хлопкопрядильные машины. В 1806 году действовало уже 15 348 веретен. Словно в подтверждение роли севера как наиболее промышленно развитого региона Империи угледобывающая отрасль Анзена переживает самый настоящий взлет благодаря применению паровых машин: добыча угля увеличилась с 242 277 центнеров в 1807 году до 420 706 в 1809-м. Психологический климат, установившийся в департаментах севера, выше всех похвал; здесь удалось добиться ощутимого снижения преступности, свирепствовавшей во времена «истопников» [18]18
«Истопники», «поджариватели» (chauffeurs) – банды грабителей, действовавшие в Северной Франции в годы революции и уничтоженные в период Консульства. Название получили вследствие практиковавшейся ими пытки огнем, которую они применяли к своим жертвам для вымогательства.
[Закрыть], а также явного сокращения числа уклоняющихся от воинской повинности и дезертиров. В Па-де-Кале их количество достигало в 1803 году 300, упав до 134 в 1804-м и 12 в 1812-м.
Восточная Франция
Рейн перестал быть границей между государствами. Эльзас вновь переживает расцвет, надежда на который, казалось, была утрачена навсегда. Правительство Империи поощряет здесь выращивание табака и свеклы, облесение, расширяет площади, отводимые под саженцы и искусственные пастбища. Континентальная блокада идет на пользу индустриальному развитию Верхнего Рейна; выделим две крупные прядильные фирмы: Гро-Давилье, Роман и Си (в распоряжении которой находилось в 1806 году в Вессерлинге 5 038 веретен и 185 рабочих) и Дольфус и Си (1 404 веретена и 72 рабочих за тот же период). Благодаря подъему производства население Мюлуза, крупного центра хлопчатобумажной промышленности, увеличилось с 6 до 8 тысяч жителей. Словом, ассимиляция Эльзаса протекала без осложнений. Аналогичный процесс характерен для четырех департаментов левого берега Рейна, поглотивших 97 бывших карликовых государств. Только в них проживало около полутора миллионов человек. Экономический подъем этого региона также не вызывает сомнений. Отметим два нововведения: отмена десятины и упразднение дворянских привилегий стимулировали развитие сельского хозяйства (расширение посевов сахарной свеклы, широкомасштабные работы по лесонасаждению, увеличение площадей, отводимых под виноградники), а ограничение притока конкурентоспособных английских товаров положительно сказалось на развитии текстильной и сталелитейной промышленности (в Крефельде удвоилось число шелкоткацких фабрик; в Ахене, население которого возросло с 10 до 30 тысяч, количество мануфактур увеличилось в десять раз; департамент Pep с 2 550 предприятиями и 65 тысячами занятыми на них рабочими стал в 1811 году самым промышленно развитым регионом наполеоновской Империи. Благодаря отмене речных пошлин удалось улучшить навигацию на Рейне, характер которой, впрочем, существенно изменился: объем сырья, поставляемого из рейнского бассейна к верховьям, превышал встречный поток колониальных товаров из Голландии, значительно оскудевший после введения режима континентальной блокады. Развитие промышленности и торговли способствовало возникновению буржуазии, ставшей главной опорой наполеоновского режима. Но и поместное дворянство, несмотря на утрату титулов и привилегий, воздерживается от конфронтации с новой властью. Оно заполоняет префектуры, заседает в Законодательном собрании, перед ним раскрываются двери сената. Что касается крестьянства, то оно решительно поддерживает борьбу с преступностью (пресловутый Шиндеранн [19]19
Главарь «истопников» (см. выше).
[Закрыть]нейтрализован) и приветствует введение Гражданского кодекса Наполеона (ни в какой другой аннексированной стране он так часто не переводился и не комментировался, как в Эльзасе). Похоже, что симпатии населения рейнского бассейна были завоеваны благодаря мудрому администрированию префектов, подобных Лезе-Марнезиа в Кобленце и Жан-Бону Сент-Андре в Майнце. Им удалось воздержаться от повсеместного насаждения французского языка. Не став французами, жители прирейнской области все же почувствовали свое отличие от других немцев. Франкофобские призывы Гоерра, основателя газеты «Рейнский Меркурий», почти не встречали отклика вплоть до 1813 года. Французское влияние распространяется в глубь Германии до королевства Вестфалии, созданного в 1807 го-ду и объединившего владения герцога Брауншвейгского, курфюрста Гессенского, а также государства Геттинген, Оснабрюк и Грубенхафен, отнятые у курфюрста Ганноверского. Сложилась своего рода французская Германия в противовес немецкой Франции, образовавшейся на левом берегу Рейна. «Это королевство, – заявил император 24 августа 1807 года, – даст жизнь народу, который, будучи поделен на множество княжеств, не имел даже собственного имени. Жители стольких государств обретут наконец родину; ими будет править французский принц». Этим принцем стал Жером, младший брат Наполеона. Последний в письме от 7 июля 1807 года призывал его не обмануть чаяний немецкого народа: «Надо, чтобы даровитые люди, пусть даже и не дворянского происхождения, могли рассчитывать на Ваше расположение и престижные должности, чтобы остатки рабства и вся система иерархических отношений между монархом и последним простолюдином была разрушена до основания. Благодеяния Кодекса Наполеона, гласность судопроизводства, введение института присяжных должны стать отличительной чертой Вашего правления». При содействии Симеона, представителя Государственного совета, Жером поделил свое королевство на восемь департаментов, поставив во главе каждого из них по префекту. Судебная система стала точной копией французской. Органы самоуправления избирались коллегиями выборщиков. Чиновники немецкого происхождения, выходцы из среды аристократии и интеллигенции (Иоганн Мюллер, профессор права Геттингенского университета Лейст, Якоб Гримм), мирно уживались с французами (Норвен, Пишон, Дювике, Лекамю). Декрет от 23 января 1808 года упразднил феодальный строй. Однако, хотя формально барщина уже не существовала, некоторые виды оброка (ценз, рента, денежная повинность) подлежали выкупу. Впрочем, крестьянам не хватало денег, поскольку префекты, форсируя раздел общинной собственности и отмену прав выпаса скота после первого укоса на чужих лугах, желая поскорее разделаться с принудительным севооборотом, фактически развалили сельскую общину. Все же следует признать, что идеи революции, даже несмотря на их одностороннее воплощение, нашли в Германии широкую поддержку.
Западная Франция
Здесь, на западе, находилось одно из наиболее уязвимых мест Империи – Вандея. Ни умиротворение VIII года, ни поражение Кадудаля не смогли окончательно погасить очаг роялистского сопротивления. Граф Пюизе продолжал работать на англичан. В своих мемуарах он следующим образом охарактеризовал направление своей деятельности: «В конце концов любая гражданская война – не что иное, как результат конфликта между неимущими или теми, кому недостает богатства, почестей, привилегий, власти, и теми, кто, как им представляется, наделен всем этим в достаточной, а то и в избыточной степени. Наличие некоторого фанатизма способно, конечно, несколько разнообразить формы и детали этого конфликта, однако в целом это ничего не меняет». Попытку организовать облаву сорвали эмигранты. В 1808 году по конспираторам был нанесен ответный удар. Арест Прижана, правой руки Пюизе, а затем Шатобриана, брата писателя, фактически обезглавил агентуру Джерси. Кроме того, Пюизе ссорится с д'Аваре, фаворитом Людовика XVIII. Бандитизм по-прежнему свирепствует в департаментах Сарта, Майенн, Мэн-и-Луара и Нижняя Луара. В донесении полиции от 11 марта 1809 года содержится анализ причин этого явления: отмечаются трудности с организацией взаимодействия четырех департаментов, апатия местного населения, деструктивная позиция «малой церкви» [20]20
Так называли католических священников, не признававших Конкордата Наполеона с папой и ведших антиправительственную пропаганду в некоторых районах Франции.
[Закрыть], недоукомплектованность нарядов жандармерии, попустительство местной магистратуры. Из каких слоев рекрутируются банды грабителей? Фуше выделяет три социальные группы. Первая, «наименее представительная», состоит из «злоумышленников, пользующихся сложившейся обстановкой, чтобы пограбить, выдавая разбой за политическую борьбу». Вторая, «составляющая основу движения, формируется из дезертиров и уклоняющихся от службы призывников». Наконец, третья – «из бывших шуанов, часть которых известна нам по имени, но прежде всего – по умонастроению и почерку». Что же касается происков англо-роялистов, то «Бретань находится под слишком жестким контролем, Нормандия слишком консервативна, и лишь с Мэном связываются их надежды на прямое восстание». В самом деле, порты на западе блокированы, судоходство в заливах и бухтах, где осуществлялось каботажное и рыболовное плавание, практически парализовано. Степень недовольства высока, умонастроение общества неопределенно. Желая разоружить оппозицию, Наполеон щадит Вандею. Гнет рекрутского набора здесь не так тяжел, как на остальной территории Империи. Для осуществления контроля над призывом он решает основать в самом сердце Вандеи город, вы-брав для него в 1804 году место в провинции Лa Рош-сюр-Ион, у опушки леса. Наполеон – так будет назван новый населенный пункт, административный центр департамента Вандея. В 1812 году число его жителей не превысит 1 900. Наконец, в 1808 году, дабы окончательно привлечь на свою сторону Вандею, Наполеон освобождает на 15 лет от налогов все восстановленные до 1 января 1812 года дома, пострадавшие во время гражданской войны. «А что, вспоминают здесь еще о Бурбонах?» – спросит он в 1808 году у своего душеприказчика Торла во время инспекционной поездки по западным районам страны. «Сир, – ответит Торла, – ваша слава и ваши благодеяния давно уже вытеснили Бурбонов из их памяти». Торла – льстец, и Наполеон не заблуждается на его счет. Вместе с тем не подлежит сомнению, что с 1802 по 1812 год запад, еще не залечивший ран гражданской войны, обнаруживал искреннюю приверженность миру. Доказательством этому может служить декрет от 6 ноября 1810 года, сокративший до ста пятидесяти число отрядов жандармерии в западных департаментах Империи.