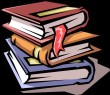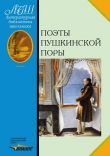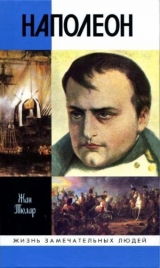
Текст книги "Наполеон, или Миф о «спасителе»"
Автор книги: Жан Тюлар
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)
О ЖАНЕ ТЮЛАРЕ И ЕГО КНИГЕ
Жизнь и деятельность императора Наполеона I, великого полководца и реформатора, хорошо знакомы русскому читателю в первую очередь благодаря неоднократно переизданным прекрасным монографиям Е. В. Тарле и А. 3. Манфреда. (Кстати, книга Е. В. Тарле впервые вышла в 1936 году именно в серии «Жизнь замечательных людей».) Без сомнения, обе эти работы заслуживают того, чтобы их еще и еще переиздавали. Однако со времени их написания прошло много лет: даже значительно более поздняя книга Манфреда впервые была опубликована в 1972 году и в последующих изданиях не претерпела серьезных изменений. Кроме того, обе монографии написаны в советский период, и, следовательно, при всем желании авторы не могли избежать обязательных для того времени идеологических штампов. А главное, с той поры обнаружены десятки ранее неизвестных источников, разработаны новые концепции, которые позволяют по-новому оценить деятельность этого великого императора. Понятно, что книга Тюлара обладает рядом несравненных преимуществ. Ведь, помимо прочего, автор имел доступ к уникальным документам и работал во всех архивах, которые содержат сведения, касающиеся Наполеона и его эпохи.
К счастью, имя Жана Тюлара небезызвестно массовому читателю: в 1993 году на прилавках книжных магазинов появился и быстро был распродан перевод его книги «Мюрат». У своих же соотечественников, равно как и у специалистов-историков разных стран, Тюлар давно пользуется заслуженной славой. Маститый ученый, профессор Сорбонны, член ряда научных обществ и учреждений, увенчанный многочисленными национальными наградами, лауреат многих премий, автор большого числа монографий и научно-популярных трудов, Жан Тюлар является в настоящее время, пожалуй, крупнейшим в мире знатоком наполеоновской эпохи. Не станем здесь перечислять его научные работы по этому периоду, скажем лишь, что он обессмертил себя прежде всего изданием первого критического собрания литературных и военных сочинений Наполеона, а также уникальным «Словарем Наполеона», являющимся, по существу, энциклопедией, в которой отражены различные стороны экономической, политической, административной, военной, общественной и частной жизни Франции периодов Революции, Консульства и Империи (1789–1815 годы).
Книга Тюлара «Наполеон, или Миф о "спасителе"», представляется, впрочем, произведением совершенно иного рода. Изданная впервые в 1977 году как «livre de poche» (карманное издание), она отличается по своему объему, стилю и характеру от других работ этого автора. Написан «Наполеон» удивительно емко и лаконично, так что подчас о значительном событии или персонаже упоминается лишь вскользь, но в то же время здесь воссоздана целая эпоха истории Франции и подробно показывается роль ее главного деятеля, «спасителя», как отчасти серьезно, отчасти иронически величает его Тюлар. Новый «Наполеон», таким образом, это не столько биография великого человека, сколько попытка осмыслить и синтезировать мощный пласт национальной и международной истории в самых различных ее аспектах. Так, несмотря на сжатость изложения, Тюлар рассматривает экономику Франции по отдельным регионам (что обычно не делалось в работах подобного рода), останавливается на развитии культуры, детально обследует достижения в области литературы и искусства, приводя подчас статистические и иные данные, неизвестные предшествующей историографии. Столь же оригинальна и система «Примечаний» автора, которыми он завершает каждую главу и в которых дается не только подробнейшая библиография, но и освещение спорных вопросов с позиций нашего времени [1]1
В русском переводе эти примечания опущены; редакция сочла, что они, при обилии указанной в них иностранной литературы, ничего не могут дать массовому русскоязычному читателю, специалист же всегда обратится к подлиннику. Редакционные примечания в настоящем издании минимальны и в основном объясняют некоторые исторические реалии и малоизвестные слова.
[Закрыть]. Что же касается общей концепции Тюлара, то она отличается предельной четкостью и логичностью, которая, впрочем, до конца постигается лишь после прочтения всей книги.
Как мы уже указывали, книга Тюлара полностью называется «Наполеон, или Миф о "спасителе"». Кого же, от кого и как «спасает» Наполеон? Поначалу представляется: всю нацию; спасает от тупика, в который зашла Директория, от развала экономики, от ущербности внешнеполитического положения.
Но постепенно начинает вырисовываться то, что прежде дается лишь подтекстом: нет, не всю нацию «спасает» Наполеон, он ничего не сделал для рабочих, бедняков предместий, «санкюлотов» революции, которых термидорианцы и Директория загнали в угол; спасает он только верхушку собственников, «нотаблей» («значительных», «избранных»), как величает их автор, причем спасает как раз от этих самых «санкюлотов»! В «Заключении» Тюлар уже без обиняков объявляет своего героя спасителем дельцов и богачей от революции: «Создание империи имело своей главной целью установление диктатуры общественного спасения в интересах толстосумов от Революции. "Спасителя" сослали писать мемуары в наказание за то, что он посмел забыть об этом и возомнил себя родоначальником династии правителей Европейского континента». Яснее не скажешь. И далее, чтобы у читателя уже не оставалось ни малейших сомнений, Тюлар выстраивает шеренгу последующих «спасителей», которым проторил дорогу Наполеон; сюда попадают Кавеньяк, Наполеон III, Тьер, Петэн и де Голль. (Русскому читателю, пережившему своих «спасителей» от Ленина до Ельцина, эта мысль Тюлара особенно близка и понятна.)
Да, Наполеон Бонапарт сделал ставку на крупную буржуазию, создал все условия для ее сказочного обогащения (отсюда, в значительной мере, его завоевательные войны), но в конечном счете не преуспел, ибо «главная добродетель буржуазии – неблагодарность, а главный недостаток – трусость». Пока все шло гладко и новые завоевания открывали новые рынки «нотаблям», а за счет ограбляемых народов они набивали мошну – все было хорошо, и они терпели и даже прославляли «спасителя». Но как только начались первые осечки в его внешней политике, союз был нарушен. Пытаясь что-то противопоставить начинавшим фрондировать «нотаблям», «спаситель» создал новое дворянство и своим вторым браком попытался войти в семью европейских монархов. Но из этого ничего не вышло: создание имперского дворянства лишь обозлило «нотаблей», а европейские монархи не приняли «безродного выскочку» в свою среду. Для «спасителя», как намекает автор, оставался лишь один (впрочем, гипотетический) выход: в период Ста дней прибегнуть к помощи все тех же «санкюлотов», которые были готовы эту помощь оказать; но на такое Наполеон не пошел и не мог пойти в силу своих социальных позиций. Он, правда, попробовал, как и в начале своей карьеры, выступить от лица «всей нации», но попытка оказалась неудачной, поскольку даже теперь он, по существу, остался верен тем самым «нотаблям», которые его предали. Так, по Тюлару, вырисовываются основные причины краха и падения
Наполеона, и здесь никто не сможет отказать исследователю в тонкости проникновения в источники и в зоркости художника. Но при этом нельзя не заметить попутно одного обстоятельства, которое в первый момент настораживает, а иного неподготовленного читателя может повергнуть в недоумение. Тюлар в ходе повествования часто как бы противоречит сам себе, давая противоположное освещение одного и того же факта или явления. Так, с одной стороны, Наполеон умело руководит экономикой («дирижизм»), с другой – проявляет полное ее незнание; он – сторонник технического прогресса и одновременно страшный консерватор; он тонко рассчитывает свои ходы в религиозной политике и попадает с нею впросак; он малообразован, не любит книг, вплоть до того, что в дороге выбрасывает их из окна экипажа, и в то же время зорко следит за новинками, поощряет писателей, заботится о национальном образовании. Внимательно вчитываясь в текст, вскоре замечаешь: все эти противоречия – кажущиеся. В отличие от других авторов Тюлар не желает писать своего героя только белой или черной краской; как объективный исследователь, он тщательно выискивает и взвешивает все pro et contra, чтобы в конце концов собрать их в единый образ; сходной же цели служит и то, что о многих событиях (например, об отношениях с папой, испанских просчетах и многом другом) Тюлар упоминает дважды и трижды, в различном контексте несколько иначе оценивая одни и те же обстоятельства.
Не меньшее внимание уделяет Тюлар внешней политике Наполеона и его военным кампаниям. В книге о них говорится органично и достаточно полно, учитывая общий конспективный характер работы. Многие кампании и отдельные сражения разрабатываются иногда даже слишком подробно (например, испанская авантюра, ряд сражений в первом итальянском походе и др.). И здесь автор высказывает мнения, зачастую противоречащие установившимся в исторической литературе. Так, высшей точкой внешнеполитических успехов Наполеона, пиком его Империи, Тюлар считает 1807 год, в то время как в большинстве работ других ученых, в частности в многотомном труде Мадлена (так же, как и у Тарле), кульминацией могущества французского императора считается канун похода в Россию – 1810–1811 годы. Точно так же, вопреки мнению предшествующих историков, главной ошибкой и причиной военной катастрофы Наполеона Тюлар считает не войну 1812 года и разгром Великой Армии в России, а неудачу в Испании. Если с первым из этих утверждений можно согласиться, то второе представляется недоказуемым и даже парадоксальным. Подобное же неприятие вызывает и недооценка личности и действий Александра I, в решениях которого Тюлар усматривает прямое влияние Талейрана, побуждаемого стремлением обеспечить интересы французской буржуазии. Нельзя согласиться и с пренебрежительным отношением к Кутузову, которого автор величает «больным стариком» и явно недооценивает, словно забывая, в частности, что именно обдуманные действия Кутузова обеспечили изменение обратного маршрута армии Наполеона, которое и привело к ее разгрому. И уж коль скоро мы заговорили о сомнительных моментах концепции автора, нельзя не упомянуть, что он снижает значение заговоров против Наполеона, которые в начале содействовали утверждению его диктатуры (Арена и другие), а в конце – его падению (заговор Мале). Что касается последнего, то Тюлар хотя и нащупывает его основу (не «одиночка», как считали раньше), но не раскрывает этого положения, в то время как русским исследователем Д. М. Туган-Барановским давно доказано, что это была внушительная организация («филадельфы»). Не может также не удивить, что Тюлар и словом не обмолвился об истинных обстоятельствах смерти Наполеона, хотя в современной историографии почти безусловно доказано, что император стал жертвой отравления.
Впрочем, все эти частности ни в коей мере не умаляют ценности книги Тюлара.
В заключение – два слова о хронологии и библиографии. В качестве основы для нашей хронологической таблицы взята значительно сокращенная таблица Тюлара. Что же касается библиографии, то из безбрежного моря трудов о Наполеоне нами указаны лишь важнейшие русскоязычные работы преимущественно последних лет издания. В составлении библиографии деятельное участие принял П. Кузнецов. С полной библиографией на французском и иных языках можно познакомиться по оригиналу книги Тюлара, а также в его превосходном «Dictionnaire Napoléon», Paris, 1987.
А. П. ЛЕВАНДОВСКИЙ
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Для историка, занимающегося Наполеоном, быть переведенным на русский язык – немалая честь. Ибо Россия занимает второе, после Франции, место по числу историков, изучающих эпоху Империи. И это несмотря на то, что научные контакты между двумя странами долгое время были затруднены, особенно после ухода из жизни Е. В. Тарле.
Разумеется, то, как видят Наполеона французы, не во всем совпадает с тем, как к нему относятся в России. Для военных историков Франции битвы при Эйлау и под Москвой (Бородино) – победы Великой Армии. Задаваясь вопросом, почему отступление Наполеона в 1812 году обернулось катастрофой, они ссылаются обычно на морозы, а не на казаков и партизан. Можно еще указать на несовпадение взглядов и на природу могущества Наполеона. И хотя гений Толстого широко признан во Франции, его влияние на отношение к личности Наполеона незначительно.
Предлагаемый читателю «Наполеон» написан профессором Сорбонны, который работал во французских, немецких и итальянских архивах и прочитал все труды и статьи, указанные в библиографии [2]2
См.: Jean Tulard. Napoléon, ou le Mythe du sauveur. Paris, 1987.
[Закрыть]. Следовательно, книга эта содержит объем сведений, часть которых, возможно, все еще неизвестна в России. Зато вышеназванному профессору могут быть незнакомы некоторые достижения русской исследовательской мысли. Складывается идеальная ситуация для диалога. Предлагаю его начать.
Жан Тюлар

Через пятьдесят лет историю Наполеона придется писать наново каждый год…
Стендаль. Жизнь Наполеона
Введение
ВЫБОР
В финале оперы «Волшебная флейта», обрекая в Храме Солнца легионы Королевы ночи на поражение от полчищ Сарастро, Моцарт за несколько месяцев до смерти пророчит победу «Разума» над мракобесием. Мы в 1791 году, Французская революция в разгаре, однако до торжества «Разума» все еще далеко.
Спустя десять лет, когда творение Моцарта наконец-то впервые замучало на парижской сцене, казалось, что триумф новых идей не за горами, но много ли тех, кто, аплодируя «Флейте», превратившейся в «Мистерию Изиды» (либретто Мореля, аранжировка Лашнита), узнал в Сарастро генерала Бонапарта, ставшего первым консулом Республики и последним оплотом завоеваний Революции?
Уникальное сочетание личных качеств и политической конъюнктуры. С одной стороны – мечтательный и рассеянный офицер с психологией изгнанника, с мыслями о самоубийстве и неизбывной тоской, снедающей его в странствиях по гарнизонам, с другой – Революция или, скорее, Революции [3]3
Автор следует версии, принятой во французской историографии, согласно которой Великая революция конца XVIII века распадалась на ряд «революций»: «революцию 14 июля», «революцию 10 августа», «революцию 9 термидора» и т. д. – Здесь и далее примечания А. П. Левандовского .
[Закрыть], принимая во внимание множество стоявших перед ними задач. Как заметил еще Шатобриан, именно дворяне нанесли первый удар по обветшалому зданию монархизма. Воспользовавшись финансовым кризисом, они посягнули на принципы абсолютизма. Такова была более или менее осознанная цель, стоявшая перед Генеральными штатами. Реванша Фронды, конца политических унижений, возвращения к основополагающим нормам жизни, сформулированным еще в «Мемуарах» кардинала де Реца, а затем в поздних творениях Фенелона, – вот чего в глубине души жаждало либеральное дворянство, вдохновляясь великими лозунгами слишком поверхностно понятых просветителей, а также американской Войны за независимость, в которой приняли самоотверженное участие такие люди, как Лафайет и Ноайль, или брошюрами такого заурядного мыслителя, как граф д'Антрег. Четырнадцатое июля и Великий Страх смели последние иллюзии. Зло, неосмотрительно выпущенное из ящика Пандоры, расправилось с потомственным дворянством, упразднило титулы, уничтожило феодальные привилегии, конфисковало поместья.
Поднималась новая волна. На смену Фронде пришла Жакерия. Неорганизованное движение крестьянства, некогда обреченное на поражение, вновь охватывает огромную территорию Франции, принимая невиданные доселе формы и переходя от стихийного бунта к революции. Пробуждается сознание. В наказы третьего сословия вносятся конкретные требования: отмена феодального строя и передача земли в частную собственность. Ревизия поземельной росписи, затеянная погрязшим в долгах дворянством, сыграла роль катализатора. При этом политические лозунги поражают своей незрелостью. Несмотря на пресс налогов и тяжесть барщины, восстают не против короля, а против сеньора. Революционная активность быстро сходит на нет: ночь 4 августа, декреты, упраздняющие феодальный строй, распродажа церковного имущества, рост цен, обгоняющий арендную плату, повышение, хотя и менее стремительное, оплаты труда батраков, зарегистрированное в отдельных регионах страны, – все это превратило французское крестьянство, по крайней мере известную его часть, в консервативную массу, приверженную, разумеется, революционным завоеваниям, однако уже готовую рекрутировать из себя батальоны, способные подавить пролетарские восстания XIX века.
Король вполне мог бы опереться на таких крестьян в борьбе с фрондирующим дворянством. Так оно и случилось бы, будь на троне Людовик XI или Людовик XIV. Людовику XVI явно недоставало авторитета, в дополнение к его репутации скептика и жуира. Кое-кто воспользуется кризисом деревни: мелкие собственники или, во всяком случае в тот период, – часть буржуазии. Рантье, государственные служащие, купившие свои должности, торговый флот, индустрия предметов роскоши понесли неисчислимые издержки. Как тут не вспомнить папашу Гранде?
«Когда Французская республика пустила на продажу в Сомюрском округе земли духовенства, бочар Гранде, которому было тогда сорок лет, только что женился на дочери богатого торговца досками. Имея на руках собственные наличные средства и приданое жены, Гранде отправился в столицу округа, где благодаря двумстам дублонам, врученным его тестем неподкупному республиканцу, ведавшему распродажей национального имущества, приобрел за бесценок, если и не вполне законно, то законным порядком, лучшие виноградники округа, старое аббатство и несколько сдаваемых в аренду ферм. В политике он покровителъствовал бывшим аристократам и все свое влияние употребил на то, чтобы не допустить распродажи имений эмигрантов, в коммерции он поставил республиканским армиям пару тысяч бочек сухого вина и сумел добиться, чтобы ему заплатили за них великолепными, принадлежащими одному женскому монастырю пастбищами, приберегаемыми в качестве козырного аукционного лота. При консульстве курилка Гранде сделался мэром, мудро правил, а собирал виноград и того лучше, в эпоху Империи он превратился в Господина Гранде».
Такие Гранде наводнили провинцию, но если где спекуляция на армейских поставках и обесценивающихся ассигнатах и приобрела невиданный размах, так это в Париже. Дворянство хиреет, приходит царство нотаблей. Возникает новая буржуазия, та, что сумела за время инфляции прибрать к рукам национальное имущество или заполучить государственные заказы, та, что пролезла в административные органы или освоила юриспруденцию, наконец, та, что, освободившись от гароты корпоративных ограничений, взялась под сенью политики протекционизма, проводимой Директорией, за создание мастерских и мануфактур.
Чего хотела буржуазия в 1789 году? Сиейес сформулировал ее требования в своем знаменитом памфлете «Что такое третье сословие?». Более лаконично они были определены в нескольких приписываемых Наполеону словах: «Удовлетворение тщеславия; свобода была лишь предлогом». Феодальная реакция, перекрывшая или, точнее, грозившая перекрыть буржуазии доступ в ряды дворянства, превратила ее, поднимающуюся в неудержимо развивающейся стране, в силу, враждебную старым социальным институтам. Впрочем, зачинщики далеко не всегда выигрывали в результате падения старого режима: нередко буржуазная собственность XVIII века гибла под обломками феодализма. И все же буржуа и крестьянин, что неоднократно подчеркивалось, – союзники в борьбе с феодализмом. Они вышли из нее победителями и как бы единомышленниками. Не символизировали ли они движущие силы и вдохновенный порыв этой борьбы?
Особняком стоит четвертая сила: городской пролетариат. Поначалу голод и безработица выбрасывают на улицы городов (прежде всего Парижа) ремесленников, подмастерьев, прислугу, поденщиков. Малочисленность крупных предприятий, патриархальные формы цеховых отношений, сближавших хозяина и работника, предотвращали возникновение острых социальных конфликтов. Мысль о забастовке не распространялась за пределы торгового дома или на худой конец – корпорации. Вдохновленные идеями Руссо, социальные устремления ограничивались кругом «мелких производителей и мелких лавочников». Санкюлоты мечтали о некоем «всемирном патронате». Городской пролетариат стал тараном революционного террора. Вместе с тем, озабоченное необходимостью обеспечить зарождающуюся промышленность дешевой рабочей силой, Учредительное собрание принимает 14 июня 1791 года закон Jle Шапелье, запрещающий организацию рабочих союзов. Упразднение цеховых организаций привело к усилению эксплуатации детского труда. Стремясь к поддержанию порядка и упрочению гарантий частной собственности – своей, кровной, – термидорианцы также торопятся разоружить предместья. Движение санкюлотов было подавлено новой буржуазией при полном попустительстве крестьянства.
Совершив государственный переворот, Бонапарт провозгласил: «Революция – это я», – и тут же опроверг себя: «Революция завершилась».
Завершить Революцию! Об этом мечтали 5 августа 1789 года, и во времена Учредительного собрания 1792-го, и тогда, когда Конвент славословил «Верховное существо», и тогда, когда голова Робеспьера скатилась в корзину. Завершить Революцию можно было тремя способами: восстановив монархию и аристократию (во главе со старой или новой династией), закрепив завоевания буржуазии и крестьянства, удовлетворив требования парижских санкюлотов. Возврат к прошлому, упрочение настоящего, подготовка будущего.
Наполеоновская авантюра – выбор, на который Бонапарт отважится только в 1799 году.
Соотношение сил
Октябрь 1799 года. Судьба Революции все еще не решена. В вандемьере и фрюктидоре роялисты едва не пришли к власти. Правда, их партия раскололась на конституционалистов и ярых монархистов, сторонников возвращения к старому режиму, сгруппировавшихся вокруг графа д'Артуа – брата Людовика XVIII. Их позиции по-прежнему прочны на западе и юге. Похоже, реставрация неизбежна, но когда она произойдет? И в какие выльется формы?
Слева – неоякобинцы. Они одержали победу на выборах VI года благодаря ремесленникам и лавочникам, своим сторонникам, составлявшим большинство городского населения. Директория аннулировала результаты голосования, однако якобинцы вновь завоевали большинство на выборах VII года. Они весьма влиятельны в Совете пятисот, несколько менее – в другой палате законодательного корпуса – в Совете старейшин. Их программа, хотя и более умеренная в сравнении с программой бабувистов, часть которых примкнула к ним по-еле поражения Гракха Бабефа, все же сближает их со вчерашними «террористами»: они требуют режима более демократического, чем тот, который узаконен действующей с 1795 года олигархической конституцией, нападают на уклоняющихся от присяги Гражданской конституции священников, наконец, призывают к укреплению законодательной власти в страхе перед наступлением Директории. Возобновившаяся в 1799 году война и сокрушительное поражение, которое потерпела в ней Франция, позволили им провести закон о заложниках, предусматривающий ответственность родителей эмигрантов за преступления, совершенные против должностных лиц, а также решение о принудительном займе, налагаемом на толстосумов. Поддерживаемые такими генералами, как Бернадот, Журдан и Ожеро, неоякобинцы тем более влиятельны, что объединяют вокруг себя всех недовольных. Однако, будучи скорее коалицией, нежели партией, они обнаруживают недостаток сплоченности. Наконец, упрочение внешнеполитического положения страны, ставшее возможным благодаря победам Брюна в Бергене и Массена в Цюрихе 26 сентября 1799 года, еще больше подрывает их позиции, делая непопулярной проповедуемую ими политику террора. Фуше, возглавивший в августе департамент полиции, без труда перекрыл кислород якобинскому обществу, именовавшемуся «обществом конституционалистов», еще совсем недавно наводившему ужас на Директорию. Тем не менее неоякобинцы по-прежнему пользуются ощутимой поддержкой армии и администрации.
Так что же, конституционная монархия или Республика без страха и упрека?
Так называемые «термидорианцы», эти ветераны революционных собраний, пришедшие к власти после падения Робеспьера, все эти Сиейесы, Камбасересы, Мерлины, Фуше, Кинеты и им подобные не хотят ни реставрации (большинство из них голосовало за казнь Людовика XVI), ни «анархии», ибо они отражают интересы нуворишей, нажившихся на распродаже национального имущества. Отдавая себе отчет в собственной непопулярности, являющейся следствием злоупотребления властью и абсолютного безразличия к народным нуждам, они удерживают бразды правления лишь благодаря не вполне законным действиям, устраняя принявших участие во флореальском антиякобинском перевороте роялистов на основании декрета о ротации двух третей состава Собрания, жертвуя при необходимости теми из них, кто в наибольшей степени скомпрометировал себя. Баррас, человек Директории со дня ее основания, – символ всех компромиссов, которыми запятнали себя термидорианцы.
Цели термидорианцев абстрактны (их вполне устраивает буржуазная республика), зато социальная опора более чем конкретна: «толстосумы», все те, кто неминуемо проиграет как в случае реставрации, так и в случае реванша «подведенных животов». Вдобавок они подразделяются на два лагеря. В Директории, осуществляющей исполнительную власть, генерал Мулен и бывший министр юстиции эпохи террора Гойе – сторонники действующей конституции. Сиейес со своей неразлучной тенью Роже Дюко, напротив, презирает не им составленную конституцию. А так как по закону внесение в нее каких-либо изменений возможно не ранее чем через девять лет, бывший аббат вынашивает мысль о скрытом военном перевороте. Не случайно он обратился с этим предложением к генералу Жуберу незадолго до его гибели при Нови 15 августа 1799 года. Для проведения задуманной акции Сиейес заручился поддержкой представителей «французской интеллигенции», потомков «просветителей», таких, как Дону, Кабанис, Деститут де Траси, Гара и деятелей типа Вольнея, сотрудничавших с ним в Национальном институте наук и искусств, основанном термидорианским Конвентом на базе упраздненных академий. Пятый директор, Баррас, проявляет нерешительность. Его подозревают в симпатиях к роялистам и даже орлеанистам. Симпатиях, которые приписывались и Сиейесу в то время, когда еще не считалось, что он работает на «иностранного принца» [4]4
Возможно, автор имеет в виду герцога Брауншвейгского, которому прочили французский престол.
[Закрыть].
Помимо этих разногласий еще два обстоятельства ослабляют позиции Директории: чудовищное экономическое положение и военная катастрофа, обрушившаяся на страну в результате возобновления войны на континенте.
Положение на фронте настолько серьезно, что директора подумывают об отзыве единственного непобежденного генерала, Бонапарта, посланного в Египет под предлогом подготовки плацдарма для захвата английских колоний в Индии, а в действительности – для того, чтобы избавиться от неугодного Директории лица. 18 сентября 1799 года было даже составлено письмо, однако весть о победах Брюна и Массена сделала ненужной его отправку. Тут-то и стало известно о возвращении Бонапарта.
Это событие сразу изменило сложившуюся ситуацию. Гойе совершенно справедливо отмечает в своих мемуарах, что генерал Бонапарт, прославившийся победами в Италии и Египте, довольно быстро сплотил вокруг себя «всех обездоленных и недовольных».
Роялисты не замедлили устремить к нему свои тайные упования. Умеренные увидели в нем потенциального президента буржуазной республики. Даже якобинцы, если верить «Мемуарам» Журдана, считали, что Бонапарт способен отвести угрозу государственного переворота, замысленного Сиейесом, которого Брио выдал Совету пятисот. Идеологи обратили внимание на то, что Бонапарт был избран в Институт до своей экспедиции в Египет, а Баррас напомнил о протекции, которую оказал молодому генералу в начале его карьеры.
Все это означает, что, веря в свой авторитет, которым общественное мнение всегда наделяет удачливых генералов, не сомневаясь в преданности армии (возможно, все-таки сильно преувеличенной), Бонапарт оказался в положении арбитра.
А так как личные интересы и трезвый реализм предписывали ему в 1799 году, несмотря на господствовавшие в стране монархические настроения, отодвинуть опасность реставрации, неминуемо чреватой гражданской войной, он мог выбирать между правительством общественного спасения, опиравшимся на якобинцев (хотя и оставивших после себя безрадостные воспоминания), консолидацией режима Директории и государственным переворотом, о котором мечтал Сиейес, в надежде переписать конституцию в угоду «толстосумам».
К какому лагерю примкнуть?
9 октября 1799 года Бонапарт высадился в бухте Сан-Рафаэль. Его появление, и это неудивительно, вызвало огромное любопытство толпы, благодаря которому корабль был избавлен от карантина, обязательного для всех морских судов, прибывающих с востока.
В полдень Бонапарт ступил на французскую землю. Через шесть часов он уже стремительно продвигался по дороге на Париж. Надо было действовать без промедления, чтобы предупредить какое-нибудь непредвиденное решение Директории, которая могла выдать его возвращение за дезертирство. Здесь важен был эффект неожиданности. Но его-то как раз и не было. Уже 10 октября новость облетела Париж. Однако в конечном счете промедление пошло Бонапарту на пользу. В Авиньоне он воочию убедился, какую популярность принесла ему далекая и загадочная экспедиция в Египет. «Скопилось несметное множество народа. При появлении великого человека восторг достиг апогея, воздух сотрясали возгласы и приветствия: "Да здравствует Бонапарт!", толпа и крики сопровождали его до самой гостиницы, где он остановился. Это было поистине впечатляющее зрелище». Чем объяснить такое воодушевление? «Отныне на него стали смотреть как на человека, призванного вызволить Францию из того кризиса, в который ее ввергло беспомощное правление Директории и неудачи на фронте». Возможно, Булар и преувеличивает в своих «Мемуарах», отрывки из которых мы сейчас привели, политическое значение демонстрации в Авиньоне. Однако вскоре демонстрации приняли официальный характер. 15 октября делегация муниципалитета города Невера обратилась к генералу с просьбой об аудиенции в гостинице «Большой олень», где он остановился. Воистину обстоятельства начинали складываться все более благоприятно. Прибыв в Париж 16 октября около шести часов утра, свой первый визит, ближе к вечеру, Бонапарт нанес председателю Директории Гойе. Встреча прошла в сердечной обстановке. Успокоившись, молодой генерал официально предстал на следующий день перед пятью директорами. Его парадная форма произвела неизгладимое впечатление: круглая шляпа, сюртук из сукна оливкового цвета и кривая турецкая сабля на боку. Его речи приятно поразили представителей исполнительной власти: он обнажит шпагу, то есть турецкую саблю, лишь для защиты Республики и ее правительства. Вполне вероятно, что он был искренен и все еще считал себя, а может быть, хотел, чтобы его считали, спасителем затравленной, как ему говорили, Директории.
Гостиница на улице Победы, в которой он остановился, подверглась осаде визитеров, спешивших ввести его в курс политических событий. Он встретился с Талейраном, Редерером, со своим будущим тайным советчиком Маре, а также с Фуше. Все они наперебой уверяли его, что Директория дышит на ладан, и старались перетянуть в оппозицию. Бонапарта упрекали в нерешительности. Между тем, прибыв 16 октября в Париж, 10 ноября он стал полновластным хозяином Франции. Можно ли было действовать решительнее?