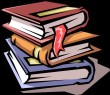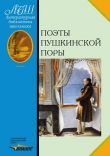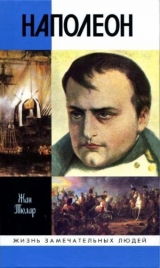
Текст книги "Наполеон, или Миф о «спасителе»"
Автор книги: Жан Тюлар
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Глава III. КРЕН ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ: ТРЯСИНА ИСПАНСКОЙ ВОЙНЫ
Решение о непосредственном вторжении в Испанию Наполеон принял после Тильзита. С 1788 года на Иберийском полуострове царствовал благодушный и слабовольный Карл IV, передавший бразды правления своей супруге Марии Луизе Пармской и премьер-министру Годою. Приход к власти Карла IV совпал с концом эпохи великих колониальных завоеваний, удесятеривших доходы метрополии, которые не привели при этом к чудовищной инфляции, поразившей страну в XVI веке. Однако не вся Испания была в равной степени вовлечена в процесс преобразований: аристократов и крестьян Галисии и Андалузии, в отличие от буржуазии Кадикса и Барселоны, не затронули прогрессивные идеи Просвещения. Наметилось противостояние двух Испаний: одна откликнулась на новые веяния, другая оставалась консервативной. Годой, ставший в двадцать пять лет первым министром, прекрасно понимал это; несмотря на свою непопулярность, объяснявшуюся стремительным взлетом, он ухитрялся сохранять равновесие между «темной» и «просвещенной» Испанией. Для этого ему приходилось вести сложную дипломатическую игру, которую он проиграл, не оказав сопротивления наполеоновскому нашествию.
Война с Испанией началась по личной инициативе Наполеона, хотя его и подталкивали к ней Талейран и Мюрат.
Первая ошибка императора состояла в том, что представление о гибнущей Испании, навязываемое рассказами путешественников и отчетами дипломатов, побуждало его взять на себя роль спасителя, который может преобразить полуостров. Точнее, совершить очередной брюмерианский переворот.
Хотя Испания пострадала от континентальной блокады, кризис затронул в основном лишь промышленную и торговую Каталонию, Валенсию и Кадикс. Не сказался он и на демографическом росте в стране, население которой увеличилось с 9 миллионов в 1765 году до 12 миллионов в 1808 году. Эта жизнестойкость не охладила воинственного пыла Наполеона. Вторая ошибка: императору казалось, что в этой войне народ Франции его поддержит. Его ослеплял успех кампаний 1805–1806 годов, которые были приняты общественностью, расценившей их как продолжение войн за Революцию. Иная ситуация сложилась в Испании. Здесь Наполеон руководствовался забытым после 1789 года династическим интересом: Бурбонов должны сменить Бонапарты. Такой была в конечном счете цель войны. Наполеону хотелось думать, что эта смена династий будет с одобрением встречена во Франции: помимо перспективы присвоения испанских сокровищ, она давала возможность насадить революционные идеи 1789 года в стране, стонущей под гнетом реакционного режима, вовлечь Испанию в орбиту французской политики, интегрировать ее в систему государств европейского континента.
На деле начало испанской авантюры вызвало кислую мину даже на лицах жителей Бордо. За исключением кое-каких деловых кругов, прельстившихся на мгновение испанской шерстью и латиноамериканскими рудниками, война в Испании, судя по отчетам префектов, содержащих анализ общественного мнения, была неодобрительно встречена даже на юге. Идея естественных границ слишком глубоко вошла в сознание французов: нотабли с беспокойством наблюдали за военными действиями, разворачивающимися по ту сторону Пиренеев. Их реакция стала первым симптомом расхождения между Наполеоном и французской буржуазией.
Внешняя политика Годоя
Подписав в 1795 году Базельский мир, положивший конец войне между Испанией и Францией, Годой, прозванный по этому случаю «князем-миротворцем», начал проводить политику сближения с Республикой. По Сент-Ильдефонскому договору, Испания стала в 1796 году весьма ценным союзником Франции. Посол в Испании Люсьен Бонапарт делал все, чтобы поссорить Мадрид с Португалией – экономическим бастионом Англии на континенте. Назначенный главнокомандующим испанскими войсками, Годой разгромил армию соседа и оккупировал его территорию прежде, чем англичане успели что-либо предпринять. Буржуазия Кадикса, быстро уставшая от войны, приветствовала Амьенский мир. Затянувшаяся пауза в торговле с колониями расстроила испанские финансы: покупательная способность бумажных денег упала на 70 процентов. Вот почему, когда англо-французский конфликт возобновился, Годой постарался сохранить нейтралитет. 19 сентября 1803 года Бонапарту пришлось направить Карлу IV гневное письмо, раскрывающее последнему глаза на «глубокую яму, вырытую Англией под троном, на котором нынешняя испанская династия восседает уже сто лет», и разоблачающее происки Годоя – «подлинного короля Испании». Карл IV внял предостережениям, и испанский флот стал участвовать в морских сражениях Франции вплоть до трафальгарской катастрофы. Решив, что фортуна отвернулась от Наполеона, Годой призвал испанцев к оружию против врага, чье имя не называлось, но легко угадывалось. Годой предложил антифранцузской коалиции осуществить в Пиренеях отвлекающий маневр, а после захвата британской эскадрой Буэнос-Айреса начал переговоры с Лондоном. Поражение антифранцузской коалиции открыло премьер-министру всю глубину его ошибки. Ранее ее совершили неаполитанские Бурбоны, которые в нарушение договора о нейтралитете с Францией впустили на территорию своего королевства англо-русскую армию. Что касается Португалии, то она по-прежнему испытывала на себе экономическое давление Англии, скорее, впрочем, демонстративное, чем реальное: в 1806 году в ее портах бросило якорь 354 корабля под британским флагом. «Нейтралитет» Португалии, снабжавшей Францию колониальными товарами, утратил свое значение. Все это вместе взятое побудило Наполеона начать борьбу за подчинение средиземноморских государств французскому влиянию.
Первый удар пришелся по неаполитанским Бурбонам. В воззвании 27 декабря 1805 года Наполеон одним росчерком пера сверг их с престола: «Неаполитанская династия прекращает свое царствование: она угрожает миру в Европе и бросает тень на мою корону». Возведенный в ранг монарха Жозеф Бонапарт тут же вступил во владение королевством, которое оставили ему Мария Каролина и Фердинанд IV, приютившиеся на Сицилии. Пришлось, правда, умиротворять Калабрию, а Мессинский пролив так и не перешел под контроль Франции.
Затем Наполеон принялся за Португалию, отказывавшуюся участвовать в континентальной блокаде. Еще в октябре 1806 года он заявил испанскому послу: «Я рассчитываю на помощь Испании, чтобы включить Португалию в мою систему». Многие испанцы были против этой интервенции; они полагали – и недавние исследования португальских историков подтверждают справедливость их взглядов, – что не следует переоценивать доли Великобритании в португальской торговле и что оккупация Португалии приведет к захвату англичанами Бразилии, а затем и Испании.
Что касается Годоя, то в надежде на получение лузитанского княжества он спровоцировал императора на войну с Брагантским королевством. По Фонтенблоскому договору Португалия подлежала переделу в октябре 1807 года. Юг передавался Годою, север – королеве Этрурии (у которой Наполеон собирался аннексировать ее итальянские владения). Центр со столицей был оставлен на закуску. Жюно с двадцатипятитысячным отрядом занял Лиссабон 30 ноября 1807 года. Королевская семья бежала в Бразилию: она не угодила Наполеону, не сразу закрыв португальские порты для британских торговых судов.
Несмотря на настойчивые призывы либералов и франко-португальцев (таких, например, как промышленник Раттон), Жюно не торопился с проведением реформ. Он безучастно отнесся к указаниям Наполеона ввести Гражданский кодекс в Португальском королевстве, ограничившись созданием португальского легиона. Быть может, он рассчитывал стать королем центральной части Португалии… На этот счет существует немало бездоказательных утверждений. Так или иначе, его бездеятельность скомпрометировала французов.
Принеся королевства Этрурии и Португалии в жертву своим амбициям, Годой открыл армии Наполеона границы Испании.
Байоннская ловушка
Легкость, с какой Наполеон лишил трона неаполитанских Бурбонов, вдохновила его на проведение аналогичной операции в Мадриде. И действительно, под предлогом защиты Португалии от военных посягательств Англии французские войска без труда проникли на полуостров. Более того, мадридский двор даже склонял Наполеона к вмешательству в испанские дела. Инфант Фердинанд, принц Астурии, направляемый своим наставником, каноником Эскуагницем, вынашивал план низвержения Годоя. Находя поддержку у французского посла, он написал Наполеону 11 октября 1807 года письмо, в котором выразил готовность жениться на принцессе из семьи императора в обмен на помощь в борьбе с фаворитом. Раскрыв «заговор Эскориала», Годой убеждал Карла IV арестовать сына; последний воззвал к отцовскому милосердию. «Государь мой, папочка, я совершил ошибку», – писал он Карлу IV, который, со своей стороны, поведав Наполеону «об этом чудовищном преступлении», обратился к нему за советом.
Предлогом к вторжению послужило восстание в Аранхуэсе. Вспыхнувший 17 марта 1808 года мятеж, явившийся следствием придворных интриг и недовольства народа, возмущенного беспринципностью Годоя, привел к падению фаворита и отречению Карла IV. По воспоминаниям Шампаньи, восстание в Аранхуэсе скорректировало не столько «планы императора, в соответствии с которыми Испания должна была содействовать росту могущества Франции, сколько способ, каким он намеревался достичь поставленной цели. На первых порах он собирался низложить "герцога-миротворца", что отвечало интересам испанского народа, и поставить на его место своего человека. Похоже, что бунт сына против отца подсказал ему тактику, позволившую в итоге достичь более впечатляющих результатов».
После того как Карл IV выразил протест против примененных к нему насильственных мер, Наполеон приказал собрать всю королевскую семью в Байонне для улаживания конфликта между отцом и сыном. Если принцы восприняли это как должное, то общественность Испании была возмущена тем, что чужеземный монарх вмешивается в дела нации. 2 мая 1808 года, когда младшего сына Карла IV усаживали в экипаж для отправки в Байонну, вспыхнул мятеж, жестоко подавленный Мюратом. События, унесшие около трехсот человеческих жизней, увековечены Гойей в знаменитой картине «Расстрел со 2-го на 3-е мая». Достигшая Байонны весть встревожила Наполеона, открыв ему глаза на то, до какой степени уязвлено национальное достоинство испанцев. Однако он всего лишь воспользовался этим инцидентом для запугивания Бурбонов. В результате бурной сцены Фердинанд возвратил отцу корону, а престарелый монарх, в свою очередь, отрекся от престола в пользу «своего друга, великого Наполеона». Самому императору корона была не нужна, он предложил ее брату Луи, но Луи от нее тоже отказался. Пришлось надавить на Жозефа, который и был коронован 6 июня 1808 года. Мюрат, полагавший, что работает в Мадриде на себя, скрепя сердце отправился царствовать в Неаполь. Дабы узаконить сделку, в Байонне с 15 июня по 7 июля собралась хунта нотаблей, выработавшая «конституцию» на манер французской, которая провозгласила отмену пытки и майоратов, оставив в неприкосновенности дворянство и инквизицию.
Позднее, на Святой Елене, Наполеон скажет: «Признаюсь, я очень грубо провернул тогда это дело; безнравственность предстала слишком глубокой, несправедливость слишком циничной, а вся затея – ужасно подлой, поскольку в итоге я проиграл». Что же затянуло Наполеона в эту трясину? Говорили о ненависти Бурбонов, предавших его в Неаполе и Мадриде. «Это мои личные враги», – сказал он Меттерниху. Говорили еще о магическом действии на его воображение имени Людовика XIV. «Со времен Людовика XIV испанская корона принадлежала французской династии, и нечего скорбеть о том, что возведение на престол Филиппа V куплено такой ценой и кровью, раз оно обеспечило господство Франции в Европе. Следовательно, это одна из лучших частей наследства, оставленного нам великим монархом, и император обязан сохранить его в целости. Он не должен, он не может позволить себе потерять хотя бы малую его толику», – заявлял Наполеон.
Этот императив династической политики (заключавшийся в том, чтобы рассаживать на европейских престолах членов своей семьи) так же довлел над сознанием императора, как и необходимость войны с Англией, побудившая его добиваться не завоевания, а союзничества Испании.
Сыграли свою роль и волшебные сказки о несметных испанских сокровищах, сочиненные Талейраном с целью отвлечь Наполеона от Австрии. Награбить побольше денег (миф об иберийской роскоши, взращенной на латиноамериканские пиастры) и кораблей (легенда о Непобедимой Армаде) – вот к чему стремился Наполеон. Что до возможных осложнений с afrancesados [24]24
afrancesado– подражающий всему французскому, сторонник французов (исп.)
[Закрыть], сторонниками либеральных реформ, то, по мнению Наполеона, свержение испанской династии должно было привлечь их на его сторону. «Этот народ созрел для глубоких преобразований и готов был бороться за их осуществление. Я был там очень популярен», – скажет Наполеон Лас Казу несколько лет спустя.
В целом Наполеон правильно понимал ситуацию. Народное восстание не было инспирировано ни Бурбонами (Фердинанд неоднократно предлагал Наполеону свои услуги), ни кортесами, ни поддерживавшими реформы разночинцами. Сопротивление исходило от народа и церкви. Оно явилось не столько результатом патриотического подъема, сколько реакцией общества, вызванной экономическим кризисом (континентальная блокада, осложнявшая товарообмен с колониями, наносила ощутимый ущерб интересам Испании), а также стремлением испанского духовенства и крупных землевладельцев воспрепятствовать переменам, которых желали профранцузски настроенные либералы. И все же решающую роль сыграло уязвленное чувство национального достоинства. Чванливость и бесцеремонность французов, со страстной силой разоблаченные в памфлете Севаллоса «О методах, использованных императором Наполеоном для узурпации испанской короны», всколыхнули народные массы. Байоннский переворот своей грубостью и презрением к испанским национальным традициям оскорбил даже afrancesados, увидевших в Наполеоне нового деспота, поправшего идеалы Революции. «Если бы хунта собралась в Мадриде, а не в Байонне, если бы низложили Карла IV, оставив на престоле Фердинанда, произошла бы народная революция, и дело приняло бы совсем иной оборот», – говорил Лас Каз Наполеону на Святой Елене. Разве не в среде «жозефинов» [25]25
То есть сторонников Жозефа Бонапарта.
[Закрыть]сосредоточилась духовная и политическая жизнь Испании, представленная именами Азанца, О'Фарила, Кабар-руса, Уркихо, Моратина – нежного создателя «Согласия девушек» – или Гойи, который, завершив портрет Карла IV, преспокойно взялся писать Жозефа? Зато другие, пусть и менее многочисленные, такие как Ховеланос или Кинтана, примкнули к патриотам, отвергнув навязываемые извне реформы.
Испанское сопротивление
В считаные недели в Испании сформировалась стотысячная повстанческая армия, состоявшая в основном из крестьян и ремесленников, во главе с профессиональными военными. «Не секрет, что исход войны решили народные низы», – с презрением заметил afrancesado Рейносо. Гранды, толстосумы, гражданские власти – все, боявшиеся беспорядков, готовы были поддержать Жозефа. Правда, несколько смертных приговоров, вынесенных судом народа, охладили их про-французский пыл, однако лишь немногие примкнули к партизанской армии, возглавляемой плебеями: «Одноруким», «Смолёным», «Удалым». Овьедо восстал 24 мая, Сарагоса – 25-го (долгие месяцы город держал осаду под командованием Палафокса), Галисия – 30-го, Каталония – 7 июня. Заручившись поддержкой английского правительства, не желавшего перерастания испанского сопротивления в национально-освободительное движение, хунта во главе с бывшим министром Ховеланосом, собравшись сначала в Севилье и затем в Кадиксе, от имени Фердинанда VII объявила Франции войну. Жозеф смог вступить в Мадрид лишь 20 июля 1808 года – после одержанной шестью днями раньше победы Бесьера при Медина дель Рио-Секо. Хотя Страна Басков, Кастилия и Каталония не оказали серьезного сопротивления, новый король посылал Наполеону из враждебно встретившей его столицы панические депеши. Император по-прежнему не верил в возможность сколько-нибудь серьезного сопротивления, когда пришло сообщение, что у подножия Сьерра-Морены испанские войска окружили генерала Дюпона, руководившего военными операциями в Андалусии. Французские солдаты – большей частью вчерашние новобранцы, погибавшие от голода и жажды, – сдались в плен 22 июля 1808 года в Байлене. Не в первый раз наполеоновские войска терпели поражение на открытой местности. 4 июля 1806 года Ренье был разгромлен Стюартом в Калабрии, однако, благодаря хорошо организованному отступлению, свел потери к минимуму. Тем не менее сражение при Байлене открыло повстанцам дорогу на Мадрид. «Мы – французы, мы еще дышим, но мы не победители», – писал Морис де Ташер, один из сдавшихся в плен.
Перепуганный Жозеф покинул Мадрид и укрылся вблизи границы. Французы столкнулись с новой для них формой войны. Их потрясла безудержная ненависть испанцев, слагавших о французской солдатне такие вирши:
Заволновался Ланн: «Осада Сарагосы – совсем не та война, какую мы вели до сих пор». Пламя сопротивления перекинулось на Португалию, где по просьбе обосновавшейся в Порто хунты высадился шестнадцатитысячный контингент английских войск под командованием Уэлсли, будущего герцога Веллингтона. Жюно решил атаковать неприятеля, но потерпел поражение при Вимейро из-за численного превосходства противника. 30 августа он подписал Синтрскую конвенцию, по которой французы и португальцы, скомпрометировавшие себя сотрудничеством с Францией, подлежали репатриации. Осмелевшие англичане высадились в Галисии, встретив поддержку местного населения.
Все эти неудачи, и прежде всего катастрофа в Байлене, потрясли Европу. Они развенчали легенду о непобедимости Великой Армии. Между тем регулярная армия дислоцировалась в Германии, тогда как потерпевшие поражение части состояли в основном из новобранцев, моряков и иностранцев. Но английская пропаганда не замедлила подхватить новость, и британский флот выбросил на побережье Франции кипы листовок, живописующих разгром Дюпона. В Пруссии патриотическая партия ускорила проведение реформ. Австрия, потрясенная свержением испанских Бурбонов, вновь начала вооружаться. Союзников Наполеона охватило беспокойство. Штадион писал о настроении баварского короля: «Здесь на каждом шагу замечают, каких трудов ему стоит сдерживать негодование по поводу расправы с этой династией и скрывать тревогу в связи с неопределенностью и зависимостью собственного положения».
Эрфуртская встреча
Наполеон понял наконец, что события на Иберийском полуострове требуют самого пристального внимания. Но перебрасывать Великую Армию в Испанию – значило играть на руку жаждущей реванша Австрии. Следовало перепоручить контроль за Веной российскому союзнику. Встретившись в Тюрингии, временном французском анклаве, два монарха договорились продолжить Тильзитские переговоры. Стоявшая перед ними задача была не из легких. Советники Александра, стремясь лишить Наполеона военного плацдарма, представлявшего угрозу для России, настаивали на выводе французских войск из Пруссии. Была достигнута предварительная договоренность об эвакуации, намеченной на 1 октября 1808 года. Однако Наполеон, испытывая нужду в деньгах, стремился всеми силами выжать из Пруссии максимум причитающейся Франции контрибуции и, продолжая оказывать военное давление, не торопился с выводом своих войск. На востоке вопрос о разделе Турции упирался в проблему Константинополя, который Наполеон не хотел отдавать Александру. Царь же обвинял французов в том, что они нимало не заботятся об интересах России, в частности в том, что касалось оккупации Финляндии, и утверждал, что его партнер пользуется всеми выгодами от их союза, ничего не давая взамен. Что, наконец, обещания Наполеона освободить Пруссию в обмен на стосорокамиллионную контрибуцию и обязательство содержать армию в количестве не более сорока двух тысяч человек недостаточны для снятия напряженности в отношениях между двумя союзниками.
В Эрфурте Наполеон вел себя как проситель: ему пришлось пустить в ход все свое обаяние. Вот почему он привез с собой двор и «Комеди Франсез». Талейран, находившийся с 9 июля 1807 года не у дел, был удивлен полученным вызовом из Валенсии, где он исполнял роль тюремного надзирателя за испанскими принцами. Наполеон так излагал ему свои планы: «Мы едем в Эрфурт. Я хочу вернуться оттуда с руками, развязанными для того, чтобы свободно чувствовать себя в Испании. Мне нужна уверенность, что Австрия испугается и присмиреет, и я не хочу в какой бы то ни было форме ввязываться в дела Леванта. Подготовьте конвенцию, которая удовлетворяла бы императора Александра, ущемляла интересы Англии и устраивала меня. В остальном можете рассчитывать на мою помощь: необходимый престиж вам будет обеспечен». Талейран подготовил проект. Наполеон включил в него две статьи. Первая предусматривала, что он диктует обязательства, определяющие условия вступления России в войну против Австрии; вторая предполагала немедленную переброску русских войск к австрийской границе. В этих двух статьях заключалась вся соль эрфуртской встречи.
На переговоры Наполеон прибыл первым – 27 сентября 1808 года. В город съехались все коронованные особы Рейнской конфедерации: «королевский партер», или «цветник», как уточнил некий острослов. Выставленная напоказ роскошь не произвела на Александра ни малейшего впечатления: он изменил свое отношение к Наполеону. По свидетельству Меттерниха, Талейран взял на себя труд раздувать пламя. Обладая собачьим нюхом, бывший министр иностранных дел стал выразителем интересов части буржуазии, обеспокоенной безоглядным, как казалось, империализмом Наполеона – генератора нескончаемых войн. Потому-то Александр, направляемый Талейраном, умышленно подыгрывавшим Австрии, отклонил обе предложенные Наполеоном статьи [27]27
На наш взгляд, автор упрощает проблему: Александр I действовал отнюдь не в интересах французской буржуазии, рупором которой был Талейран, а в собственно российских интересах.
[Закрыть]. Они не вошли в подписанную 12 октября конвенцию, о чем Талейран поспешил уведомить венский кабинет министров. Заручившись нейтралитетом России, Австрия решила весной начать войну.
И на другом поприще Наполеон также не добился успеха. Он намеревался просить руки одной из сестер Александра и поручил Талейрану разведать обстановку. «Признаюсь, – вспоминал бывший министр, – мне стало страшно за Европу, когда я подумал о возможности очередного альянса между Францией и Россией. По мне, надо было сделать так, чтобы идея альянса выглядела достаточно приемлемой, способной удовлетворить Наполеона, но чтобы при этом возникли ограничения, делающие ее осуществление затруднительным». Желая оттянуть время, Александр, подготовленный Талейраном [28]28
Здесь роль Талейрана крайне преувеличена; Александр и мысли не допускал о родстве с «выскочкой корсиканцем».
[Закрыть], при встрече с Наполеоном ограничился туманными обещаниями. Однако месяц спустя Коленкур сообщил императору о помолвке великой княгини Екатерины с принцем Ольденбургским; другой сестре царя, Анне, было всего 14 лет.
Наполеону, желавшему добиться положительного результата в Эрфурте, следовало отдать царю Константинополь. Но он так и не смог на это решиться. Вот почему в подписанной 12 октября конвенции согласовывались лишь второстепенные вопросы: царю выделялась Финляндия, а также румынские провинции Молдавии и Валахии. В обмен на это статья 10 оговаривала, что «в случае, если Австрия начнет войну против Франции, российский император берет на себя обязательство действовать против Австрии совместно с Францией». Однако эта статья мало к чему обязывала, поскольку Александр отклонил важные для Наполеона пункты конвенции. Словом, составленное в угрожающих выражениях письмо было отправлено австрийскому императору лишь за подписью Наполеона; Александр ограничился данным австрийскому представителю, барону Венсану, «советом» не испытывать в очередной раз судьбу, берясь за оружие.
14 октября монархи расстались. Эрфуртская встреча завершилась дипломатическим поражением Наполеона. Однако Наполеон мог еще наверстать упущенное, если бы, быстро решив испанскую проблему, успел перебросить к весне Великую Армию на Дунай.
Наполеон в Испании
29 октября 1808 года Наполеон выехал из Парижа во главе стошестидесятитысячной армии, состоявшей из семи армейских корпусов под командованием Ланна, Сульта, Нея, Виктора, Лефевра, Мартье и Гувиона Сен-Сира. Для гвардии этот поход стал прогулкой: несколько небольших сражений открыли Наполеону дорогу на Мадрид. 30 ноября отряд польской легкой кавалерии прорвал оборону в ущелье Сомосьерра, и 4 декабря Мадрид пал. Двумя днями ранее Наполеон принял меры, призванные обеспечить ему поддержку местных либералов: упразднил инквизицию, феодальные привилегии, внутренние таможенные пошлины, треть монастырей.
И все же первая половина кампании выявила просчеты французских маршалов. Так, соперничавшие друг с другом Лефевр и Виктор, не обеспечив должного взаимодействия, упустили Галисийскую армию. Ней, лишившись поддержки Ланна, не смог разгромить армию центра. В армейской среде произошло нечто невероятное: 22 декабря, в буран, при переходе через перевал Сьерра-Гвадарама, солдаты стали роптать, отказываясь идти дальше. Наполеону пришлось спешиться, чтобы личным примером воодушевить бойцов. Весть об этом неповиновении вызвала в Париже сенсацию. Фуше не без ехидства упомянул о нем в бюллетене 18 января 1809 года.
Тем временем перегруппировавший силы генерал Мур двигался к Бургосу, намереваясь перерезать французам коммуникации. Наполеон попытался ударить по англичанам с тыла, однако его маневр не удался из-за плохой погоды и полного отсутствия информации о противнике.
Наполеон находился в Асторге, где 1 января получил объемистый пакет депеш. Ознакомившись с ними, он приостановил преследование англичан и объявил, что пробудет несколько дней в Асторге. 3-го он принял решение возвратиться в Париж, назначив вместо себя Сульта, который, несмотря на победу при Луго – 7-го – и Ла-Коруньи – 16-го, – так и не смог воспрепятствовать англичанам погрузиться на корабли.
Какого рода известия побудили Наполеона внезапно покинуть Испанию в тот момент, когда его ждали еще Лиссабон и Кадикс? По мнению обычно хорошо информированного Паскье, «Наполеон не мог больше игнорировать сообщения о продолжающемся интенсивном вооружении Австрии, что свидетельствовало о ее весьма опасных намерениях. Кроме того, он знал, что, уступая давлению Англии, она рассчитывала, воспользовавшись его отсутствием, перейти границу, захватить Баварию, перенести войну на берега Рейна и обеспечить освобождение Германии. Обстоятельства благоприятствовали Австрии в ее попытке осуществить этот смелый замысел. В самом деле, все пришло в движение в австрийских землях, едва Наполеон примчался из Испании, чтобы предупредить новую угрозу. Это был один из тех моментов жизни императора, когда его душа находилась, должно быть, во власти сильнейших эмоций».
Паскье отмечает и другую причину поспешного возвращения Наполеона: «плетущиеся в его правительстве интриги» и прежде всего – сближение между Талейраном и Фуше, которые до этого были в ссоре. «Что удивляло в неожиданном согласии этих двух особ, так это огласка, которой они, обычно столь осмотрительные, сочли возможным предать свой союз, – отмечает Паскье. – Либо они считали, что заключенный ими альянс укрепит их могущество, либо не сомневались в поражении императора». Как и накануне битвы при Маренго, оба сообщника, по-видимому, не исключали возможности гибели Наполеона, что позволило бы им заменить его Мюратом. Подобные интриги свидетельствовали об усталости, царящей в окружении императора, и страхе нотаблей перед непрерывно возобновляющимися войнами.
Особенности испанской войны
Наполеону удалось стабилизировать обстановку в Испании: столица была освобождена, английский контингент выдворен за пределы страны, а Сарагоса, по истечении трехмесячной осады, в ходе которой погибло 40 тысяч человек, пала 20 февраля 1809 года. Но эти успехи не привели к окончанию войны в Испании, войны без правил, зверства которой, быть может, и преувеличивались народным воображением. Для французской армии она была осложнена тяжелыми природными и климатическими условиями, проблемами с продовольствием, поскольку в нищей стране и в мирное-то время трудно было прокормиться, партизанскими набегами, которые предпринимал против разрозненных французских колонн и конвоев народ, доведенный до фанатизма ксенофобией и религиозной пропагандой. Кровная месть, социальный и региональный антагонизм, пылкость испанского характера лишали эту войну какого бы то ни было смысла.
Наполеон заблуждался, представляя себе Испанию по аналогии с Францией 1809 года. Реформы, проведенные в этой стране императором и его братом Жозефом, могли вызвать сочувствие лишь самой просвещенной части буржуазии, молодых представителей офицерства и незначительного числа лиц духовного звания, враждебно настроенных по отношению к инквизиции. Но даже среди этих afrancesados сколько было дорожащих своим местом чиновников и сколько армейских поставщиков, заинтересованных в огромных военных прибылях!
Столь же ошибочной была попытка сыграть на местном национализме в надежде разобщить врага. Напрасно Ожеро распечатывал на каталонском языке газеты, перепевавшие заезженные темы этнической автономии. Наконец, рассредоточенность очагов сопротивления сбивала с толку наполеоновских маршалов, привыкших сражаться в чистом поле против обороняющегося единым фронтом неприятеля.
Впервые не сработала наполеоновская концепция молниеносной войны, основанная на сокрушительных ударах, вынуждавших противника сразу же идти на переговоры. Французская армия увязла на полуострове, оказавшись не в состоянии одержать решающую победу. Испания лишила Империю живой силы; приходилось объявлять дополнительные рекрутские наборы. В 1809 году, не без осложнений, был досрочно призван в армию контингент 1810 года. С 1808 года доклады Фуше начинают пестрить сообщениями о многочисленных антивоенных манифестациях в Бордо и Париже. 4 декабря 1808 года Меттерних писал: «Со времени начала народного восстания в Испании вооруженные силы Франции сократились вдвое».
Затянувшаяся война перестала себя окупать. В опубликованном в 1812 году памфлете под названием «Наполеон – администратор и финансист» женевский экономист Франсис д'Ивернуа осветил финансовые последствия событий в Испании: «До 1809 года Наполеон осуществлял свое триумфальное шествие, завладевая трофеями побежденного врага, чтобы с их помощью напасть на другого и так же обобрать его. Все его войны, за исключением испанской, были столь молниеносными и эффективными, что, возместив благодаря победе расходы на проведенную кампанию, он всякий раз возвращался с казной, позволявшей ему в следующем году экипировать и содержать во Франции рекрутов – вплоть до отправки на территорию иностранной державы. Но, забросив их за Пиренеи, он ввязался в столь дорогостоящую авантюру, что, вместо того чтобы извлекать из каждой кампании по 250 миллионов франков, он стал вкладывать в них огромные суммы, в результате чего доходы обернулись для него расходами, а прибыль – убытком».