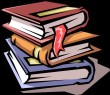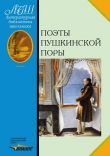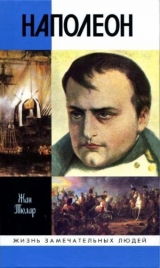
Текст книги "Наполеон, или Миф о «спасителе»"
Автор книги: Жан Тюлар
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
Заговор XII года
В октябре 1803 года несколько задержанных в Париже шуанов были преданы военному суду и приговорены к смертной казни. Один из них, по имени Керель, перед самым расстрелом взял слово. Он поведал, что прибыл в столицу одновременно с Кадудалем, замыслившим убить Первого Консула.
Это признание вселило ужас в полицейских, давно уже деморализованных упразднением министерства Фуше, подвергшегося опале 15 сентября 1802 года. Возглавивший полицейское ведомство председатель Верховного суда Ренье, которому ассистировал государственный советник Реаль, значительно уступал своему предшественнику. Между тем дело приняло нешуточный оборот в результате откровений рядового исполнителя Буве де Лозье, который после неудавшегося самоубийства назвал имена главных вдохновителей заговора: Моро, победителя в Гогенлинденском лесу, авторитет которого в армии был сравним лишь с авторитетом Бонапарта, и Пишегрю, высланного после фрюктидорианского переворота и нелегально возвратившегося во Францию. Допрос Буве проливает свет на главные цели заговора, предусматривавшего «реставрацию Бурбонов; обработку законодательного корпуса под руководством Пишегрю; организацию парижского восстания, вдохновляемого присутствием принца [15]15
Имя принца названо не было; речь могла идти об одном из представителей династии Бурбонов.
[Закрыть]; насильственное свержение Первого Консула; представление принца армии, деидеологизация которой поручалась Моро». Созвав чрезвычайное заседание Государственного совета, Бонапарт решает арестовать Моро. Однако общественность дезавуирует это решение, видя в сопернике Бонапарта лишь жертву политических интриг, тем более что Кадудаль и Пишегрю все еще на свободе. Донесения полиции информируют о волнениях в Париже и недовольстве в армии. И все же события быстро меняются в пользу Бонапарта. Пишегрю, а затем представители графа д'Артуа – Полиньяк и Ривьер – попадают в руки полиции. Арест Кадудаля подтверждает реальность заговора. Толпа оказывает содействие полицейским в захвате шуанов – еще одно свидетельство перемены в настроениях общества. На допросах Кадудаля произносится имя принца, ожидаемого с визитом во Францию. Людовик де Бурбон Конде, герцог Энгиенский, находился тогда в Эттенгейме, неподалеку от французской границы. По совету Талейрана (который станет затем отпираться) Бонапарт приказал арестовать его на территории Германии, что и было сделано 15 марта 1804 года. 20 марта принц был доставлен в Париж и в ночь на 21-е предстал перед наспех созданной военной комиссией. Он отверг обвинения в участии в заговоре, однако признал, что с оружием в руках воевал против революционной Франции. Его казнили (казнь была подготовлена и проведена Савари) во рву Венсенского замка в три часа утра. Смерть герцога Энгиенского, что бы там ни утверждал Шатобриан, не произвела никакого впечатления на французское общество. Жозеф вспоминает, как в марте 1804 года, на обеде в Морфонтене, когда он выразил сочувствие судьбе герцога Энгиенского, один из не уехавших в эмиграцию наиболее именитых представителей старой аристократии одобрил эту казнь: «Неужели Бурбоны полагают, что им будет позволено безнаказанно организовывать заговоры? Первый Консул заблуждается, если думает, что не эмигрировавшее потомственное дворянство так уж заинтересовано в Бурбонах. Разве не они третировали Бирона [16]16
Имеется в виду герцог Лозен (позднее Бирон), прославившийся своими любовными похождениями, позднее ставший генералом Революции и казненный по обвинению в измене.
[Закрыть]и моего предка, и стольких других?» Лишь в эпоху Реставрации главные действующие лица этой драмы – Талейран, Савари и сам Наполеон в «Мемориале» – почувствуют необходимость в самооправдании. А пока ведется следствие. 25 мая 1804 года начался судебный процесс по делу о заговоре Моро – Кадудаля (Пишегрю был найден задушенным в тюремной камере). 25 июня двенадцать шуанов во главе с Кадудалем взошли на эшафот. Заговорщиков дворян (Полиньяк, Ривьер) помиловали. Моро, приговоренный поначалу к двум годам тюрьмы, в конце концов отправился в ссылку. Будучи плохо организованным, грандиозный заговор XII года провалился еще и по экономическим причинам. Низкая цена на хлеб и отсутствие безработицы сняли главный побудительный мотив общего недовольства. К тому же главари заговора оказались в роли союзников враждебной Франции страны. Наконец, двусмысленная роль Моро не понравилась армии. Провал заговора не положил конца проискам роялистов (за этим заговором последуют многие другие), однако нанес им весьма ощутимый удар. Отныне антинаполеоновское движение ограничивается рамками тайных обществ, военных масонских лож, спиритуалистическими и благотворительными кружками. В обстановке экономической депрессии 1812 года совместные действия этих организаций подготовят государственный переворот генерала Мале.
А пока заговор XII года объективно сыграл на руку Бонапарту. Революционеры видели в укреплении консульской власти, связавшей себя после казни герцога Энгиенского с «ужасами Революции», единственный надежный заслон на пути реставрации монархии. Не случайно бывший член Конвента, цареубийца Алкье, заявил: «Предстоящее облечение Первого Консула наследственным императорским саном – предел моих желаний». Тогда впервые Бонапарт предстал в роли «спасителя».
Конституция XII года
Заговор вызвал негодование широких слоев общества. Бонапартистская пропаганда умело воспользовалась народным гневом. Искусно направляемая пресса внушала читателям мысль о необходимости водрузить власть Первого Консула на более солидное основание. «Меня абсолютно не волнуют все эти вынашиваемые против меня заговоры, – заявил Бонапарт. – Но я не могу отделаться от невыносимо тягостного чувства, когда думаю о том, в каком положении оказался бы сейчас этот великий народ, если бы недавнее покушение достигло цели» (то есть под угрозой оказались бы завоевания Революции). Сенат откликнулся на это заявление обращением от 27 марта, в котором содержалось предложение провести конституционную реформу. Основным поднятым в нем вопросом был вопрос о наследственной власти. На запрос о том, следует ли предоставить правительству Франции право наследственной власти, Государственный совет ответил нерешительным молчанием. Ожидаемую инициативу проявил Трибунат. Один из его членов, бывший революционер Кюре, предложил, чтобы «Наполеон Бонапарт, ныне Первый Консул, был провозглашен императором французов и чтобы титул императора наследовался членами его семьи». Один лишь Карно публично выступил против этого предложения. Стали поступать поздравления. Новая конституция, спешно отредактированная, была тарифицирована сенатус-консультом 18 мая 1804 года (28 флореаля XII года). Ее текст, включавший 142 статьи, закладывал фундамент новой власти – Империи, приспосабливая к ней старые государственные институты. Чтобы не травмировать лучших чувств революционеров, предпочтение было отдано императорскому, а не королевскому титулу. Наполеона же он устраивал потому, что, ассоциируясь с образом Карла Великого, наделял его «неограниченными» полномочиями. «Многочисленные недруги Наполеона в Европе, – заметил Тьер, – ежедневно приписывая ему намерения, о которых он даже, во всяком случае, до поры до времени, не помышлял, твердя на тысячу газетных голосов о его планах возрождения Западной Империи Карла Великого, подготавливали умы, в том числе его собственный, к тому, что он станет императором». Статья 2 называла по имени обладателя императорского титула – Наполеона Бонапарта, не очерчивая круга его полномочий. Империя превратилась в навязанную логикой обстоятельств реальность. Титул императора наследовался его прямыми потомками, за исключением потомков по женской линии, что являлось данью монархической традиции. Однако, не имея наследников, Наполеон мог по желанию усыновить любого из детей или внуков своих братьев. Приемным детям предстояло уступить свои права прямым потомкам императора в случае, если последние появятся на свет после их усыновления. Пункт об усыновлении явился новшеством: будучи основателем Империи, Наполеон оставлял за собой право распоряжаться ею по своему усмотрению. Общественность спокойно восприняла положение о наследственной власти, поскольку у Наполеона не было детей. Это положение представлялось надежным гарантом стабильности, исключающим возможные заговоры и интриги. И при этом не предполагало узаконения династических привилегий, аналогичных бурбонским. Империя заявляла о себе как о диктатуре общественного спасения, призванной отстоять завоевания Революции. Следующим шагом на пути реставрации дворянства стало создание института шести высших придворных должностей: великого электора, архиканцлера, архиказначея, государственного канцлера, великого коннетабля и великого адмирала, а также высших офицеров (в том числе шестнадцать маршалов). Эти высшие должностные лица председательствовали в избирательных коллегиях. Кажущееся отличие вновь созданного абсолютизма от прежнего состояло в том, что всем представителям власти, от императора до скромного служащего, вменялось в обязанность приносить присягу. Так Империя, дистанцируя себя от монархии, представала освященной высшими интересами диктатурой общественного спасения. Были учреждены также две сенатские комиссии: по индивидуальным правам и по свободе печати. Первая рассматривала все случаи незаконных арестов, в компетенцию второй входило умерять аппетиты цензуры. На практике деятельность этих комиссий ограничивалась лишь никого ни к чему не обязывающими представлениями на имя соответствующих министров. Провели третий референдум. Народу предложили согласиться с «наследованием императорской власти прямыми, побочными, законными и усыновленными потомками Наполеона, а также прямыми, побочными и законными потомками Жозефа и Луи Бонапартов». Вопрос о титуле императора на референдум не выносился. 6 ноября 1804 года были обнародованы результаты: 3 572 329 «да» и 2 569 «нет». В реестрах некоторых коммун фигурировала лишь одна запись: «Все единогласно проголосовали за». В Париже решения многих избирателей сопровождались пояснениями. Новоявленные поэты не щадили сил:
Над новым Римом, Цезарь, властвуй целый век
И помни: Император – тоже человек.
Или:
Я червь земли, но, как монарх, велик.
Мой ум преображает мира лик.
Результаты плебисцита послужили поводом к ликованию. Лишь один генерал, служивший в департаменте Шаранта, запретил какие бы то ни было изъявления восторга. Его звали Мале.
Коронация
По итогам плебисцита было принято неожиданное решение: организовать церемонию коронации. Подобно Людовику XVI, последнему королю Франции, автор Конкордата возжелал опереться на божественное право. Эта идея, несколько шокировавшая не в меру приверженных революционному духу брюмерианцев, натолкнулась на решительное сопротивление Государственного совета. Реймс и Ахен, как места коронации [17]17
В Реймсе при старом порядке короновались французские короли, Ахен был столицей Карла Великого и его наследников.
[Закрыть], были заменены Парижем, причем, желая возродить традицию, Наполеон непременно хотел пригласить в столицу римского папу.
Пий VII принял приглашение, надеясь добиться смягчения формулировок некоторых статей конституции. Одно обстоятельство чуть было не испортило дела: возникла необходимость спешно, в ночь на 2 декабря, обвенчать Наполеона с Жозефиной. 2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери в присутствии дипломатического корпуса, двора, членов Законодательного собрания и депутаций от «лояльных городов» состоялась пышная церемония, увековеченная для потомства на полотнах Изабо и Давида. Ее сценарий был тщательно продуман и отредактирован Порталисом и Бернье: предстояло не допустить насмешек публики, свято веровавшей в превосходство вечного над преходящим. Известно, что Наполеон собственноручно возложил на себя корону. Вопреки расхожему мнению, этот жест не был ни демонстрацией личной независимости, ни вдохновенной импровизацией, но поступком, предусмотренным протоколом, акцией, которая обсуждалась так же долго, как и вопрос о том, следует ли Наполеону совершить причастие. От причастия решено было отказаться. Затем император возложил корону на Жозефину. Что это, каприз? Любовь? Политический маневр? Когда папа удалился, настало время принесения присяги. Это была светская часть церемонии, рассчитанная на то, чтобы потрафить бывшим революционерам, – торжественный момент скрепления союза Наполеона и нотаблей. «Я клянусь, – сказал Наполеон, – сохранять в неприкосновенности территориальную целостность республики, соблюдать и следить за соблюдением статей Конкордата и закона о свободе вероисповедания, соблюдать и следить за соблюдением принципов равноправия, политических и гражданских свобод, неотменяемости распродажи национального имущества, не повышать налогов и не вводить не предусмотренных законом пошлин, способствовать деятельности ордена Почетного легиона, править исключительно во имя интересов, счастья и славы французского народа». Этой присягой Наполеон заявлял о себе как о «коронованном представителе восторжествовавшей Революции». Он провозглашал, что будет служить имущему классу образца 1789 года в расчете на его ответную преданность. Быть может, он предвидел уже грядущий альянс новоиспеченных нотаблей со старинными дворянскими родами. Он предстал, как писал Бальзак в романе «Крестьяне», «человеком, обеспечившим право владения национальным имуществом. Его коронация была замешена на этой идее».
Глава V. ПОБЕДЫ НА КОНТИНЕНТЕ
Амьенский договор положил конец конфликту, в котором Франция, начиная с 1789 года, противостояла всей монархической Европе. Потомственные династии отступили. Не сумев путем военного вмешательства задушить новые идеи свободы и равенства, они вынуждены были признать законность их существования по крайней мере во Франции. Бонапарт предстал, таким образом, не только миротворцем, но и спасителем Революции. Но являлась ли новая антифранцузская коалиция 1805 года, возникновение которой было легко предсказуемо после произошедшего два года назад разрыва дипломатических отношений с Англией, продолжением революционных войн, или же речь шла уже о новом типе межгосударственных отношений, ответственность за которые целиком лежит на Наполеоне? Современникам все было ясно: Англия возобновила военные действия, временно приостановленные ею для того, чтобы перевести дух. Французская общественность без колебаний возложила на Англию всю ответственность за разрыв дипломатических отношений. «Англичане, – читаем в отправляемых из Лондона информационных бюллетенях, – говорят, что война представляется им сегодня почти неизбежной; газеты и военное производство до такой степени закусили удила, что они не сомневаются в агрессивных намерениях своего правительства. И добавляют, что сейчас – самый благоприятный момент, уникальная возможность отвлечь Первого Консула от предпринятых им на благо Франции грандиозных преобразований, которые, если они осуществятся, лишат Англию каких бы то ни было надежд». Что касается историков, то они, хотя и с оговорками, признали термины «третья и четвертая коалиции», приняв тем самым концепцию преемственности революционных войн. Кампании 1805 и 1806 годов вела еще «Великая Нация».
Разрыв
Из донесения полиции 14 марта 1803 года: «Англичане говорят лишь о войне. По их словам, вчера и позавчера они получили из Лондона письма, в которых сообщается, что в соответствии с королевским посланием парламент проголосовал за значительные военные ассигнования, большой рекрутский набор, а также за срочное оснащение сорока линейных кораблей». Тот же источник в донесении от 16 марта сообщает: «Домашний врач герцога Йоркского Макдональд, проживающий на улице Бак, свидетельствует, что все его знакомые английские офицеры считают войну неизбежной». От 21 марта: «Англичане сообщают, что в письмах, только что полученных ими из Лондона, содержится информация об ускоренных военных приготовлениях, что пресса никогда еще не была настроена так решительно, что в ход идут все средства для приведения армии в боевую готовность и что нет такого человека в Англии, который сомневался бы в неизбежности войны». На материале этих собранных по распоряжению Первого Консула сведений можно проследить процесс ухудшения франко-английских отношений. 17 мая 1803 года произошел окончательный разрыв. Как можно было предвидеть на основании донесений полиции, англичане первыми начали военные действия. Они выдвинули многочисленные требования. Уитворт, английский посол в Париже, перечислил их в одной частной беседе, содержание которой полиция тут же довела до сведения Бонапарта. «1) В Амьене было подписано соглашение о невмешательстве во внутренние дела Швейцарии, однако, несмотря на него, было допущено военное вмешательство в дела этого государства; 2) внесенный в договор пункт об эвакуации Мальты предполагал соблюдение интересов России, однако Петербург видел свои интересы в том, чтобы разместить на острове гарнизон, что не устраивало ни Англию, ни Францию;
3) договорились подписать торговое соглашение, однако Франция не пожелала даже слышать о нем; 4) наконец, Франция скрывала истинные цели своих военных приготовлений». Англия выразила глубокое разочарование отказом Бонапарта (на который он пошел под давлением владельцев мануфактур, но также и в интересах политики меркантилизма) начать торговые переговоры: слишком живы еще были воспоминания о договоре 1786 года, который практически разорил французскую текстильную промышленность, открыв английским товарам свободный доступ на внутренний рынок. Франция, едва вышедшая из гражданской войны, не смогла бы составить Англии серьезную конкуренцию. Впрочем, была и другая, более веская причина: Бонапарт намеревался превратить со временем Европейский континент в рынок сбыта французских товаров. Лондон не устраивало перекраивание карты Германии. 23 февраля 1803 года имперский сейм поделил ее территорию в пользу «Священной римской империи германской нации», Пруссии, Баварии и Вюртемберга. Председательствовавший на нем обер-канцлер Дальберг занимал профранцузскую позицию. Союзница Англии Австрия мало-помалу утрачивала влияние на ход европейских событий. Французская оккупация Италии распространилась на Геную и Тоскану. С 19 февраля 1803 года Бонапарт посредничал в создании Гельветической конфедерации. Под еще более сильное влияние Франции попала Батавская республика. Вот какие рынки сбыта теряла Англия! Но куда прискорбнее для нее было то, что Бонапарт приступил к созданию великой колониальной державы. Что это, возрождение былой восточной грезы? После подписания мира с Портой (26 июня 1801 года) Брюн был назначен послом в Константинополь. В сентябре 1802 года Себастиани отправился на Средиземноморье, и его отчет о военном положении Египта, опубликованный 30 января 1803 года в «Мониторе», призывал французов к новой интервенции. 7 августа французские военно-морские силы продемонстрировали свою мощь Алжиру. 18 июня Декан получил назначение на должность суперинтенданта торговых фирм в Индии и Иль-де-Франсе, куда и отбыл для исполнения служебных обязанностей. 20 июня Кавеньяк стал комиссаром по торговым делам в Маскате. А что означал интерес Бонапарта к американскому континенту? Рождение очередной, на сей раз американской, грезы? 24 сентября 1802 года Виктор был назначен суперинтендантом Луизианы, которую Испания возвратила Франции. Благодаря Виктору Юге Франция восстановила свое влияние в Гвиане. Новый Орлеан стал опорным пунктом Франции в Северной Америке, Кайена – в Южной. Так вырисовывались планы Первого Консула, связанные с американским континентом.
Желая навести порядок в Сан-Доминго, бывшей французской колонии, перешедшей под контроль негра Туссена-Лувертюра, Бонапарт направил туда во главе двадцатипятитысячного отряда своего шурина, генерала Леклерка. Однако этой американской мечте не суждено было сбыться: экспедиция в Сан-Доминго, снаряженная без учета жаркого климата, обескровленная желтой лихорадкой и сопротивлением восставших рабов, окончательно провалилась в декабре 1803 года. В мае того же года Первый Консул продал Луизиану Соединенным Штатам. В конечном счете все направленные на восток миссии, за исключением той, которую возглавил Себастиани, не выполнили поставленной перед ними задачи. Декану пришлось искать убежища на Маскаренских островах. Имам Маскаты отверг предложение Кавеньяка. Экспедиции Бодена, посланной в «Австралийские земли» (1800–1804) якобы с научными целями, предстояло утвердить французское присутствие у южных берегов Австралии, обозначенных Пероном и Лезюером в опубликованном ими по итогам путешествия атласе как «Земля Наполеона». Однако и здесь Францию ждала неудача. Попытки основать колониальную империю не удались из-за непоследовательности проводимой политики, а также из-за несоответствия средств целям; они продемонстрировали лишь заморские амбиции Франции, насторожившие английский кабинет министров. Главной причиной разрыва стал вопрос об эвакуации Мальты. Англия, оказавшаяся перед угрозой военной экспансии Бонапарта в Европе, не собиралась уступать этот отвоеванный у Франции важный стратегический объект. Со своей стороны, Бонапарт заявлял, что, выведя в соответствии с договором свои войска из неаполитанских портов, будет непреклонен в Средиземноморье и, в частности, в вопросе об острове. Талейран взял на себя роль глашатая правительства. «Первому Консулу тридцать три года, и он расправился лишь со второстепенными государствами. Кто знает, сколько ему понадобится времени, если его к этому принудят, чтобы обновить лицо Европы и возродить Западную Империю?» Тон пререканий неуклонно повышался. 13 марта 1803 года произошла преднамеренная стычка Бонапарта с английским послом. Лондон отреагировал ультиматумом, в котором содержалось требование эвакуировать Голландию и Швейцарию, затем – только Голландию в обмен на вывод в течение десяти лет английских войск с Мальты, за исключением базы на острове Лампедуза. В мае Бонапарт предложил вынести вопрос на рассмотрение третейского суда, составленного из нейтральных государств. На этот период Мальта должна была быть временно оккупирована русскими войсками. Однако англичане не были расположены лишаться бастиона, контролировавшего морской путь в Египет, страну, в отношении которой французы не скрывали своих агрессивных намерений. Окончательный разрыв произошел 16 мая. На французские суда, стоявшие на рейде в английских портах, был наложен секвестр. В ответ Бонапарт приказал арестовать всех проживавших во Франции англичан, оккупировать Ганновер, а также несколько портов на юге Италии. Война возобновилась. Спровоцированная Англией, она отвечала интересам Бонапарта: он допускал, что успехи в деле возрождения страны, консолидация Республики, устранение внешней опасности вызовут у революционной буржуазии искушение отделаться от Первого Консула, крепнущая личная власть которого превратится в угрозу для либеральных свобод. Следовало во что бы то ни стало продолжать играть роль «спасителя». «Первый Консул – не то что эти короли Божьей милостью, которые относятся к своим государствам как к наследственному имуществу. Он должен совершать подвиги, а значит – воевать», – будто бы заявил в одной из конфиденциальных бесед Бонапарт. Но война устраивала и французскую буржуазию, англофильскую по своим вкусам, англофобскую по своим интересам. Давно пора было сломить экономическую мощь Великобритании. Война представлялась панацеей, способной разорить вероломный Альбион. Французские теоретики полагали, что в основе экономического процветания лежат жесткий меркантилизм и финансовая ортодоксия, предполагающая введение в обращение металлических денег и свертывание кредита.
Англо-французская война
Думая о том, как одолеть Англию, Наполеон вспомнил о давнем намерении Директории высадить десант. В свое время Гош предложил начать с оккупации Ирландии, угнетаемой католической страны, кипящей патриотическим негодованием с самого начала Войны за независимость. Сокрушительный отпор, который получила первая же попытка генерала Юмбера, вынудил отказаться от этого плана. Было решено осуществить прямое нападение на Англию: высадиться в Дувре и идти на Лондон. Однако Великобритания только что продемонстрировала превосходство на море, блокировав французские порты и возвратив себе острова Санта-Лючию и Тобаго. А для того, чтобы форсировать Ла-Манш, необходимо было на протяжении десяти часов обеспечивать господство над этим морским районом. Предполагалось, что на втором этапе операции французские войска легко преодолеют сопротивление английского ополчения и Лондон будет взят без боя. Весьма оптимистичный план, недооценивавший как боеспособность английских войск, так и трудности, с которыми неминуемо пришлось бы столкнуться армии, отрезанной водной преградой от тыла. Время шло, а вопрос о форсировании Ла-Манша оставался открытым, хотя в подходе к нему по-прежнему преобладал дух необоснованного оптимизма: «Всего лишь несколько лье отделяют нас от Англии, и каким бы жестким ни был ее крейсерский заслон, ей не удастся долго сохранять дееспособность и эффективность обороны, необходимой для того, чтобы остановить флотилию, обладающую преимуществами выгодной диспозиции, разнообразием возможностей и быстроходностью своих плавучих средств». Любопытный документ, позволяющий уяснить первоначальный замысел избранной Наполеоном и его советниками тактики, суть которой состояла во внезапной атаке груженной солдатами флотилии. Предполагалось, что флотилия будет состоять из трех тысяч кораблей. На поверку к 28 июля 1805 года их набралось всего две тысячи сто сорок. «Выгодной диспозицией» был город Булонь, в котором Бонапарт разместил свой штаб. В его распоряжении было двести тысяч человек, расквартированных вдали от столичных политических афер. Вместе с тем, хотя Булонь и находилась в относительной близости от Парижа, что позволяло императору одновременно заниматься государственными и военными делами, она являлась, по-видимому, «худшим из портов Ла-Манша», так как контролировалась англичанами, следившими за всеми приготовлениями. «Разнообразие возможностей» также оставляло желать лучшего: многого ли стоили копьевидные шаланды и канонерки? Свирепый ураган, разразившийся 20 июля 1804 года и разметавший дюжину этих суденышек, продемонстрировал ненадежность французской флотилии. Пришлось признать необходимость ее поддержки эскадрами. Что же касается «быстроходности плавучих средств», то надо было ждать двух приливов, чтобы отчалить от Булони. И вновь во весь рост вставала кардинальная проблема достижения военного превосходства в проливе. Словом, от всех вариантов плана, предусматривавшего внезапное нападение на Англию под покровом ночи силами флотилии, с использованием неблагоприятных погодных условий, пришлось отказаться. Вступление в войну Испании с ее мощным флотом внесло в первоначальные стратегические планы существенные коррективы: решающая роль стала отводиться отныне военно-морским силам. В соответствии с распоряжениями, отданными в феврале – марте 1805 года, брестской (под командованием Гантома) и тулонской (под командованием Вильнева) эскадрам предписывалось, обманув бдительность англичан, взять курс на Антильские острова, соединиться там с эскадрами из Рошфора (под командованием Мисьесси), Кадиса и Эль-Ферроля. Цель этого маневра состояла в том, чтобы вынудить англичан направить свои корабли в Индию, Средиземное море и к Антильским островам, оголив оборону Ла-Манша. 30 марта 1805 года Вильнев отбыл из Тулона. Накануне, 11 января, Мисьесси отплыл со своей эскадрой из Рошфора, а Гравина – из Кадиса. Однако встреча у Антильских островов не состоялась из-за плохого взаимодействия французского и испанского флотов, а также потому, что Наполеон, передумав, предложил Гантому остаться в Бресте. Последующие распоряжения доходили с опозданием из-за плохо налаженной связи. К тому же установленные Наполеоном жесткие сроки оказались нереальными. Не найдя друг друга, эскадры вернулись в порты приписки, и британскому адмиралтейству удалось избежать рассредоточения своего флота. Инструкции лорда Бархама были недвусмысленны: «В случае затруднений при определении намерений противника всем кораблям сосредоточиться у острова Уэссан для прикрытия входа в Ла-Манш. Именно здесь необходимо добиться решающего превосходства; если канал окажется в руках неприятеля, Англии несдобровать». Вернувшись в Европу, Вильнев получает новое задание: соединиться с вышедшим из Рошфора Алльманом и деблокировать брестскую эскадру. Невыполнимое поручение: Вильнев предпочитает отсидеться в Кадисе. Наполеон тем временем проявляет признаки нетерпения. Обстановка на континенте непрерывно ухудшается, и давно уже пора высаживать десант. Однако приказы Наполеона поторапливаться дошли до Вильнева уже после того, как Наполеон отказался от десанта. 26 августа император принял окончательное решение. 29-го первые колонны двинулись на Германию. В сознании Наполеона ответственность за провал булонской операции, в успех которой не верил никто, легла на Вильнева. Подгоняемый противоречивыми приказами, Вильнев наконец снялся с якоря. 21 октября у мыса Трафальгар он столкнулся с Нельсоном и Коллингвудом. Боевой порядок франко-испанской эскадры был атакован: один корабль взлетел на воздух, семнадцать других взяты в плен, сам Вильнев сдался. Дюмануар, которому удалось оторваться от преследования, был разбит в сражении у мыса Ортегаль. Английский флот одержал убедительную победу благодаря более высокой профессиональной подготовке команд и глазомеру канониров, победу, увы, оплаченную гибелью адмирала Нельсона, сраженного на «Victory» пулей, пущенной марсовым матросом «Грозного». Убедительную в том смысле, что Наполеон лишился флота, способного реально противостоять английским военно-морским силам. Сломленный, он уступит им господство на море, то есть окончательную победу. Но никто еще, даже сам премьер Питт, не догадывался, что англичане уже выиграли войну.
Аустерлиц
Английское золото не лежало на континенте мертвым грузом. С его помощью была заключена еще одна, третья, антифранцузская коалиция. Россия вступила в нее без особого нажима: Александр I завидовал Бонапарту, англомания царила в Санкт-Петербурге, болезненно отреагировавшем на казнь герцога Энгиенского. Главный советник царя поляк Чарторыжский склонял своего господина к возобновлению войны с Францией. Англия обещала выплачивать по 1 миллиону 250 тысяч фунтов ежегодно за каждые сто тысяч участвующих в сражениях русских солдат. Возмущенная затеянным Францией дележом Германии и Италии, Австрия вступила в коалицию, к которой присоединились также и неаполитанские Бурбоны. Состав этой коалиции напоминал те, которые Англия организовывала в свое время против революционной Франции. Вот почему она не вызвала особого удивления французской общественности. Сам Наполеон в обращении 30 сентября 1805 года назвал ее «третьей коалицией»: «Солдаты, ваш император с вами. Вы – авангард великого народа. Если понадобится, он весь, как один, поднимется по моему призыву, чтобы рассеять и сокрушить очередной союз, сотканный Англией из золота и ненависти». И все же не обошлось без волнений. Поползли слухи о банковских сейфах: поговаривали, будто Наполеон опустошил их накануне предстоящей кампании. Беспокойство переросло в панику, хотя и беспочвенную, однако осложнившую положение Банка, скомпрометированного бездарным министром финансов, ввязавшимся в затеянную Увраром спекуляцию на мексиканских пиастрах. Экономическая депрессия 1806 года, к которой мы еще вернемся, явилась прежде всего следствием кризиса доверия, возникшего в результате возобновления войны на континенте. Благодаря сводкам из Великой Армии, обосновывающим и разъясняющим суть военных операций, Наполеону удалось укрепить «моральный дух нации». Эти бюллетени были очень популярны в 1806 году: актеры декламировали их со сцены, учителя диктовали ученикам, священники проповедовали с амвонов; они достигали самых глухих деревушек, и о их поступлении оповещали звон колокола или дробь барабана. Они находили отклик в печати и в лирике. «Императорский бюллетень» – так назвал в 1806 году Кольсон свои «героические стансы». Эти мероприятия обеспечивали сплоченность вооруженных сил с народом, слагался своего рода миф о народной армии, даже когда Великая Армия становилась лишь инструментом в осуществлении личных амбиций императора. Впрочем, восстановлению доверия способствовали не столько бюллетени, сколько блистательные победы Наполеона. 13 августа 1805 года он продиктовал из Булони план операции, предусматривавший переброску Великой Армии с берегов Ла-Манша в Германию. Внезапное нападение австрийцев на Баварию, союзницу Франции, отнюдь не застав императора врасплох, позволило ему покинуть ставку в Булони. Поручив маршалу Брюну заботу о материальном обеспечении Великой Армии, состоявшей из семи корпусов (Бернадот, Мармон, Даву, Сульт, Ланн, Ней, Ожеро) и кавалерийского резерва под командованием Мюрата, Наполеон двинул ее по заранее намеченному маршруту к Рейну. Через двадцать дней Великая Армия сосредоточилась в Майнце. Блокировав долину между Майном и Дунаем, Наполеон отрезал вторгшемуся в Баварию генералу Маку путь к отступлению. Потерпев 14 октября поражение в битве при Эльхингене, в которой отличился Ней, австрийцы укрылись в крепости Ульм. 20 октября 1805 года, накануне Трафальгарского сражения, Мак капитулировал. Первый этап кампании занял две недели. Вопреки бытующему мнению, в ходе этой кампании возникли материальные трудности: несмотря на то, что каждый солдат получил к 23 октября на Рейне причитающиеся ему сапоги и жалованье, несмотря на бесперебойную работу тыла, к 22 ноября насчитывалось уже восемь тысяч больных. Из-за стремительного продвижения пало множество лошадей, а воровство в тылу приняло такие размеры, что приказом от 25 ноября Наполеону пришлось привлечь к работе военные комиссии. От Ульма Наполеон совершил бросок к Вене, которой овладел 15 октября безо всякого сопротивления. Франц II эвакуировал столицу, рассчитывая соединиться с армией русского царя. «Сражение трех императоров» развернулось 2 декабря, в годовщину коронации, на поле, выбранном самим Наполеоном: при Аустерлице. Самая блестящая из наполеоновских побед и самая ясная по замыслу. План Наполеона был предельно прост: оставив за русско-австрийской армией Праценские высоты и сосредоточив перед ними свои дивизии (Сульт в центре, Даву на правом фланге, Ланн и Мюрат – на левом), внушить неприятелю мысль отрезать французов от дороги на Вену и для этого обойти их с правого, намеренно ослабленного Наполеоном фланга. Чтобы осуществить этот план, генеральному штабу противника надо было укрепить свой левый фланг, оголив при этом центр Праценских высот. Как только неприятель совершит эту ошибку, Наполеон штурмом возьмет высоты, вклинится в центр поредевших русско-австрийских войск, расчленит их и сомнет слабейший из флангов. Так оно все и произошло. Сражение началось в семь утра с восходом солнца и завершилось к шести часам вечера, с наступлением темноты, разгромом русской армии.