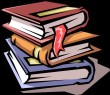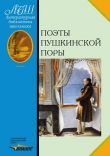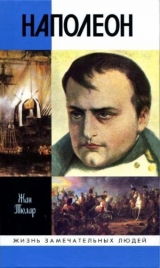
Текст книги "Наполеон, или Миф о «спасителе»"
Автор книги: Жан Тюлар
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Между тем Бонапарту нужна была широкая поддержка народа, которая выражалась бы в более активном участии в референдуме. Люсьен это понял. Проведя статистический анализ, Ланглуа обнаружил фальсификацию, на которую пошел министр внутренних дел. Три миллиона «да» из пяти миллионов обладавших правом голоса граждан должны были создать впечатление всеобщего одобрения. В действительности же истинное число положительных ответов составляло не более полутора миллионов. И что же? Службы Люсьена округлили полученные в департаментах цифры, добрав таким образом примерно 900 тысяч голосов. К ним приплюсовали 500 тысяч «да», сказанных армией, в которой опрос не проводился, но которой поспешили приписать бонапартистские настроения. Обман удался. Впрочем, Бонапарт начал применять конституцию, не дожидаясь окончательных результатов.
Словом, из этого опроса трудно извлечь какие-то достоверные сведения, поскольку голосование не было тайным, а его результаты оказались подтасованными. Не стоит доверять и современникам, утверждавшим, что «любого гражданина, независимо от возраста, пола, социального положения и национальности, не только допускали, но и приглашали к участию в голосовании». Данные реестров противоречат этим заявлениям. Результаты голосования отразили господствовавшие настроения, однако этот плебисцит, отнюдь не ставший свободным волеизъявлением народа, явился всего лишь констатацией свершившегося. «Вот как была основана во Франции плебисцитарная Республика», – написал в 1926 году А. Олар.
На место многочисленных представителей, которым французский народ поручал до сих пор законодательствовать и управлять, он поставил одного человека – Наполеона Бонапарта.
Конституция вступила в силу задолго до ее официального принятия. Политический костяк новой власти составили умеренные, бывшие фельяны и термидорианцы, которых попытались разбавить несколькими прежде стоявшими в стороне нотаблями, добавив к ним горстку раскаявшихся монархистов. В сенат вошли отобранные главным образом Сиейесом генералы (Келлерман, Атри, Леспинас, Серюрье), адмиралы (Бугенвиль и Морар Дегаль), представители судебной и административной власти, ученые (Бертоле, Монж, Лаплас, Добе-тон, Лагранж), литераторы (Вольней, Дестут де Траси), банкиры (Перрего), живописец (Вьен). Тридцать семь членов из шестидесяти были профессиональными парламентариями (Корнюде). Совет старейшин и Совет пятисот поставили Дю-буа-Дюбэ, Тара, Ленуара-Лароша, Вимара и Корне – мы упоминаем лишь самых известных. Из прежних национальных собраний в сенат вошли: Гаран-Кулон, Дейи и Франсуа де Нешато. В Трибунате тон задавали идеологи: Дону, Бенжамен Констан (вошедший туда по настоянию мадам де Сталь), Дюпюи, Жан Батист Сей, Ларомигьер, Андрие, Мари Жозеф Шенье, Деренод, Женгене. Предпочтение отдавалось молодым, критически настроенным умам. С их помощью Сиейес надеялся создать со временем конструктивную оппозицию. В отличие от Бонапарта, он оставался в душе сторонником парламентаризма. Окажись Сиейес во главе Франции, Трибунат сыграл бы в ее истории заметную роль.
Из трехсот членов Законодательного корпуса двести семьдесят семь были членами предыдущих национальных собраний. Назовем Грегуара, Дальфонса, Бреара…
Так, от одной формы правления к другой, кочевала народившаяся в эпоху Революции политическая элита Франции.
Административные реформы
Решающая роль в разработке конституции принадлежала Бонапарту. Несколько иначе обстояло дело с реформами административными, где последнее слово оставалось за Шапталем и Камбасересом.
Закон от 28 плювиоза VIII года (17 февраля 1800 года) покончил с либеральными завоеваниями Революции: коллегиальностью правления, выборностью и автономией местных органов власти. В поисках большей эффективности управления был произведен поворот к централизации. Территориальное деление на департаменты, округа и коммуны осталось прежним, однако управление ими было поручено соответственно префектам, супрефектам и мэрам, кандидатуры которых предлагались нотаблями, но утверждались Первым Консулом. Префект чем-то напоминал интенданта, власть которого при старом режиме ограничивалась привилегиями высших сословий, полномочиями парламентов и Провинциальных штатов. Этих отмененных Революцией ограничений больше не существовало для префектов. Назначаемые правительством местные советы (муниципальные, окружные и главные) ведали лишь финансами. Советы префектуры занимались решением административных вопросов.
На особом положении находились Париж и департамент Сена. Отказавшись от возникших в эпоху Революции, но оказавшихся малоэффективными коллегиальных институтов власти, Бонапарт и его советники создали администрацию, аналогичную той, которая существовала до 1789 года. Департамент Сена был разделен на три коммунальных округа. Во главе первого (Пантен, Бельвиль, Клиши, Пасси) и второго (Венсен, Монтре, Со) был поставлен супрефект. Третий округ, в который вошел Париж, не имел супрефекта. Столица, вновь превратившаяся в единую коммуну, была все же поделена на двенадцать муниципальных округов, возглавляемых мэрами, которые ведали гражданским состоянием. Полноправным мэром Парижа был префект департамента Сена, унаследовавший полномочия прево. Его резиденция находилась в ратуше. У Парижа не было своего муниципального совета: его функции выполнял главный совет департамента Сена. За всеми этими преобразованиями стояло стремление не только не допустить во главу городской администрации избранного народом мэра, который обладал бы властью, превышающей власть префекта, но и исключить саму возможность возрождения собрания, аналогичного тому, которое запятнало себя кровавыми событиями сентября 1792 года. Пользуясь привилегиями как в области фискальной политики, так и в отношении рекрутского набора, столица постоянно оставалась объектом неусыпного контроля. Так как должность префекта была нелегкой и существовало опасение, что он не справится с обеспечением порядка в столице, к нему было прикомандировано второе должностное лицо, в непосредственные обязанности которого входило поддержание безопасности. Этим лицом стал префект полиции в звании генерал-лейтенанта старого режима. По рекомендации Фуше Бонапарт назначил на эту должность бывшего прокурора Шатле Луи Николя Дюбуа.
Префекты, так же как сенаторы и законодатели, рекрутировались из бывших членов национальных собраний эпохи Революции. Префект департамента Сена Фрошо, Мунье, сменивший Бори на посту префекта департамента Иль-э-Вилен, Доши (Эн), Ламет (с 1802 года – префект департамента Нижние Альпы), Марки (Мерт), Юге (Алье), Жиро (Морбьян), Мешен (Ланды), Эймар (Леман), Арман (Майен), Жубер (Нор), Рикар (Изэр), Пужар (Верхняя Вьенна) – все это в прошлом члены Учредительного собрания. Беньо (Нижняя Сена), Рабюссон-Ламот (Верхняя Луара), Ружье де ла Берже-ри (Ионна), Монто-Дэзиль (Мэн-и-Луар), Вернейль-Пюира-зо (Коррэз), Булле (Кот-ди-Нор), Ришар (Верхняя Гаронна), Ногаре (Эро), Ламарк (Тарн), Имбер (Луара), Ружу (Сона-и-Jlyapa) – это бывшие депутаты Законодательного собрания. Летурнер (Нижняя Луара), Жан де Бри (сменивший в 1801 году Марсона в должности префекта департамента Дуб), Тибодо (Жиронда), Колшен (Мозель), Кинет (Сомма), Жан Бон Сент-Андре (Майенс), Пеле де ла Лозер (Воклюз), Кошон де Лапарен (Вьенн), Байи (Ло), Мюссе (Крез), Лакост (Форе), Делакруа (Буш дю Рон), Гиймарде (Нижняя Шаранта), Брюн (Арьеж) – все они были членами Конвента. Тексье-Оливье (Нижние Альпы) и Риу (Канталь) прежде заседали в национальных собраниях Директории. В число префектов входило также несколько генералов, дабы никто не забывал об авторитарном характере этой власти. Зато куда меньше было дипломатов и литераторов (Рамон де Карбоньер отказался от должности).
Отбор претендентов производился Первым Консулом по спискам, представленным Камбасересом, Лебреном, Талей-раном и Люсьеном Бонапартом, за которым нередко оставалось последнее слово. Известным весом пользовался также Кларк, устроивший своего дядю Ше на должность префекта департамента Нижний Рейн. Впоследствии эту должность унаследовал родственник Жозефины – Лезе-Марнезиа. Даже если кое-кто из них побывал в свое время министром (Бурдон, Делакруа, Фепу), членом Комитета общественного спасения (Жан Бон Сент-Андре) или директором (Летурнер), теперь, став префектами, они превратились всего лишь в статистов. Главари Революции погибли или находились в изгнании. Но и эти второстепенные персонажи все еще находились во власти настроений 1789 года.
В чем состояли обязанности префектов? Им надлежало представлять правительство в департаментах, а также, во взаимодействии со служащими Дорожного ведомства, усиленного группой выдающихся инженеров (Прони, Беке-Бопре, Дюмустье, Бремонтье), организовывать общественные работы, на проведение которых у Директории не хватало денег. Главной задачей был ремонт дорог, но в их компетенции также находились мосты, речная навигация, порты и фортификационные сооружения. Первые их успехи нередко просто поразительны, однако очень скоро префекты погрязают в бумаготворчестве. Воблан в своих мемуарах сетует на трудности, которые обрушились на него как на префекта департамента Мозель, но это произойдет лишь в 1810 году. Бытовые проблемы – вот с чем в первую очередь столкнулись префекты. В своем отчете министру внутренних дел Тексье-Оливье так сообщает о вступлении в должность: «За одиннадцать часов я, не без труда и изнеможения, добрался наконец вчера до пункта своего назначения. Ужасное состояние дорог и тяготы путешествия по горам сделали мой путь таким долгим». Помещения, отводимые для префектуры, часто не соответствовали своему назначению. Префекту нередко приходилось размещаться в одном помещении вместе с епископом. Впрочем, нет худа без добра: чем дальше от Парижа – тем больше свободы, а следовательно – власти. До префекта департамента Лo новости доходили с шестидневным опозданием. Этот же префект жаловался, что узнал о заговоре XII года из газет и со слов других чиновников. Префектам вменялось в обязанность проявлять инициативу. Правда, их самостоятельность ограничивалась более или менее явным контролем епископа и командира дивизии.
Закон от 27 вантоза VIII года (18 марта 1800 года) дополнил административную реформу, подчинив вновь созданным институтам власти судебную систему. Каждый кантон получил по мировому судье, каждый округ – по гражданскому суду первой инстанции и по уголовному суду, каждый департамент – по общегражданскому суду. Над ними возвышались двадцать девять апелляционных судов, юрисдикция которых приблизительно соответствовала юрисдикции бывших провинциальных судов, а также парижский кассационный суд. Генеральным прокурором был назначен Мерлин Дуэ («поступь гиены», как окрестил его Моле), который обладал, однако, исключительными познаниями в юриспруденции. Хотя несменяемость судей и была восстановлена, они превратились, по сути, в назначаемых Первым Консулом чиновников, а приставленный к каждому суду правительством комиссар играл роль прокурора и надсмотрщика над своими собратьями.
Оздоровление финансов
Куда более важной, чем реорганизация административной системы, являлась задача оздоровления финансов. Лишь при этом условии могла осуществиться консолидация нового режима. Ведь к брюмеру в государственной казне оставалось, по слухам, не более 167 тысяч франков.
Бывший соратник Некера Годен, назначенный министром финансов, продолжил проведение начатых Директорией реформ. В ноябре 1799 года было создано управление прямого налогообложения. На смену выборным коллегиям пришли государственные агенты, ведавшие распределением и сбором налогов. Директора и контролеры составляли перечень налогов, сборщики и финансовые инспекторы взимали деньги. Их обязывали вносить залог. В соответствии с инициативой Ра-меля, предпринятой им в период правления Директории, правительство сделало упор не на земельный, а на косвенный налог (налог на регистрацию, табак, спиртные напитки). Деньги стали регулярно поступать в казну, и к 1802 году бюджет удалось сбалансировать.
Оставалось возродить систему кредитования. 29 ноября
1799 года Годен основал амортизационный фонд, пополняемый за счет залогов, вносимых генеральными сборщиками. Контроль над ним был поручен бывшему сотруднику королевского откупного ведомства Мольену. Перед ним была поставлена задача сократить государственный долг путем выкупа рент. Дабы вернуть доверие вкладчиков, вместо кассы текущих счетов, открытой в 1796 году Перрего, 13 февраля
1800 года был основан Французский банк. Этому частному учреждению, управляемому членами генерального совета (Пе-рье, Перрего, Малле, Лекуте, Рекамье, Барийон), предстояло регулировать биржевой рынок ценных бумаг, а также смягчать кризисные ситуации, предоставляя широкий кредит испытывающим финансовые трудности фирмам. Основными операциями этого банка являлись: учет переводных и простых векселей, выдача ссуд под вклады, открытие текущих счетов и выпуск векселей на предъявителя. Тесное взаимодействие с правительством обеспечило ему успех. Закон от 14 апреля 1803 года закрепил за ним монополию на эмиссию бумажных денег. Память об ассигнатах мало-помалу ушла в прошлое.
Однако наиболее впечатляющим доказательством финансового оздоровления явилось возобновление выплат по государственным рентам. Это событие способствовало росту популярности режима в буржуазных кругах, а завоеванное доверие позволило в марте 1803 года ввести в обращение серебряный франк весом в пять граммов, знаменитый жерминальский франк, остававшийся стабильным вплоть до 1914 года.
Это оздоровление, достигнутое за первые два года правления Консульства, даже с учетом уже начатых Директорией реформ, поистине сенсационно. Означало ли оно «прелюдию к новому старому режиму» или стабилизацию Революции? Да, интендантов сменили префекты, Королевский совет уступил место Государственному совету, генерал-лейтенант – префекту парижской полиции. Бонапарт был представителем обедневшего дворянства старого режима, а все его окружение вышло из правительственных учреждений бывшей монархии. Разве могли они забыть об этом, затевая переустройство Франции? Но ведь страна менялась на протяжении всех десяти лет революции. Это обстоятельство они также должны были принимать во внимание. Из этого компромисса и возникла, по выражению Ипполита Тэна, «современная Франция», государственные институты которой дожили до наших дней. Это стало возможным потому, что режим покровительствовал новой буржуазии, а не военной диктатуре, установление которой несправедливо приписывают Бонапарту. Последний отстранил от политики крутившихся возле Директории генералов, сделав ставку на нотаблей. Такие понятия, как империя, монархия, республика, превратятся со временем в эпифеномены. За политической нестабильностью следует видеть созданную Консульством стабильную администрацию.
Глава III. МИР
Достоверные результаты плебисцита VIII года могли бы, в случае необходимости, засвидетельствовать отсутствие у народа энтузиазма по отношению к государственному перевороту и новой конституции. В ходе голосования юг страны продемонстрировал скорее равнодушие, Париж – сдержанность, департаменты Бельгии – ледяное безразличие. Даже поддержка армии не была единодушной. Никто еще не видел разницы между Директорией и Консульством. В глазах общественности Бонапарт, даже несмотря на свою огромную популярность, мало чем отличался от перекрасившихся в брюмерианцев термидорианцев. Многим казалось, что они присутствуют при очередном фокусе с двумя третями Законодательного собрания, имеющем целью продлить власть старых парламентариев после отстранения наиболее скомпрометировавших себя деятелей типа Барраса.
Лишь успехи Бонапарта, в два года изменившего умонастроения масс, вселили уверенность как в тех, кто нажился на Революции (буржуа и крестьян, прибравших к рукам национальное имущество), так и дворян (возвратившихся, а то и не покидавших Францию), пробудили признательность рантье, получивших наконец наличными за свою ренту, и вызвали, по сведениям осведомителей полиции, доверие рабочих.
Умиротворение Вандеи
Первый успех – восстановление мира в Вандее. В 1795 году его не удалось достичь. Подписанные в мае договоренности не соблюдались из-за нарушений как с той, так и с другой стороны. Гош, находившийся тогда в зените славы, увяз в бесплодных переговорах. Нелепая, явно неудавшаяся карьера в сравнении с той, которую дано было сделать Бонапарту. Казнь Стоффле (25 февраля 1796 года) обострила противостояние, однако в конечном счете способствовала появлению во главе мятежной Вандеи кюре из Сен-JIo Бернье – сторонника примирения с Республикой. С помощью Бернье Бонапарт выиграл там, где проиграл Гош. Сразу же после переворота 18 брюмера Бернье, отнюдь не питавший иллюзий в отношении истинных намерений Первого Консула, заявил о себе как об убежденном стороннике возобновления мирных переговоров. Опираясь на свой авторитет прелата, он неустанно призывал к прекращению военных действий. 24 ноября 1799 года, вопреки призывам Фротге, а затем Кадудаля продолжать сопротивление, было заключено первое перемирие. От имени Консульства соглашение подписал Гедувиль, от мятежников – Шатийон, Отишан и Бурмон. Передышка должна была продлиться до 22 февраля 1800 года.
Роялистский лагерь питал известные иллюзии в отношении планов Бонапарта (малопонятные после Вандемьера и Фрюктидора; впрочем, первыми скрипками в правительстве тогда были Баррас и Ожеро). В Париж, для обсуждения некоторых пунктов соглашения, отправился главарь шуанов д'Ан-динье. Встреча была организована через посредство Талейрана Гайдом де Невилем, руководителем «английской резидентуры» в Париже, представлявшим интересы графа д'Артуа. 26 декабря 1799 года Гайд был принят в Люксембургском дворце для уточнения деталей: «Вошел коротышка, облаченный в неказистый зеленоватый фрак, с опущенной головой, почти жалкий». Это был Бонапарт, которого бунтовщик поначалу принял за слугу. Впрочем, стоило генералу подойти к камину и поднять голову, «как он сразу же стал выше ростом, и жгучее пламя его пронзительного взгляда явило всем истинного Бонапарта». На следующий день состоялась заключительная встреча. У нас нет оснований не доверять свидетельствам Гайда де Невиля. Не менее интересным представляется и рассказ генерала д'Андинье. В нем сквозит все то же удивление, вызванное обликом Бонапарта: «Нас провели в кабинет на первом этаже. Вскоре в него вошел низкорослый, болезненного вида человек. В оливковом фраке, с прямыми волосами, на редкость неряшливый. В его облике не было ничего примечательного. Поэтому я слегка опешил, когда Гайд объявил мне, что передо мной Первый Консул».
В ходе переговоров Бонапарт признал если не законность мятежа Вандеи, то по крайней мере право на восстание запада страны против «угнетателя». Заговорили о соглашении. Оно включало в себя следующие основные пункты: освобождение мятежных департаментов от рекрутского набора, списание недоимок, возвращение нераспроданного имущества его бывшим владельцам-эмигрантам. Зашла речь и о короле. «Я не роялист», – заверил Бонапарт. Итак, недомолвок не осталось никаких. Да и могло ли быть иначе? В начале 1800 года Первый Консул был еще слишком тесными узами связан с бывшими термидорианцами, чтобы обнаружить намерение к сближению с роялистами. Вскоре д'Андинье получил возможность в этом убедиться.
«Я не хотел покидать Парижа, не поставив Бонапарта в известность относительно истинных целей моей поездки. Словом, я написал ему, что прибыл по поручению руководителей роялистского движения, дабы передать в его распоряжение все имеющиеся у них средства в случае, если бы он вдруг захотел воспользоваться ими для реставрации монархии. В этом в высшей степени лестном для него письме я говорил о славе, которой он обессмертит свое имя, о вечной благодарности потомков. С одной стороны, я намекал ему, что не существует награды, соразмерной такой услуге, а с другой – старался показать ненадежность людей, которые, руководствуясь эгоистическими соображениями, служили всем этим поочередно сменявшим друг друга правительствам и которые при первой же его серьезной неудаче выступят против него с той же легкостью, с какой они свергли Директорию, как только убедились в ее беззащитности».
Весьма дальновидный прогноз, подтвердившийся в июне при получении известия об исходе, поначалу сомнительном, сражения, данного Бонапартом при Маренго. Но тогда, 30 декабря 1799 года, Бонапарт ответил д'Андинье уклончивым отказом: «Слишком много французской крови пролилось за последние десять лет…» Не доверяя, похоже, своим соратникам, Бонапарт не стал обнародовать это письмо. Когда же из-за оплошности аббата Годара были перехвачены все бумаги Гайда де Невиля, среди них обнаружили и копию письма Первого Консула. Однако оно не было включено в опубликованный роялистским агентством сборник документов.
10 января 1800 года Бонапарт выпустил прокламацию, в которой заявил, что прекращение гражданской войны возможно лишь при условии сдачи мятежников. «Занести вооруженную руку над Францией способны теперь лишь люди без веры и родины, вероломные орудия внешнего врага». Концентрация войск под командованием Брюна, назначенного главнокомандующим Западной армией, явилась дополнительным аргументом в ряду этих угроз. Первыми капитулировали в январе дворяне: Бурмон, Шатийон, д'Отишан, Сюзанне. Каду-даль последовал их примеру лишь в феврале, после сражения при Граншане, в ходе которого ни одна из сторон не одержала убедительной победы. Что касается Фротге, то он угодил в западню, которую, по утверждениям современников, ему будто бы расставил Первый Консул. «Я не отдавал такого приказа, – обронил тогда Бонапарт, – однако не могу сказать, что огорчен его казнью».
Шуанство временно сошло на нет. В своих мемуарах д'Андинье так объясняет, почему это стало возможным: «В целом вооруженное восстание роялистской партии получило одобрение всех здравомыслящих французов. Нам споспешествовали благие пожелания честных людей – и только. Никто не примкнул к нам из соседних департаментов. Англия соглашалась предоставить кое-какие средства для сопротивления, но не для победы». Хотя дело роялизма и нашло в стране известное сочувствие, общественное мнение, по признанию самого д'Андинье, было на стороне Бонапарта: «В своем подавляющем большинстве жители западных провинций с радостью восприняли соглашение, дававшее им возможность перевести дух».
На юге ситуация оставалась тревожной. В донесении полиции от 4 февраля 1800 года сообщалось об активизации аббата Сирана, по прозвищу Дебом, и маркиза де Вилл ара: «Совместный план действий, разработанный при участии иностранных агентств, бывших военачальников Жалеса и гвардейцев-телохранителей, предусматривает уничтожение торговли, устрашение коммерсантов, нарушение коммуникаций, срыв армейских поставок и подстрекательство народа к возмущению». Подобное «шуанство» (полиция применяла этот термин также и к южным регионам) мало чем отличалось от разбоя. Все ждали, когда после бурных дебатов в Трибунате будет вотирован закон, получивший впоследствии наименование закона 18 плювиоза IX года (7 февраля 1801 года). Он предусматривал создание чрезвычайных судов без присяжных, призванных положить конец бесчинствам. На основании постановления, принятого 4 вантоза, в тринадцати западных и четырнадцати южных департаментах были учреждены соответствующие юрисдикции. Они произвели скорее психологический эффект: разбой не удалось ликвидировать полностью. С другой стороны, в департаментах Воклюз и Вар все свидетельствовало о том, что население вздохнуло с облегчением. Тем более что Бонапарт умело сочетал снисходительность с непреклонностью. 3 марта 1800 года он объявил об аннулировании проскрипционного списка эмигрантов, покинувших страну до 25 декабря. Этим он подтвердил свою приверженность общественному согласию, продемонстрировав в то же время уважение прав новых владельцев национального имущества. Благодаря этим и последовавшим за ними мерам к началу 1802 года во Францию возвратилось 40 процентов эмигрантов.
Последние террористы
Нерешительность, проявленная якобинскими генералами, и чистка рядов местной администрации позволили избежать гражданской войны. В распоряжении бывших «чрезвычайщиков» оставалось три варианта: провоцировать народные волнения, подстрекать армию или организовать покушение на Бонапарта. Париж мог подняться только на голодный бунт, следовательно, вероятность восстания в столице была исключена.
«Обстановка в Антуанском предместье, – говорилось в донесении от 16 мая 1800 года, – не вызывает опасений. Разумеется, злоумышленники постоянно пытаются внести смуту, однако подавляющее большинство населения, хотя и выражает недовольство безработицей и застоем в торговле, не намерено проявлять неповиновение и исполнено решимости не принимать в нем никакого участия».
В Париже якобинцы, не ограничиваясь традиционными кофейными диспутами, попытались взбаламутить войска, в большом количестве сосредоточенные в столице после 18 брюмера. Как, впрочем, и роялисты. Полицейские отчеты за первый квартал 1800 года проникнуты явным беспокойством, донося о призывах к неповиновению, о попытках натравить некоторые воинские части на консульскую гвардию, якобы лучше экипированную и более высоко оплачиваемую, о росте преступности, создающей обстановку нестабильности. К тому же в некоторых провинциальных городах вспыхивают бунты, вызванные перебоями со снабжением: в Тулузе, если верить сводке Фуше от 30 марта, выдержанной, впрочем, в довольно сдержанных тонах, бунтовщикам удалось добиться установления твердых цен. Беспорядки были отмечены также в Марселе и ряде других южных городов.
Правда, закон об отмене свободы печати, ударивший прежде всего по якобинцам, осложнил их пропагандистскую деятельность. До 17 января 1800 года ни одна из выходивших газет не цензурировалась. После вступления закона в силу были запрещены все парижские политические издания, за исключением тринадцати, да и то под угрозой немедленного ареста в случае невыполнения правительственных решений. «Газеты, – писал Фуше, – всегда были застрельщиками революций, они их возвещали, подготавливали, а затем делали неизбежными. Малое количество изданий легче контролировать и проще заставлять работать на упрочение конституционной власти». Розничная торговля была регламентирована. Вне контроля оказались лишь нелегальные памфлеты, которые тут же стали призывать к «уничтожению тирана». Сошлемся на опус Метжа «Турок и французский воин», приглашавший всех французов стать «тысячами Брутов». Приглашение было услышано и повлекло за собой множество покушений: от адской машины Шевалье до планов бывшего адъютанта генерала Анрио убить Бонапарта по дороге в Мальмезон. В дело вмешалась полиция: «заговор кинжалов», имевший целью сразить Первого Консула ударом стилета в его ложе в Опере 10 октября 1800 года, вероятно, планировался во время «кофейных пересудов», значение которых было впоследствии непомерно раздуто секретными службами. В итоге арестовали живописца Топино-Лебрена, секретаря Барера, римского скульптора Чераки и генерал-адъютанта Арена, брата того Бартоломео Арена, который 19 брюмера занес над Бонапартом кинжал в Совете пятисот. Стоит ли удивляться, что, когда 24 декабря 1800 года на улице Никез, по которой проезжала карета с Первым Консулом, направляющимся в Оперу, взорвалась адская машина, ответственность за это покушение была возложена на чрезвычайщиков? Тщетно доказывал Фуше, что якобинцы находились под слишком пристальным контролем, чтобы отважиться на столь рискованный шаг, – Бонапарт ничего не желал знать. Просто нашелся предлог очистить столицу от последних террористов, но так, чтобы не дать повод усомниться в доброй воле Первого Консула, убежденного в том, что это покушение – дело рук якобинцев. 14 нивоза IX года был принят «сенатус-консульт», вводящий режим «особого надзора» над проживающими «за пределами европейской территории республики» ста тридцатью «чрезвычайщиками». Некоторых депортированных обвинили как «участников сентембризад» [11]11
Убийства в тюрьмах в сентябре 1792 года.
[Закрыть], дабы ославить их в глазах общественности. Шевалье расстреляли. Арена, Чераки и Топино-Лебрена отправили на эшафот. Лемар совершил неудачное покушение на Бонапарта при переходе через Альпы во время второй итальянской кампании.
Итак, левая оппозиция была разгромлена. Никто не выступил в защиту якобинцев даже после того, как Фуше предъявил доказательства, что настоящими организаторами покушения на улице Никез были шуаны: Сен-Режан, Карбон и Лимолан. Первых двух арестовали и, облачив в красные рубахи отцеубийц, отправили на гильотину. Гайд де Невиль отверг обвинение в причастности к покушению и бежал. Впрочем, он не мог отрицать, что взрыв явился ответом роялистов на письмо, посланное Бонапартом 7 сентября Людовику XVIII, который 4 июня предпринял очередную попытку к сближению. В письме Бонапарта, в частности, говорилось: «Вы не должны желать возвращения во Францию, для этого вам пришлось бы перешагнуть через сто тысяч трупов». Из-за оплошности Сен-Режана и Карбона полиция раскрыла действовавшую в столице агентурную сеть графа д'Артуа. Немногим больше повезло конкурентам Гайда де Невиля: Преси, Имберу-Коломесу и Дандре, которые основали в Аугсбурге агентуру, связанную с Людовиком XVIII и действовавшую преимущественно на юге страны. Оставшись без английских субсидий Уикхама, они были арестованы прусскими властями по просьбе французского правительства на дороге из Аугсбурга в Байрейт. Изъятые у них документы переправили в Париж, где в 1802 году они были опубликованы по распоряжению Первого Консула.
Все, казалось, валилось из рук оппозиции. Брюмерианцам, страшившимся непредсказуемых последствий итальянской кампании, показалось, что в случае гибели или поражения Бонапарта, отправившегося 6 мая 1800 года на полуостров, они найдут ему замену. Реальными претендентами на пост Первого Консула считались Моро, Лафайет и Бернадот, а также триумвират, состоявший из Талейрана, Фуше и сенатора Клемана де Ри. Ложное известие о поражении французов при Маренго подвигло некоторых из них на опрометчивые шаги, позволившие Бонапарту принять по возвращении необходимые меры. «Правительственный кризис» сыграл ему на руку, позволив внушить общественности мысль, что Первый Консул – не заложник политических группировок, состоящих из брюмерианцев и экстермидорианцев, не пользующихся, в сущности, никакой популярностью в стране. Бонапарт мог поставить себя над заговорщиками и предстать миротворцем французов.