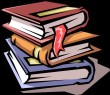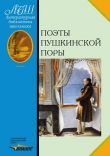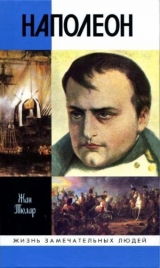
Текст книги "Наполеон, или Миф о «спасителе»"
Автор книги: Жан Тюлар
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
Чтобы стать аудитором, ему пришлось представить официальное свидетельство о доходе в 7 тысяч ливров. Для получения должности откупщика также необходимо было внести залог. И судьи с заниженным окладом могли рекрутироваться лишь из среды нотаблей. Элитарный режим упрочился благодаря созданию Университета Империи, призванного штамповать по одному и тому же образцу бакалавров – молодых представителей буржуазии. Хотя высшие школы (в число которых входит и Политехническая) и факультеты повышают утраченный при старом режиме престиж высшего образования, начальное образование приходит в упадок и фактически отдается на откуп церковно-приходским властям. Шансы пробиться в управленческую элиту сохраняются лишь у разбогатевшей в Революцию плутократии и у потомственных аристократов. Наполеоновское общество возвращается к порядку в интересах нотаблей.
Глава III. ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА
Нотабли приходят к власти в период экономического подъема страны. Подобно тому как рождение сказочно счастливых «буржуазных династий» относят к наполеоновской эпохе, в Империи хотят видеть истоки успехов современного французского капитализма. Эта аналогия была отчасти инспирирована самим Наполеоном. «Не кто иной, как я, создал французскую промышленность», – заявил он в 1812 году Коленкуру. Да, законодательство, несколько спонтанно, но совершенствуется в направлении, выгодном крупным компаниям. Правительство, дирижизм которого все-таки не стоит преувеличивать, уделяет большее, по сравнению с предшествующим, внимание экономике, поощряя развитие машинного производства. Наконец, статистика, хотя это и не изобретение Империи, занимает не последнее место в документации того времени. И все же новая экономика работает прежде всего на военные нужды, то есть на континентальную блокаду. Казалось бы, победы на фронте открыли перед Францией те необъятные рынки, которыми до сих пор владела Англия. Однако французские предприятия, оснащенные устаревшим и медленно обновлявшимся оборудованием, не обладали достаточным потенциалом, чтобы насытить их конкурентоспособными товарами. Традиционные рычаги экономической экспансии XVIII века – порты атлантического побережья – разрушила война, а будущие центры угольной промышленности внутри страны еще не заработали в полную силу. Разумеется, в сельском хозяйстве, в ответ на дефицит, обусловленный прекращением притока импорта колониальных товаров, выращиваются новые культуры, однако винно-водочная промышленность переживает непреодолимые трудности из-за потери главного потребителя – Великобритании. В обстановке сотрясающего экономику Франции кризиса нотабли Первой Империи, похоже, не овладели еще теми механизмами управления, которые обеспечивали процветание Англии. Очевидно одно: промышленная революция делает свои первые шаги. Однако начало уже положено.
Рутинное сельское хозяйство
«Что такое земледелие? Это основа благосостояния государства, мастерская, которая обеспечивает всех», – написал в X году Прадт. Ему вторит Наполеон: «Это душа, фундамент Империи». Словом, подобно тому, как земельная собственность составляет основной источник богатства, земледелие предстает главной сферой приложения экономической деятельности. В своей книге «Положение сельского хозяйства во Франции», написанной под влиянием Артура Юнга и английской агрономии, Прадт призывал фермеров совершенствовать культуру земледелия. Он разработал широкую программу, заинтересовавшую правительство Консульства, а затем и Империи. Он призывал создавать экспериментальные фермерские хозяйства, культивировать экзотические растения, «проявлять особую заботу о домашних животных», большее внимание уделять виноградарству. На VI году Революции возродились земледельческие товарищества. В 1808 году их насчитывалось уже 52. Они сыграли важную роль в оснащении крестьян более современным инвентарем и увеличении площадей, отводимых под кормовые травы. Наибольшую активность проявляло парижское товарищество, издававшее тысячными тиражами ученые записки на средства своего департамента. Наряду с докладами в них публиковались рекомендации фермерам, обращавшимся к товариществу за советами. В провинциях развернули агитацию не держать поля под паром, а засевать их люцерной. Однако личная инициатива убеждала порой больше, чем теоретические выкладки агрономов. Так, граф де Сей в своем имении ла Рош, в департаменте Ду, с одобрения префекта Жана Дебри начал высевать сахарную свеклу. Но в целом земледелие развивается черепашьими темпами. По данным Шапталя, на 52 миллиона гектаров, составлявших территорию тогдашней Франции, приходилось 23 миллиона гектаров пахоты, 3 с половиной миллиона гектаров пастбищ и столько же лугов, около 4 миллионов гектаров пустырей, песчаников и вереска, 7 миллионов гектаров лесов. От пара отказываются лишь в богатых районах Нормандии, Эльзаса и севера Франции. Серьезной проблемой остается нехватка удобрений из-за слаборазвитого скотоводства, а также низкого качества получаемого на базе плохой соломы навоза. Медленно обновляется инвентарь (по-прежнему используется соха, косе крестьяне предпочитают более дешевый серп, молотят по старинке цепом). Что касается новых культур, то картофель по-настоящему войдет в обиход лишь при Луи Филиппе. На юге никак не может установиться цена на табак: зимой XIII года стоимость фунта подскочила до 16 су, а потом резко упала.
Причиной этих скачков стало прекращение импорта из Виргинии, а позднее – увеличение числа подпольных табачных фабрик. Правительство отреагировало декретом от 29 декабря 1810 года. Весь табак был скуплен Управлением государственной табачной монополии, складирован, а затем реализовывался розничными торговцами, имевшими соответствующий патент. Тогда же стали возникать табачные мануфактуры наподобие мануфактуры Тоннейнса в департаменте Ло. Наполеон решительно поддержал изобретение Делессера, позволявшее получать сахар из свеклы. В отчете от 23 марта 1811 года министр внутренних дел утверждал, что «свекла – одна из лучших овощных культур, идущая на корм скоту; это очень прибыльный продукт, который благотворно влияет на почву, насыщая ее элементами, необходимыми для созревания злаков. Необходимость экстенсивного выращивания сахарной свеклы, – продолжал Монталиве, – диктуется ее неоспоримыми достоинствами; а поскольку общий объем площадей, которые нужно отвести под эту культуру, способную полностью удовлетворить наши потребности в сахаре, не превысит 35 тысяч гектаров, будет достаточно, если каждый департамент Империи выделит на эти цели от 100 до 400 гектаров». Пошлины на импорт сахара и его потребление были установлены декретом от 5 августа 1810 года. Однако, хотя ввозные пошлины оставались в силе, а отечественным производителям выплачивались дополнительные дотации, производство сахара не росло, несмотря на строительство новых заводов в Пасси, Шато-Тьерри, Бурже, По, Кастельнодари, Дуэ, Монсе, Намюре и Парме. Столь же плачевной оказалась судьба хлопка: ввод новых предприятий в Буш-дю-Рон и Пиренеях не изменил положения к лучшему. Зато неожиданный успех выпал на долю вайды на юге.
Экспериментальная школа в Альби разработала усовершенствованную технологию по ее выращиванию. Однако консервативная деревня не стала культивировать ее промышленные сорта, а сельские нотабли, которые могли бы настоять на ее выращивании, сами не видели в ней никаких выгод. Все искали надежной прибыли, мгновенной отдачи. Та же рутина царила и в животноводстве. Оказалось, что нескольких отар овец (в Сабре, Лориоле, Адже и Камбре) и табунов лошадей (в По, Тарбе, Перпиньяне, Гранпре, в Арденнах и в Ле Беке в Нормандии), скрещивания ландских овец с испанскими мериносами или появления в Ландах буйволов явно недостаточно, чтобы возродить некогда многочисленное поголовье. В Альпах пастухи по-прежнему перегоняли овец на летние пастбища. С октября по май более пятидесяти тысяч животных паслись в Провансе, а летом возвращались в горы отарами по две тысячи в каждой. Местные жители подбирали оставшийся после них помет и ругали волков. Если малая урожайность зерновых объяснялась низким качеством навоза, то главным препятствием, стоявшим перед экстенсивным животноводством, указывали в своих донесениях префекты, являлась раздробленность земельных владений. Так выглядел порочный круг, из которого не могло выйти сельское хозяйство, не желавшее расширять площади под кормовые луга. Леса по-прежнему гибли. Главными врагами деревьев были козы. «Они губят насаждения, препятствуют их воспроизводству», – пишет префект Нижних Альп Александр Ламет. 6 января 1801 года, затем 26 января 1805 года принимаются решения о реорганизации лесничества. Назначается генеральный директор во главе совета из пяти членов. Инспекторы контролируют тридцать один лесной округ, вверенный попечениям смотрителей, которым подчиняются главные лесничие. Напрасный труд. Наносимый лесам ущерб не уменьшается. Из 8 миллионов гектаров леса миллион 800 тысяч гектаров находятся в частном владении, остальные принадлежат государству и коммунам. Остается виноградарство, переживающее в эпоху Империи небывалый подъем. По оценкам Шапталя, в 1808 году виноградники занимали 1 613 939 гектаров и давали 35 миллионов гектолитров вина. «Какое буйство виноградников, ими покрыта вся Франция!» – воскликнул один из современников.
Разнообразен географический ассортимент вин: от Бургундии с шамбертеном, снискавшим репутацию любимого вина императора, до Шампани, где Мое и Шандон производят игристые напитки. Несмотря на блокаду, не иссякает экспортный поток по-прежнему пользующихся спросом бордоских вин, причем не только на континент, но и, под прикрытием специальных лицензий, в Англию: 2 593 галлона в 1805 году, 13 105 – в 1809-м. В окрестностях Парижа производят «сухие» и «терпкие» вина, которые восполняют нужды столицы. Вполне объясним в этих условиях интерес к виноградарству: искусство высаживания, подрезания и окуривания лозы становится объектом многочисленных исследований. Каде де Во полагает, например, что в изготовлении вина должен участвовать химик. В «Листке земледельца» утверждается, что за исключением виноградарства все прочие отрасли сельского хозяйства застойны или бесперспективны. Это несколько безапелляционное утверждение все-таки справедливо констатирует отставание Франции от английской агрономии. Причину этого отставания префекты видят в разделе общинных земель. С другой стороны, благодаря распродаже национального имущества осваиваются многие доселе запущенные церковные угодья, разумеется, если они приобретаются крупными фермерами или земельными собственниками. Но поскольку представления о престиже нередко брали верх над заботой об урожайности полей, новые нотабли превращали приобретенные пахоты в парки и охотничьи леса. Такие действия вызывали негодование Наполеона: «Я не потерплю, чтобы частное лицо губило 20 гектаров, превращая плодородные земли в парк». Но гнев этот был бессильным.
Состояние промышленности
По прошествии четырех лет французы в полной мере смогли оценить прогресс, достигнутый страной в индустриальной области. На выставке IX года, организованной во дворе Лувра, было представлено 220 экспонатов. Через год их насчитывалось уже 540. Прерванная войной традиция возродилась в 1806 году. В новой выставке приняли участие 1 422 человека, съехавшиеся со всех концов страны. Отчет конкурсной комиссии, которой было поручено оценить образцы экспонировавшихся товаров, содержит краткий перечень видов продукции того времени: на выставке были представлены образцы сукон, кашемира, саржи, кисеи и нестандартных тканей, бархата, шелка, шляп, лент, кружев, блонда, конопли, льна, хлопка, бумазеи, пике, нанки, железа, стали, хлопкопрядильных станков, квасцов, соды, железного купороса, красителей для химической промышленности, хрусталя, фарфора, изделий ювелира Бьеннэ и часовщика Брегета… Особое место занимали экспонаты государственных мануфактур: севрский фарфор, ковры Гобелена, Бовэ и Савонри. Наполеон не смог посетить ее, так как участвовал в Прусской кампании. Шампаньи писал ему 4 октября 1806 года: «Все сходятся на том, что, по вызванному ею интересу, нынешняя выставка выгодно отличается от предыдущих. Она свидетельствует о прогрессе наших мануфактур». Преобладали три отрасли: хлопчатобумажная, химическая и военная. Первая не пользовалась покровительством императора: его раздражало, что она работает на импортном сырье. Он склонен был поощрять развитие шелковых, льняных и полотняных мануфактур.
После того как попытки наладить выращивание хлопка на юге и в Италии провалились, пришлось довольствоваться сырцом, ввозимым с Ближнего Востока и из Бразилии. Однако устранение английской конкуренции и возникшая мода на нанку, бумазею и ситец стали такими мощными стимулами, что позволили этой отрасли оставить позади даже индустрию предметов роскоши. Были внедрены значительные усовершенствования, прежде всего в технологию прядения, позволявшие получать более тонкую пряжу. Мануфактуры оснащаются хлопкопрядильными станками и самоходными челноками. «Похоже, что наибольшего прогресса наша промышленность достигла в производстве хлопкопрядильных машин», – докладывал Шампаньи императору в письме от 4 октября. Он мог бы сослаться и на льнопрядильную машину Филиппа де Жирара, на ткацкий станок Жакара… И все же английская технология оставалась в четыре-пять раз производительнее французской. Химическая промышленность также переживала пору расцвета. Долгое время Франция зависела от импорта испанской и сицилийской барильи, из которой вырабатывалась сода, идущая на нужды стекольных заводов, белилен и красилен. Возобновление войны с Англией, а затем обострение отношений с Испанией привели к резкому скачку цен: с 45 франков за центнер в 1807 году до 350 франков в 1808-м. Плодотворная идея выращивания барильи в Провансе не решила проблемы. Декрет от 13 октября 1809 года освободил 33 фабрики, производящие соду (угленатриевую соль, используемую в промышленных целях), от налога, после чего цена на центнер испанской соды упала со 120 до 55 франков.
Широкую известность приобрел способ получения соляной кислоты из жавелевой воды. На своем заводе в Терне Шапталь наладил производство кислот, хлората натрия и солей свинца. Стоит ли удивляться высоким показателям, достигнутым оружейными мануфактурами? Список старинных мануфактур Мобежа, Шарлеруа, Сент-Этьенна, Тюля и Кленжанталя пополнили новые мануфактуры Мютзига, Льежа, Турина и Кюлембурга. В 1806 году было произведено 265 800 единиц вооружения. Строжайшая дисциплина труда компенсировалась освобождением от призыва в армию, что и объясняло, по-видимому, избыток рабочей силы на военных предприятиях. Отрасль контролировалась генеральными инспекторами, отчеты которых поступали в VI отдел военного министерства, возглавляемого Гассенди. Наполеона часто упрекали в недостаточном внимании к вопросам модернизации вооружений. В действительности же основная вина за медленное внедрение технических новшеств лежала на бюрократии. Несмотря на неоднократные жалобы оружейников, отмечавших, что «винт собачки пехотного ружья приходится часто заменять из-за поломок, когда по невниманию солдат нажимает на спусковой крючок при откинутом назад курке с кремнем», и что винт следует выплавлять из стали, а не железа, эта рекомендация, осев в папках военного министерства, так и не дошла до сведения императора. Прогресс в области машиностроения, без которого промышленная революция просто невозможна, был красноречиво воспет Шапталем. Между тем паровая машина так и не получила должного распространения. Металлургия, за исключением перешедших на коксовое топливо доменных печей Крезо, фактически топталась на месте. И все же два фактора обеспечили будущее развитие французского капитализма. Наполеоновский кодекс узаконил право свободного предпринимательства, закрепив отмену цехового устройства вопреки некоторым поползновениям к его восстановлению, исходившим от имперской полиции. Всякое вмешательство государства, как в случае с рудниковыми концессиями, всегда осуществлялось в интересах частной собственности. В самом деле, разделавшись с законом от 28 июля 1791 года, предоставлявшим неограниченную свободу действия «собственникам земной поверхности», новое горнорудное законодательство, принятое 21 апреля 1810 года, разделило собственность на землю и собственность на недра, оставив за государством право на эксплуатацию последних. При этом государственные концессии приобретались за плату просто символическую в сравнении с получаемой прибылью. Поначалу весьма умеренная, она способствовала концентрации ресурсов, необходимых для эксплуатации шахт и рудников. Преодолевались пережитки старого режима. На правом берегу Рейна была отменена коллективная эксплуатация доменных печей и кузниц. Французское законодательство преобразовало старые эмфитевзисы [21]21
Долгосрочные договоры, по которым банки выдавали ссуды под залог земли.
[Закрыть]в частные наследственные владения.
Наконец, торговый кодекс 1807 года, вызвавший к жизни акционерные общества, обеспечил приток новых капиталов. Помимо эффективно действующего законодательства, следует учитывать и другой не менее важный фактор: поместный капитализм, обеспечивавший в XVIII веке развитие черной металлургии, вытесняется более предприимчивым банковским капитализмом. Последний наглядно обнаруживает свои преимущества в Дофине на примере семьи Перье: Огюстен руководит одновременно и банком, и ситцевой фабрикой в Визиле. Наряду с маршалами и государственными советниками почетное место в наполеоновской легенде занимают полководцы от индустрии. Такие, например, как текстильный король Ришар (1765–1839). Сын крестьянина, он перепробовал все профессии, пока наконец, разбогатев на спекуляциях национальным имуществом, не открыл совместно с Ленуаром-Дюфреном магазин тканей, который сразу же стал приносить большие доходы. «Ришар и Ленуар» ввели продажу товаров по твердым ценам. Перейдя от коммерции к производству, они оборудовали ткацкими и прядильными станками бывший монастырь Бон-Секур по улице Шарон, а отпочковавшись от Парижа, начали врастать в провинцию, пустив в 1800 году корни в Алансоне, в 1802-м – в Се, в 1806-м – в Лэгле… В 1810 году, когда умер Ленуар, на их предприятиях было занято 12 800 рабочих.
Другой заметной фигурой текстильной промышленности стал Оберкампф. До Революции он основал в Жуй мануфактуру по производству крашеного полотна. В 1805 году на ней было занято 1 322 рабочих; ежегодная прибыль составляла миллион 650 тысяч франков. Благодаря черной металлургии Франсуа де Вандель (1778–1825) вернул себе состояние, которого лишился в свое время как эмигрант. Он начал с того, что выкупил металлургический завод в Айанже, а в 1809 году – в Крейцвальде; приобретение в 1811 году сталелитейного комплекса в Моевре ознаменовало новый этап в жизни семьи. Можно упомянуть также Терно, совершившего переворот в сукновальном производстве, Дугласа, сконструировавшего хлопкочесальную машину, Андре Кэклена. Несмотря на нехватку некоторых видов сырья и низкий КПД энергоносителей, французская промышленность 1806–1810 годов переживает период безоблачного оптимизма. Возвращение к порядку и безопасности, возрождение роскоши, непрерывное расширение рынков сбыта (Наполеон не церемонился с союзниками, требуя, чтобы они держали свои границы открытыми для французских товаров) – все это порождало ту эйфорию, которая обусловит многие опрометчивые решения. Не случайно промышленный подъем вызывает настороженность консервативной части нотаблей. Шапталь, будучи ярым поборником прогресса, так резюмирует их настроения: «Когда войны или запретительные меры перекрывают промышленным товарам доступ к потребителю, с горечью видишь муки и метания тысяч неприкаянных людей, слишком часто нарушающих общественное спокойствие. Куда разумнее вместо того, чтобы создавать скопления людей, обслуживающих ту или иную отрасль промышленности, расселить их по деревням, где ремесла служат полезным подспорьем земледельческому труду».
Опасаясь социального взрыва, парижские власти приостановят в столице рост мануфактурного производства, уже подорванный нехваткой сырья и энергоресурсов.
Торговля: победы и поражения
Континентальная блокада, обеспечив промышленности надежный протекционистский заслон, углубила кризис больших портовых городов, в первую очередь тех, которым крейсерство (Кале, Булонь и Дюнкерк) и каботаж не приносили дополнительных доходов, а также тех, у которых не было давно налаженных связей с внутренними регионами страны. Именно в таком положении оказалась Лa-Рошель. «Распад колоний и затяжная война наносят огромный ущерб приморским городам. Никогда прежде уныние не пронизывало до такой степени любое коммерческое начинание. Многие люди разорены», – отмечалось в XII году на сессии генерального совета департамента Нижняя Шаранта. Согласно данным «Статистического ежегодника департамента» за 1813 год с 1804 по 1810 год лишь 60 судов, плавающих под флагами стран Северной Европы, и около 20 американских кораблей, прибывших за винами, солью и водкой, пришвартовались в порту Ла-Рошель. Такого кризиса не выдержал даже самый крупный в городе торговый дом братьев Гареше, завершивший этот период с убытком в 900 тысяч франков. Нант и Бордо оказались более подготовленными к испытаниям блокады. Благодаря заключению Амьенского мира поставки вооружений в колонии постепенно достигли довоенного уровня. В 1802 году Бордо загрузил оружием двести восемь кораблей, что, по оценкам историков, «сопоставимо с показателями последних лет старого режима». В том же году в его порту бросило якорь двести двадцать судов с грузом колониальных товаров. Оружие направлялось теперь не на Антильские острова, а в Иль-де-Франс и Иль-де-Бурбон. Наконец, прежнего объема до-стиг экспорт в Англию прославленных бордоских вин. С 1803 по 1807 год Бордо, подобно другим городам атлантического побережья, которым повезло больше, чем портам Ла-Манша, жестко блокированным английским флотом, сохранил кое-какие прежние торговые связи с нейтральными Соединенными Штатами и Данией. Однако ужесточение режима блокады, ущемлявшей интересы нейтральных государств, привело в 1808 году к полной стагнации торговли. Лишь лицензионная система да продолжавшиеся поставки незначительных партий вооружений спасли порт от паралича. Происходивший в стране процесс «деиндустриализации» нанес ущерб большей части городов атлантического побережья.
Аналогичный застой пережил между 1801 и 1807 годами Марсель, перед тем как уступить первенство Триесту, Ливорно и Мальте. «Геную император приобрел в XIII году, Ливорно – в 1808-м. Венский договор сделал его владельцем Триеста. То, что льстило национальному самолюбию французов, угнетало марсельских негоциантов, – пишет в своих мемуарах Тибодо, который, будучи префектом Буш-дю-Рона, как никто другой с пониманием относился к нуждам марсельцев. – Эти три чужеземных порта казались им пасынками, втершимися во французскую семью, змеями, которых император пригрел на своей груди». Это наглядный пример озабоченности, которую стали вызывать у нотаблей нескончаемые аннексии императора. Закат Бокерской ярмарки обусловлен упадком Марселя. И тем не менее, как уже неоднократно отмечалось, сложившаяся конъюнктура пошла на пользу внутренней торговле. Перемещение рынков на восток способствует освоению водных артерий. Благодаря Рейну Страсбург превратился в крупнейшую европейскую кладовую. Ничего удивительного, что Наполеон продолжил начатые еще при абсолютизме работы по прокладке каналов (Сен-Кентен, Л'Урк и др.). Что же касается принципа эксплуатации дорог, то он восходит к древнеримской традиции. Декрет от 16 декабря 1811 года поделил их на магистрали стратегического и местного значения. Такая классификация регулировала движение товаров, повышала скорость доставки почты и грузов.
И все же путь из Парижа до Орлеана по-прежнему занимал пятнадцать часов, а проведенная в 1811 году инспекция состояния перевозок выявила множество опозданий из-за рутинной организации труда транспортников и экспедиторов. Впрочем, для Наполеона дорога обладала прежде всего стратегическим значением. Дорога через Симплонский перевал, прокладка которой началась 9 октября 1805 года и завершилась в 1809 году, обеспечила Франции господство над Италией. Не меньшее значение имела и дорога Мон-Сенис. Лион воспользовался ею для упрочения своего торгового могущества. К числу других факторов, благоприятно сказавшихся на развитии внутренней торговли, следует отнести стабилизацию финансового рынка, введение (натолкнувшееся на яростное сопротивление) метрической системы мер, обнародование в 1807 году торгового кодекса, а также учреждение торговых палат, выражавших на консультативной основе пожелания, которые могли влиять на решения правительства. Любопытная примета времени: витрины начинают понемногу вытеснять вывески. В Париже это изменение облика лавок происходит быстрее, чем в провинции.
Кризис 1805 года
Об уязвимости французской экономики свидетельствуют кризисы, последний из которых (мы к нему еще вернемся) станет для режима роковым. В основе этой уязвимости лежит дефицит доверия: его могла подорвать малейшая паника, а ведь известно, как быстро в военное время обрастает плотью любой тревожный слух. Примером может служить дело об «Объединившихся негоциантах», принявшее в 1805 году неожиданно крупные масштабы.
В феврале 1806 года Фьеве дал глубокий анализ причин этой катастрофы, вызванной, по его мнению, чрезмерными спекуляциями в Париже, где хуже, чем в Лондоне, обеспечивалась надежность финансовых операций. В сентябре 1805 года министр финансов Барбе-Марбуа локализовал кризис, возникший из-за недостатка доверия в условиях усложнившейся социально-политической конъюнктуры.
Попав под влияние таких ловких спекулянтов, как Уврар, Деспрез и Ванлерберг, Барбе-Марбуа дал увлечь себя планами импорта во Францию мексиканских пиастров. Неудачная афера породила толки о надвигающемся банкротстве Французского банка. Начались массовые снятия вкладов. Ажиотаж подогревался слухами о том, что, отправившись на очередную войну, император захватил с собой всю имевшуюся наличность. Столпотворение у касс переросло в беспорядки. Победа под Аустерлицем несколько разрядила обстановку, однако внезапно возникший дефицит наличности повлек за собою серию банкротств, самым крупным из которых стало разорение члена генерального совета Французского банка Рекамье. Трудности со сбытом продукции текстильной промышленности осложнили положение. Безработица поразила крупнейшие мануфактуры: зима 1806/07 года оказалась нелегкой для парижских и лионских рабочих. Начавшийся в январе 1806 года спад производства охватил всю страну от Нормандии до Эльзаса, от севера до юга.
Реакция Наполеона была решительной: предоставление крупных кредитов промышленникам, заказы индустрии предметов роскоши, усиление введенного Берлинским декретом от 21 ноября 1806 года протекционизма стали прелюдией к континентальной блокаде. К весне 1807 года кризис удалось преодолеть. Как и в 1802 году, режим заработал на нем новую популярность, что придало ему еще большую самонадеянность, за которую он поплатился в 1810 году. Депрессия 1805 года явилась результатом кризиса доверия к Банку, осложненного перепроизводством в текстильной промышленности, которое, в свою очередь, обусловливалось (а может быть и нет – экономисты еще не пришли к единому мнению) дефляцией этого доверия.
Аграрный сектор не пострадал. В 1805, 1806 и 1807 годах урожаи были вполне удовлетворительными. Нельзя недооценивать, как это иногда делают, еще одного обстоятельства: выставка 1806 года, на которой экспонировались тонкие сукна Терно, кашемир Белланже, бумазея Ришара-Ленуара, фарфор Наста и Дила, клеенки Сегера, изделия из кожи Саллерона, бронза Томира, обои Жакмара и Бернара, продемонстрировала жизнестойкость промышленности. Вознесли хвалу Наполеону. Министр финансов Барбе-Марбуа, раболепный придворный, которому, правда, вскоре пришлось оставить свой пост, в начале января 1806 года уверял Наполеона, что тучи рассеиваются. С чего бы это? «Стоило распространиться вести о возвращении Вашего Величества, и дела сразу же пошли на лад. Все банкротства в Париже прекратились».