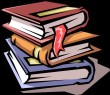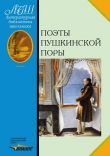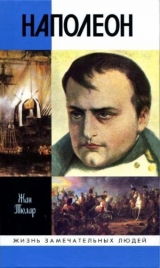
Текст книги "Наполеон, или Миф о «спасителе»"
Автор книги: Жан Тюлар
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
Глава IV. СТИЛЬ АМПИР: БУРЖУАЗНОЕ ИЛИ НАПОЛЕОНОВСКОЕ ИСКУССТВО?
Говорят не о «стиле Наполеона», а о стиле «ампир». Не столько для того, разумеется, чтобы возвеличить в официальном искусстве явление, именуемое нами сегодня «идеологией господствующего класса», то есть буржуазии, сколько для того, чтобы подчеркнуть пресловутую необразованность великого человека.
В самом деле, до чего оригинальным читателем был этот монарх, выбрасывавший в окошко своей берлины ненравящиеся ему книги! Какой убогой была культура императора, пренебрегавшего элементарными правилами орфографии и путавшего Эльбу с Эбро, а Смоленск с Саламанкой! Все это послужило бы прекрасным поводом для насмешек над историком, который осмелился бы заговорить о «веке Наполеона» с теми же интонациями, с какими принято говорить об эпохе Перикла или Людовика XIV. Военная диктатура Наполеона снискала не лучшую репутацию. История Франции не знает такой формы правления, которая могла бы соперничать с наполеоновской в подавлении интеллектуальной и духовной жизни страны! И это при том, что ни одно правительство не уделяло, пожалуй, такого пристального внимания вопросам культуры, как правительство генерала Бонапарта, заявившего: «В мире существуют лишь две силы – сабля и ум. Однако в итоге всегда побеждает ум».
Несмотря на воинственный пафос, это была эпоха торжества буржуазного вкуса, подцензурной, как уже было сказано, культуры – провал проводимой Наполеоном политики дирижизма в области литературы, науки и искусства. Вот почему было бы нелишне подытожить ее результаты в период, когда Империя достигла вершины своего могущества. На этом пути нас ждут немалые сюрпризы.
Упадок литературы?
Много говорилось о личной ответственности Наполеона за кризис в литературе. Достаточно сослаться на Шатобриана и мадам де Сталь; правда, они находились в оппозиции. По их мнению, режим Империи парализовывал вдохновение, удушал малейшую самостоятельность, переплавлял в тигле официозности высокие жанры XVIII века. Но главный упрек относился к цензуре – мелочной, дотошной, хотя и осуществлявшейся профессиональными литераторами.
Да, маркиз де Сад был посажен в Шарантон, однако он пользовался там относительной свободой и даже ставил спектакли (в меру садистские, разумеется), рассчитанные, с разрешения директора заведения Кульмье, на немногих привилегированных зрителей. Из найденного позднее дневника маркиза мы узнаем о «разного рода» распространявшихся на него послаблениях.
Дезоргу выпала сходная судьба, правда, не на столь длительный срок. Из-за начавшейся войны с Испанией Брифо пришлось переработать сюжет «Дона Санчо». Заменив Барселону на Вавилон и сохранив рифму, он не встретил больше ни-каких препятствий. На «Генеральные штаты Блуа» Рейнуара в 1810 году был наложен запрет: трагедия оказалась перегруженной политическими аллюзиями, однако сам автор не пострадал.
К чему скрывать? Упадок контролируемой цензурой литературы начался еще в Революцию, время куда более репрессивное по отношению к культуре, чем Империя. Шенье и Руше сложили головы на гильотине, тогда как в эпоху Империи ни один писатель не был казнен. Франсуа де Нефшато отсидел за свою «Памелу»; тюремному заключению подверглись Деститут де Траси и Тара, Сад и Лакло. Мари-Жозефу Шенье пришлось отречься от трагедии «Тимолеон», герой которой слишком напоминал Робеспьера. Часть пьес была исключена из репертуаров («Аталия» и «Магомет» Вольтера), из других изъяты малейшие намеки на монархию и христианство. В целом, таким образом, Империя предстает куда более лояльной, чем Революция, что отнюдь не означало ослабления контроля над культурой. Декретом от 29 июля 1807 года число парижских театров сократилось до восьми; остались «Комеди Франсез», Театр Императрицы (Одеон), «Опера-Комик», «Варьете», «Тэте», «Амбигю-Комик» и «Водевиль». Соответственно «никому не дозволялось ставить спектакли в других театрах, давать представления на публике, даже бесплатные, печатать и расклеивать афиши, а также распределять билеты, отпечатанные типографским шрифтом или написанные от руки». За каждым театром закреплялся свой репертуар. Однако не все правильно понимали назначение этого декрета, имевшего целью внести порядок в сумятицу и не допустить банкротств, чреватых закрытием зрелищных заведений.
Аналогичную цель, явно полицейскую, преследовало и учрежденное в 1810 году Управление полиграфии и книготорговли. Сократить число парижских книготорговцев до шестидесяти, навязать им патент и обязательство «не продавать ничего, противного интересам государства и долгу перед государем» – значило поставить их под контроль правительства. Между тем положение, сложившееся в полиграфии, требовало серьезных реформ. Сословие парижских печатников насчитывало в 1808 году сто пятьдесят семь типографов, большинство которых, включая и отца историка Мишле, влачили, по выражению автора правительственного отчета, «жалкое беспатентное существование», не обладали необходимой профессиональной квалификацией и вообще занялись издательской деятельностью случайно, еще в Революцию. Процветало лишь несколько издательств, таких как Фирмен-Дидо или Агас, возглавляемое зятем Панкука. Жалобам не было конца: «Рано или поздно книгоиздатели переселятся в провинцию, где все дешевле – и бумага, и труд наборщиков». Именно так поступил Мам. Однако и издатели были не без греха. Барба снискал дурную репутацию, торгуя «из-под полы». По свидетельству издателя Бальзака Верде, автора исследования «Издательское дело», опубликованного в 1860 году, некоторые издатели, в том числе и Боссанж, приобрели лицензии на импорт колониальных товаров, рынок которых находился под контролем Англии. Правительство Империи поставило перед ними лишь одно условие: экспорт в Великобританию должен осуществляться на эквивалентной основе. Загрузив несколько кораблей книгами, издатели выбросили их затем в Ла-Манш, так как прибыль от перепродажи колониальных товаров обещала с лихвой перекрыть себестоимость погибших произведений. Правда, афера не удалась, и Боссанжу пришлось свернуть коммерческую деятельность. Другим важным следствием учреждения Управления полиграфии стало издание «Газеты книжной торговли», публиковавшей перечень всех выходящих книг.
Словом, одними лишь полицейскими мерами, имевшими и положительный результат, никак не объяснить упадок литературы эпохи Империи.
Официальная и маргинальная литература
Наполеону приписывают часто цитируемое высказывание: «Малая литература – за меня, большая – против». Заслужили ли Институт и, в частности, отделение французского языка и литературы обращенную к ним критику? В отделении французского языка и литературы, унаследовавшем традиции Академии и реорганизованном в 1803 году, по соседству с такими политическими деятелями, как Сиейес, Маре и Камбасерес, заседал прославленный поэт Парни, автор нашумевшей поэмы «Война богов» (1799), вызвавшей ярость цензуры после заключения Конкордата; Легуве, снискавший в 1801 году популярность благодаря огромному успеху, выпавшему на долю его поэмы «Достоинства женщин»; Лебрен-Пиндар, вознесший в «Оде Верховному Существу» хвалы Робеспьеру, но в итоге перешедший на сторону Бонапарта. Язвительный пафос оды внушал страх. Приведем из нее пародийный катрен на одного из собратьев поэта по перу:
– У меня увели…
– Ах, мне искренне жаль.
– Манускрипты мои.
– Это – вора печаль.
Довольно-таки вялая поэзия, устраивавшая, впрочем, особенно в произведениях Легуве, склонную к дидактике буржуазную публику. Крупнейшим поэтом эпохи был Делиль, преподаватель Коллеж де Франс и трудолюбивый переводчик Вергилия. В 1813 году правительство устроило ему пышные похороны. Однако еще при жизни у него появился соперник, Баур-Лормьян, искусный стилизатор «Оссиана», с легкой руки которого в моду вошла поэзия бардов. Драматургия широко представлена творчеством академиков: Колленом д'Арлевил-лем, бессмертным создателем образа барона де Крака, предтечей Лабиша Пикаром, автором комедий «Городок» и «Господин Мюзар, или Старый фат», Александром Дювалем, Франсуа Андрие и, разумеется, Этьенном, «Два зятя» (1810) которого стали популярнейшей комедией своего времени. Именно буржуазная публика обеспечивает успех спектаклям, которые льстят ей и в то же время вышучивают ее. Из авторов трагедий и исторических драм назовем переводчика Шекспира Дюси, Мари-Жозефа Шенье, Непомюсена Лемерсье («Пинту», 1800, «Христофор Колумб», 1809) и конечно же Рейнуара. В 1805 году его «Тамплиеры» имели шумный успех благодаря нескольким стихам подлинно корнелевского звучания:
Бесчестит себя тот, кто думает спастись —
или:
Творенье человека – честь,
Всевышнего творенье – добродетель.
В отделение французского языка и литературы входили также историки: Лемонтей, Лакретель, Мишо и даже уцелевший в бурях XVIII века Бернарден де Сен-Пьер. Забвение, жертвами которого стали многие из перечисленных литераторов, порой несправедливо. В то время как одни, подобно Делилю, быть может, и заслуживают опалы, в которую их ввергла история, другие, как драматург Рейнуар, вправе рассчитывать на лучшую участь. В духовной жизни страны преобладает идеология. Мы имеем в виду последних апологетов Просвещения: Вольнея, Гара, Деститута де Траси, Кабаниса, Нэжеона Редерера. На выборах они противостоят неохристианскому монархизму (Фонтан, Шатобриан), влияние которого на газету «Журналь де л'Ампир» особенно заметно по рубрике, которую вел Жоффруа, статьи которого с упоением читал Стендаль. Но и Академия распалась на две враждующие партии, одна из которых возглавлялась Маре, другая – Рено де Сен-Жаном д'Анжели. Кандидатура Этьенна вызвала яростную борьбу этих политических группировок.
В недрах официальной литературы расцветает жанр агиографии – от «Эпопеи франков» Лезюра до «Аустерлица» Мильвуа, который, наряду с Шандоле, являлся ярчайшим поэтом той поры. Им противостоят маргиналы – либертены, преследовавшиеся еще добродетельными якобинцами и окончательно развеянные Империей как литературное направление, противное принципам буржуазного общества, которое Наполеон возвел на обломках старого режима. Шодерло де Лакло «помиловали» только благодаря тому, что он был генералом. Впрочем, Лакло умер еще в 1803 году, Ретиф де ла Бретонн прозябал в должности служащего Главного полицейского управления. Издание последних произведений писателя (он творил до самой смерти, то есть до 1806 года) не улучшило его материального положения. Ему пришлось покинуть Институт, несмотря на покровительство Мерсье. В 1814 году в Шарантоне ушел из жизни де Сад. Луве де Кувре скончался в 1797 году, Нерсиа – в 1800-м. Задолго до них, еще в начале Революции, приказал долго жить Мирабо. Казанова умер в 1798 году
Не менее чуждо было новой буржуазии и другое маргинальное направление – мистическое учение иллюминатов. В 1803 году, после смерти «безвестного философа» Сен-Мартена, казалось, что это учение ожидает полное забвение. Однако несколько новых публикаций возродили его к жизни. Ими стали работы Фабре-Пелапра о тамплиерах, «Исследования о происхождении и назначении пирамид» (1812) Девисма и вышедшая год спустя «Золотая поэзия Пифагора» Фабра д'Оливе. Балланш и лионская школа мистиков занимают особое место.
Ряд писателей не принадлежит ни к какому направлению. Это Сенанкура с его «Оберманом» (1804), возвестившим эру романтизма; Шарль Нодье, которому консульская полиция изрядно потрепала нервы за сатиру под названием «Наполеонша»; и конечно же Жозеф Фьеве: в его комедии «Приданое Сюзетты» едко высмеяно термидорианское общество. Это также Жубер, последний из династии французских моралистов («Мысли» Шамфора вышли в 1803 году), произведения которого будут полностью опубликованы лишь после его смерти. Упомянем еще Азаиса и его теорию компенсаций.
Следует отметить еще гастрономическую литературу, представленную творчеством Бершу и Гримо де ла Реньера, к которым вскоре примкнет Брийа-Саварин. В ней нашла свое выражение свойственная выскочкам жажда наслаждений. Остаются политические маргиналы: мадам де Сталь и Шатобриан с несхожими, впрочем, судьбами. Первой было предписано удалиться в ссылку в Коппе, второму – войти в состав Академии. При этом Шатобриан посчитал себя более обиженным. Мятежный и отнюдь не женский нрав мадам де Сталь раздражал Наполеона. Книги писательницы лишь ускорили разрыв. Ее трактат «О литературе, рассматриваемой в связи с общественными установлениями» (1800) проповедовал идеи, имевшие мало общего с теми, которые занимали Первого Консула. Ее теория климатов, отказ от отживших политических институтов, восторженное отношение к «республиканской» литературе не находили отклика в душе Бонапарта. Ее тенденциозно феминистские романы «Дельфина» и «Коринна» шли вразрез с нормами упрочивавшегося буржуазного общества, поставившего женщину в полную зависимость от мужчины. К тому же мадам де Сталь неосмотрительно скомпрометировала себя связью с Бернадотом и Моро. Ей пришлось покинуть Париж. Замок в Коппе стал оплотом политической оппозиции. Правда, его хозяйка прилагала неустанные усилия, чтобы вновь войти в милость, однако своими демаршами она лишь докучала верховному правителю. В Коппе она написала большой трактат «О Германии», в котором сравнила немецкую философию и литературу с французской, отдав предпочтение рейнским соседям. Ничего удивительного, если вспомнить, что 1804-й – год завершения Гегелем «Феноменологии духа» и год смерти Канта. Однако книга переполнила чашу терпения. Она была конфискована и уничтожена. Мадам де Сталь эмигрировала за границу.
Зато «Дух христианства», которому предшествовали «Атала» (1801) и «Рене» (1802), сделал Шатобриана придворным писателем. Трактат с его установкой на восстановление религии в правах импонировал правительству. Автора поощрили, назначив секретарем посольства в Риме, а затем полномочным министром в Валезе. Недостаточно весомое, по мнению автора «Рене», поощрение. Казнь герцога Энгиенского послужила для Шатобриана поводом уйти в отставку. Задумав грандиозную христианскую эпопею, он отправился в 1806–1807 годах в далекое путешествие из Парижа в Иерусалим, откуда привез поэму «Мученики» (1809). Поэма увидела свет, когда конфликт между папой и императором вступил в самую драматическую фазу. Досадное совпадение. Избранный в 1811 году в Академию, Шатобриан не смог произнести вступительной речи, а точнее – проклятия своему предшественнику, Мари-Жозефу Шенье, бывшему члену Конвента и цареубийце.
«Я был преисполнен решимости, – напишет он в «Замогильных записках», – встать на защиту свободы, а также возвысить голос против тирании». С тиранией он боролся без большого риска для себя, по крайней мере до 1814 года. Два мыслителя предвосхищают будущее: в 1808 году Фурье обнародует «Теорию четырех движений», а Сен-Симон в это время разрабатывает свое учение, не забывая при этом спекулировать государственным имуществом.
Массовая литература
Нельзя обойти молчанием массовую литературу. Песенный жанр довольно скоро проявился как бунтарский («Новобранец из Лангедока», «Король Ивето» Беранже, 1813). Зато вполне безобидной предстала картина нравов в водевилях Дезожье. Если в непринужденной поэзии Пии, в его «Альманахе Муз», еще можно найти известное очарование, следует признать, что романы мадам Коттен и мадам де Жанлис вообще невозможно читать. Два жанра холодят кровь. Прежде всего «черный роман», восходящий к «готическому» роману Уолпола, Анны Рэдклиф и Льюиса. Романы Дюкре-Дюмениля («Виктор, или Дитя леса», 1796, «Коэлина, или Дитя тайны», 1798, «Лолотта и Фанфан», 1807) и Пиго-Лебрюна («Господин Ботт», 1802, «Человек намерений», 1807) расходятся баснословными тиражами. Подземелья и замки с привидениями, мужчины в масках и соблазненные девы, проклинающие отцы и верные сыновнему долгу юноши услаждают досуг не только умеющих читать кучеров и швейцаров, но и всей буржуазной публики.
Эти сюжеты переселяются на театральные подмостки с легкой руки таких драматургов, как Лоэзель-Треогат, Кэгниез по прозвищу «бульварный Расин» и конечно же Пиксерекур, без ложной скромности сравнивающий себя с Софоклом. Мелодрама, как это вытекает из самого термина, являет собою синтез драмы, пения и танца. Ею не пренебрегали композиторы – Буальдье и Крейцер. Она же становится предметом яростной полемики между Лагарпом, сторонником элитарного театра, и Мерсье, воскликнувшим: «На каком основании вы закрываете двери театров перед народом, вы, нация не то спесивцев, не то скопидомов? Бедняк как никто нуждается в том, чтобы пролить слезу умиления. Где тот автор, который позаботится о нашем славном народе, обеспечит его вкусной и полезной духовной пищей, организует ему благочестивые увеселения и научит его наслаждаться ими?» Мелодрамы игрались при полных аншлагах. «Двойное замужество» Пиксерекура выдержало 451 представление в Париже и более тысячи в провинции.
В эпоху Первой Империи необычайно возрос интерес к книге. Тон задавал сам Наполеон. Его библиотекарь Барбье регулярно информировал императора о книжных новинках. «Число пунктов приема подписки множится день ото дня, – сообщалось 21 октября 1809 года в «Парижском бюллетене полиграфии и книготорговли». – Их открывают даже цирюльники». Какому же чтиву отдается предпочтение? Романам Дюкре-Дюмениля, Пиго-Лебрюна и переводам Рэдклиф и Уолпола. «Классические» произведения, за исключением романов Шатобриана, не фигурируют в каталогах подписных изданий. Зато явно растет авторитет научных обществ: в 1813 году Мангури учреждает «Общество французских археологов», а Мальт-Брюн возрождает в 1813 году престиж географической науки.
Изобразительное искусство
Возникает мода на произведения живописи и скульптуры. Растут тиражи книг по эстетике: живо обсуждаются взгляды Винкельмана и Катремера де Кинси. Легран переводит трактаты Пиранези по архитектуре. Амори Дюваль обращает внимание на влияние живописи на промышленные искусства. В свою очередь, Реверони Сен-Сир отмечает благотворное воздействие на искусство точных наук. В 1801 году Балланш издает трактат под названием «О чувстве в его отношении к литературе и искусствам», который блекнет в лучах «Духа христианства» Шатобриана. Ландон публикует «Анналы Музея и современной школы изобразительных искусств». Множится число частных коллекций (Феш, Люсьен Бонапарт, Виван Денон, Сульт). Покоренная Европа открывает свои сокровища для знатоков. Несмотря на богатый ассортимент, цены на картины продолжают расти. В Салоне царит вечное столпотворение; правда, вход туда свободный. «Ужас, что за публика! – негодует современник. – Какие-то грузчики, торговки, слуги!» Музей Наполеона также переполнен. На выставке привезенных из Италии картин побывало тридцать тысяч посетителей. Разумеется, причиной такого столпотворения людей была не столько любовь к живописи, сколько гордость одержанными победами. Наполеон понимает, что искусство – мощный инструмент пропаганды. «Его величество, – пишет Монталиве Денону в 1810 году, – выражает пожелание, чтобы открытие Салона было приурочено к празднествам, которые предполагается организовать в честь Великой Армии, а также чтобы Музеум естественной истории предстал к этой дате во всем своем великолепии». В этот период император заигрывал с живописцами. В 1808 году он посетил Салон с явным намерением выказать свое расположение Гро. Наполеон раздал награды, побеседовал с художниками, всем своим видом показывая, что с автором картины «Битва при Эйлау» он незнаком. Завершив церемонию награждения, он резко повернулся, снял с себя орден Почетного легиона и прикрепил его на грудь живописца. Подойдя к последней работе Давида «Коронация Жозефины», он, по воспоминаниям Делакруа, долго смотрел на нее, затем «снял шляпу, поклонился Давиду и торжественно произнес: „Я вас приветствую, Давид“».
Давид безраздельно царил в живописи, которая благодаря государственным и частным заказам была на подъеме. Первый живописец императора, Давид – сенатор, кавалер ордена Почетного легиона и член Института – достиг в этот период вершины своей славы. Ему поручают запечатлевать ключевые события легенды: «Переход Бонапарта через Сен-Бернарский перевал», «Награждение», «Коронование Жозефины». Не забыта и античность: при консульстве он начал работу над картиной «Леонид у Фермопил», которую завершил в 1814 году. В 1809 году он пишет «Амура и Фаэтона», в 1812-м – «Гомера и Каллиопу». С его именем связан триумф неоклассицизма.
У него много учеников: по подсчетам сына – четыреста тридцать три. Самые прославленные изображены на полотне «Мастерская Давида». Вот Гро (1771–1835) – его «блудный сын». Проявивший себя как классицист в картине «Сафо на Левкасе», он запечатлел также основные события своего времени. Его картины – «Битва при Абукире», «Битва при Эйлау» (1807), «Наполеон в госпитале чумных в Яффе» (1804). Вот Жерар (1770–1837), который в 1786 году поступил в мастерскую Давида, отказавшись от своих ранних классицистических полотен («Велизарий», «Психея» и т. п.) ради парадных портретов членов императорской семьи и государственных сановников. Вот Жироде-Триозон (1767–1824), заявивший о себе в 1793 году картиной «Сон Эндимиона». Его «Оссиан, или Апофеоз французских героев, павших за Родину», заказанный в 1800 году для Золотого Салона – экспозиции, развернутой в замке Мальмезон, а также «Погребение Аталы» и конечно же «Всемирный потоп» (1806), картина, которая в
1810 году на проводимом раз в десять лет конкурсе будет поставлена выше давидовских «Сабинянок, останавливающих сражение между римлянами и сабинянами», снискали ему репутацию величайшего мастера своего времени.
Особо хотелось бы отметить оставившего заметный след Эннекена, Фабра (1766–1837), второго ученика Давида, награжденного в Риме «Гран-при», Александра-Эвариста Фрагонара (1780–1850), сына великого Фрагонара, скончавшегося в 1806 году, и вероломного ученика Давида, расставшегося со своим учителем ради «готики трубадуров», а также Франка, Мюлара, Викара, Дроллинга и Ревуаля.
Особое место занимает Энгр (1780–1867). Его портреты Наполеона поражают своим величием, почти византийским великолепием. И тот же Энгр – автор серии «Одалиски», обнаженные женские тела которой выглядят сладострастнее давидовских. Многообразие школ не сводится к классицизму. И у живописи есть свои маргиналы.
Таков Прюдон (1758–1823), сын каменотеса из Клюни, испытавший на себе влияние немецкой школы. В прошлом член революционных обществ, он был введен своим соотечественником, префектом Сены Фрошо, в официальные салоны. Картина «Триумф Бонапарта» (1801) закрепляет наметившийся успех. Прюдон декорирует в Париже помпезные мероприятия в честь императора. Жан Брок (1771–1850), боровшийся с влиянием Давида, примыкает к примитивистам, требовавшим от искусства, вслед за Морисом Кэ и Шарлем Нодье, абсолютной наивности и непосредственности. Эти настроения не были чужды и Энгру. Брок – автор удивительной картины «Смерть Гиацинта» (1801), долгое время остававшейся неоцененной. Это направление противостояло анимализму Венкса и руинам Сюве. Все жанры пользуются признанием. Валансьенн (1754–1819) издает трактат, в котором отстаивает право художника на изображение как современных событий, так и сюжетов из античной истории и мифологии. Пейзаж по-прежнему в моде благодаря Юберу Роберу (умер в 1808), Бидо (1758–1846) и Моро-старшему (1739–1805). Буали (1761–1845) заявляет о себе как о мастере жанровых сцен: «Прибытие дилижанса» (1804), «Проводы призывников 1807 года» и «Чтение 7-го Бюллетеня Великой Армии» (1808). С ним конкурирует Тоней (1755–1830). Дюплесси-Берто специализируется в жанре солдатского анекдота. В области портрета Данлу бросает вызов корифеям этого жанра. Анималист Юэ, умерший в 1811 году, передает эстафету Шарлю Верне (1758–1836), рисующему лошадей. Упомянем также и Мейнье (1768–1832).
Но вот появляется Жерико (1791–1824). Острый драматизм его картин «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку» (1812) и «Раненый кирасир, покидающий поле боя» (1814), предвосхищает романтизм. Подобно Делакруа, Жерико сложился как художник не столько в мастерских, сколько в Музее Наполеона, где беспорядочно соседствовали Тициан и Веласкес, Караваджо и Рибейра, Рубенс и Рембрандт. Подобно Вильи и Ламартину, Жерико, прельстившись военной карьерой, вступит в полк красных королевских мушкетеров, во время Ста дней последует за королем в Гент, а затем возвратится к гражданской жизни.
Даже этот скупой перечень живописцев свидетельствует о том, насколько Империя богата талантами. Вся живопись при Наполеоне слишком безапелляционно сводилась к нескольким полотнам из античной истории, батальным сценам и парадным портретам сановников: «Сабинянкам» Давида, «Эйлау» Гро и «Мадам Рекамье» Жерара. Это – бесспорные шедевры, однако они ни в коей мере не отражают всего многообразия живописной продукции первого пятнадцатилетия XIX века. Либертинаж и «слезная драма» уходят в прошлое, зато в эпоху Империи благодаря Шатобриану и Музею французских памятников, основанному Ленуаром, возникает стиль трубадуров – своего рода дань воображаемому средневековью – появляются мистификации Оссиана, воссоздающие древние мифы, и, как следствие децентрализации, начинается возрождение провинциальных музеев (датируемый 14 фрюктидора IX года, когда на основании соответствующего постановления им было передано на хранение 846 живописных полотен), возникают региональные культурные центры. В Лионе творит Гробон, в Лотарингии – Клодо, в Провансе – Константен. Может сложиться впечатление, что Франция отстает от европейской моды по гротеску (Фюссли в Германии, Блейк в Англии и др.). Однако это не так. Вафлар (1774–1837), незаслуженно забытый (и не он один), разрабатывает эту традицию в своей потрясающей картине «Юнг и его дочь» (1804).
Да, триумф неоклассицизма – это не только многообразие направлений, но и культурное завоевание Европы. Изабо едет по приглашению в Вену, Давид пишет в 1812 году для князя Юсупова. В порядке «культурного обмена» двое сыновей Пиранези поселяются в Париже. И разве Гойя не стал придворным живописцем Жозефа Бонапарта?
Скульпторы и архитекторы
Неоклассицизм переживает расцвет и в скульптуре, хотя шедевров здесь меньше, чем в живописи. И это не удивительно. Умирают Пажу, Клодион и Гудон, уступая место Шинару (1756–1813), Ролану (1746–1816), Картелье (1757–1831) и Муату (1746–1810). Скованные академизмом скульпторы создают произведения, которым не хватает жизненности. Но при этом виртуозно выполнены бюст мадам Рекамье работы Шинара и барельеф Луврской колоннады, высеченный Картелье. Большая самостоятельность Шоде (1753–1810) позволяет ему успешно разрабатывать мифологические сюжеты, в которые благодаря оригинальности своего таланта он вдыхает новую жизнь. Он прославился статуей Наполеона в римской тоге, которой предстояло увенчать Вандомскую колонну. Но и он не идет ни в какое сравнение ни с Бозио (1768–1845), автором барельефа, украшающего ту же колонну, ни с итальянцем Кановой (1757–1822), дарование которого невозможно переоценить. Его «Обнаженного Наполеона», навеянного Аполлоном Бельведерским, император запретил выставлять, оскорбившись чересчур атлетическим телосложением скульптуры. Канова создает скульптурные портреты императорской семьи: Полину в образе Венеры и императрицу-мать в образе Агриппины. Эти работы вызвали фурор. Но, несмотря на настойчивое приглашение Наполеона, Канова предпочел остаться в Риме.
Неоклассицизм царил и в архитектуре. Гондуин (Медицинская школа), Пейр, Шальгрен (Одеон, Арка Звезды), Пуайе (здание Законодательного корпуса), Водуайе, Селерье (театр Варьете), Виньон (церковь Мадлен), Броньяр – представляют официальное направление. И хотя в целом французская архитектура все еще смотрит в прошлое, появляются новые идеи. Они находят свое техническое выражение в применении металлических конструкций при наведении мостов (Аустерлицкий мост, переходной мостик в Музее декоративных искусств), в каркасе куполов (после пожара, уничтожившего в 1806 году крытый хлебный рынок, Беланже возводит новый купол из меди и стали). В области теории Дюран (1760–1834), ученик Буле, став профессором Политехнической школы, в «Собрании и сравнении архитектурных стилей, древних и новых», так же как и Роднеле (1743–1829) в «Теоретическом и практическом исследовании зодчества», отстаивает концепцию искусства, основанного не на красоте, а на целесообразности, в соответствии с которой ведущая^роль отводится не архитектору, а инженеру. Леду умер в 1806 гцду, однако его теория города будущего не оказала никакого влияния на архитектуру наполеоновских городов Понтивы и Ла Рош-сюр-Йон.
Любимыми архитекторами императора были Фонтен (1762–1853) и Персье (1764–1838), которые во главе с Давидом стали подлинными вдохновителями стиля ампир. На их долю выпала нелегкая задача. Много писали о нерешительности Наполеона, вынашивавшего грандиозные проекты: преобразовать Дом инвалидов в храм Марса, соединить Лувр и Тюильри, понастроить триумфальных арок, реконструировать Версаль, возвести на холме Шайо дворец римского короля, а на Марсовом поле – административный центр. Рассматривая все эти представленные на его утверждение планы, Наполеон не мог принять окончательное решение. Из задуманного удалось построить лишь арку на Карусельной площади по проекту Фонтена, сооружение, которое кажется сегодня недостаточно монументальным: его надо представлять себе на старом фоне дворца Тюильри. Храм Славы, в который должна была преобразиться церковь Мадлен, вызвал к жизни множество проектов и стоил Наполеону немалых душевных терзаний. Последний будто бы даже хотел возвести на холме Монмартра что-то вроде его аналога, «своего рода храм Януса», где оглашались бы мирные договоры. Периодически рассматривался и каждый раз откладывался проект соединения Лувра с Тюильри. В дневнике Фонтена Наполеон предстает перед нами в непривычном ракурсе – охваченным сомнениями и боящимся ошибиться. Колебался он и в отношении Версаля. По смете Гондуина на реконструкцию дворца предполагалось затратить 50 миллионов. Персье и Фонтен были менее разорительными. В конце концов Наполеон заявил: «Лучше уж вообще ничего не затевать, если то, что мы предлагаем, не может соперничать в великолепии с архитектурой Людовика XIV». Что касается Шайо, то Персье и Фонтен задумали грандиозный проект, изложенный в книге «Резиденции государей». Приступили к подготовке, однако в связи с войной ни один монумент так и не был сооружен. «Из-за непомерных амбиций дворцы остаются недостроенными», – негодовал Наполеон. Может быть, его позиция отражала психологию новых чиновников? Последние строили мало, предпочитая обживать старые аристократические особняки. Что до буржуазии, то она возводила в основном доходные дома, заменяя вывески на витрины. В этом частном строительстве на первых порах доминируют египетский и дорический стили, затем входят в моду элементы итальянского Возрождения, порой безукоризненно вписывающиеся в сложившуюся архитектонику, например в палладианство улицы Риволи.