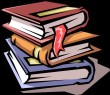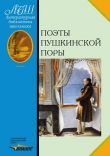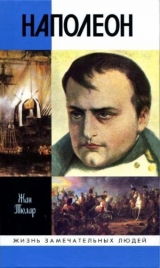
Текст книги "Наполеон, или Миф о «спасителе»"
Автор книги: Жан Тюлар
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
Глава I. ОТ «СПАСИТЕЛЯ» К ДЕСПОТУ
«Потребность в установлении временной абсолютной диктатуры, необходимой для спасения государства, отодвигала на второй план опасения, связанные с ее возможными последствиями. Никто не предполагал, что интересы отечества могут оказаться несовместимыми с гражданскими свободами», – писал в своих мемуарах Бурьен. Разве эти свободы не были гарантированы «общественными институтами власти, вызванными к жизни разумом и просвещенностью века»? Сам Бенжамен Констан допускал такое – оправданное состоянием войны – «исключение». Между тем на смену диктатуре общественного спасения римского образца, «просвещенной» диктатуре в духе XVIII века, пришла наследственная монархия. Разумеется, речь шла о том, чтобы вынудить европейских государей, которые никогда бы не приняли крайних форм республиканизма, признать новую власть и тем упрочить социальные завоевания Революции. Если бы Наполеон сделал ставку на буржуазию, он обеспечил бы будущность своей династии, а также общность интересов Империи и нотаблей. Однако, начиная с 1808 года, он стал отдаляться от этой перспективы: укрепление единоличной власти исключало функционирование постоянных политических институтов, упраздняло свободы. Наполеон не верил в «конституции». Он считал, что Революцию совершила не любовь к свободе, а тщеславие. «Правительства, столь неудачно названные умеренными, всегда будут прямиком вести к анархии», – заявит он Моле. На что последний позднее совершенно справедливо возразит: «Франция никогда не верила в долго-временность опирающегося на силу порядка, скрепленного принуждением и оправданного интересами государства».
Наполеон
Хрупкий генерал итальянской армии с худым смуглым лицом, обрамленным длинными волосами, превратился в упитанного «человечка» с выступающим брюшком, восковым лицом и короткой стрижкой. Внешне – ничего общего между Бонапартом и Наполеоном.
Прежними остались только взгляд, то повелевающий, то очаровывающий, улыбка, по словам Шатобриана, «властная и выразительная», и голос, в котором слышался певучий говор Аяччо. Сколько раз уже говорилось о необычайной работоспособности Наполеона, его гигантской памяти, замечательной силе ума и, разумеется, непреклонной воле организатора. Отмечали его презрение к людям, непомерную гордыню, крайнюю нервозность, ввергавшую его в припадки, похожие на эпилепсию. Впрочем, повторять это – значит слишком доверять мемуарам Бурьена и Шапталя, его опальных соратников. Это был вспыльчивый человек, преданный в дружбе, хотя и не свободный от предубеждений (говорили, будто он недолюбливал Гувиона Сен-Сира и Журдана). Охваченный постоянной тревогой, он не смог ни одобрить, ни отвергнуть представленный ему Фонтаном проект соединения Лувра с Тюильри, а в последние годы Империи, если верить Ронье, порой терял способность принимать решения по военно-стратегическим вопросам. Золотая, а позднее и черная легенды исказили облик Наполеона, переоценив: одна – его достоинства, другая – недостатки. Его письма свидетельствуют о безмерности его натуры, но также и о здравомыслии; о жестокости, но и о сентиментальности. В письме Эжену Богарне от 4 апреля 1806 года он нежен: «В вашем доме должно быть веселее, это важно для счастья вашей супруги и вашего здоровья. Молодую женщину, занимающую к тому же высокое положение в свете, надо развлекать». В мае 1808 года, поздравляя брата Луи с отцовством, он сух: «Приветствую по случаю рождения сына. Назовите принца Шарлем Наполеоном». Речь идет о будущем Наполеоне III.
Каков он был с женщинами? Наполеон как-то признался Гурго: «Я никогда никого не любил по-настоящему, разве что немного Жозефину, да и то потому, что мне было тогда всего двадцать семь». Неверная, расточительная и с причудами (на жарком супружеском ложе ее левретка Фортюне не раз хватала Бонапарта за икры), Жозефина довольно скоро наскучила ему. Император имел как минимум двух внебрачных детей: Леона (1806) от актрисы Элеоноры Данюэль де ла Плень, приятельницы Каролины Бонапарт, и Александра (1810) от Марии Валевской. Возможно, еще и дочь Эмили, будущую графиню де Бригод, от Франсуазы Марии Jlepya. Ни одна из любовных связей – а их было немало – не оказала влияния на жизнь Наполеона: всем им суждено было остаться в истории не более чем минутным развлечением прославленного полководца.
По заведенному распорядку рабочий день императора начинался в семь утра. Придворный маршал Дкдеок сообщал ему газетные новости и последние донесения полиции. Затем Наполеон изучал счета армейских поставщиков и беседовал с приближенными. В восемь в своем рабочем кабинете он диктовал секретарям (Бурьену, затем – Меневалю и Фэну) письма и просматривал полицейские сводки. В девять короткие аудиенции, в десять – десятиминутный завтрак, сопровождающийся неизменным разбавленным шамбертеном – привычка, сохранившаяся еще с дореволюционных времен. Затем он возвращался в кабинет к досье, сводкам, донесениям и картам, составленным для него Бакле д'Альбом. В час пополудни он присутствовал на заседаниях совета министров, Государственного или Административного советов. Обедал в пять, однако нередко садился за стол не раньше семи. После обеда задерживался в гостиной в обществе императрицы, знакомился с книжными новинками, отобранными для него его личным библиотекарем Барбье, после чего возвращался в кабинет для завершения дневных дел. В полночь ложился спать, в три часа просыпался, обдумывал наиболее щекотливые вопросы, принимал горячую ванну и около пяти вновь засыпал.
Этот распорядок дня нарушался только переездами и военными кампаниями. Тогда император пересаживался в специальную берлину, оборудованную выдвижными ящиками и отделениями для документов. Перемещался он в сопровождении кавалькады камергеров и адъютантов. Экономя время, он диктовал прямо в карете, а на привалах начальник штаба Бертье или секретари рассылали его распоряжения.
Однако в последние годы Империи начинает сказываться переутомление. Современники констатируют частичное ослабление умственных способностей Наполеона. Неизменным остается лишь созданный пропагандой образ. Мало кто из исторических деятелей приложил столько усилий для сохранения собственного имиджа: треуголка, серый сюртук, рука между пуговицами жилета – эта лубочная картинка (в иных случаях – карикатура) сама диктовала императору манеру себя вести.
Политические взгляды Наполеона
Политические воззрения Наполеона претерпели значительную эволюцию. Дошедшие до нас черновики и наброски, «Письмо Буттафьочо», а также «Ужин в Бокере» являют нам молодого офицера, который накануне Революции искренне и осмотрительно (особенно после поражения на Корсике) ищет идеальную форму правления. Тогда же Наполеон определит ее для себя как Империю. Обретение всей полноты власти не отвлекает его от размышлений о политическом устройстве государства. Он с видимым удовольствием излагает свои взгляды на заседаниях Государственного совета, перед приближенными, в письмах. Каждый конкретный случай служит ему материалом для построения политической философии. Философии, отражающей скорее взгляды Макиавелли, чем Руссо. Впрочем, после Консульства он откажется от нее. 7 июня 1805 года он посылает Эжену Богарне, в то время вице-королю Италии, свои рекомендации: «Покажите этому народу, что вы правите, руководствуясь уважением к нему, – тем большим, чем меньше он его заслуживает. Придет время, когда вы поймете, что народы мало чем отличаются друг от друга». На основании щедро расточаемых в письме советов можно было бы составить новый трактат «Государь». Основополагающим принципом правления должно быть отсутствие гласности. Государю надлежит как можно меньше говорить и как можно больше слушать. «Молчание государя не позволяет подданным определить степень его могущества, – пишет Наполеон. – Если же он заговорит, его речь должна быть исполнена сознанием безграничного превосходства». Государь не должен поощрять доносчиков, а также доверять иностранным послам, ибо «посол, – продолжает император, – ничего хорошего о вас все равно не скажет, так как его профессиональный долг заключается в том, чтобы говорить о вас плохо». Наконец, следует занять непримиримую позицию по отношению к казнокрадам: «Поимка даже одного бесчестного бухгалтера – важная победа администрации». Всякое правительство, по мнению Наполеона, высказанному в другом документе, должно опираться прежде всего на силу: «Слабость порождает гражданские войны; твердость обеспечивает спокойствие и процветание государства». Преодоление унаследованного от Революции кризиса было возможно лишь на путях установления авторитарной власти – Брюмера. Такой власти, которая не была бы подотчетна парламенту английского образца. «Нынешнее правительство, – провозгласил Наполеон в 1804 году, – уже больше не креатура Законодательного собрания; отныне между ними устанавливаются самые прохладные отношения». Эту мысль Наполеон настойчиво проводит в обращении к нации, или, по терминологии бонапартизма, «обращении к народу»:
«Законодательный корпус стоит на страже общественного достояния; в его обязанности входит принятие законов о налогообложении: если ему вдруг заблагорассудится воспрепятствовать принятию второстепенных законов, я не стану ему противиться; но если в его среде сформируется оппозиция, готовая помешать деятельности правительства, я обращусь к Сенату, воспользовавшись правом пророгации, переизбрания или роспуска, а в случае необходимости прибегну к поддержке Нации, возвышающейся над этой пирамидой».
А вот что он пишет губернатору Голландии Лебрену: «Не для того я взял на себя труд управления Голландией, чтобы прислушиваться к мнению амстердамской черни или поступать так, как угодно другим». Обретя безграничную власть, Наполеон обнаружил еще одну черту своего характера: при такой форме правления, когда все замыкается на одном человеке, самодовольство последнего быстро подавляет всякую конструктивную оппозицию. «Подвластные мне народы Италии хорошо меня знают и должны помнить, что в одном моем мизинце больше ума, чем во всех их головах, вместе взятых». Покровительствуемая успехом самонадеянность весьма скоро превращается в цинизм: «Я давно заметил, что так называемые порядочные люди ни на что не годятся».
И вот диктатура общественного спасения, некогда опиравшаяся на народ («правление именем народа обладает двойным преимуществом: узаконивает пророгацию и подтверждает законность моей власти, которая в противном случае выглядела бы самозваной»), превращается в четвертую династию, которую Наполеон пытается навязать европейским монархиям. «Я дал им понять, что намерен покончить с революциями. Монархи должны быть благодарны мне за то, что я перекрыл поток революционного сознания, грозившего смести их троны. Их престолы рухнут вслед за падением престола моего сына», – доверительно сообщает он Коленкуру. Наполеон приходит к убеждению, что аристократия должна стать главной опорой создаваемой им наследственной монархии: «Это подлинная, единственная основа монархии, ее регулятор, ее рычаг, ее руль, ее действенный стимул». Так Монтескье сменяет Руссо, поддержка нотаблей приносится в жертву интересам старой знати.
Императорская семья
Редко на долю семьи какого-нибудь государственного деятеля выпадает такая же роль, какая выпала на долю ближайших родственников Наполеона. История его взаимоотношений с семьей, занимательно рассказанная Фредериком Массоном, – нескончаемая череда размолвок и примирений. Впрочем, у братьев и сестер императора не было оснований для недовольства. С первых дней существования Империи семья Бонапарта стала династией французских князей с правом престолонаследия. Старший брат Жозеф (1768–1844), которому Наполеон долгое время оказывал известное предпочтение, удостоился отобранного в 1806 году у Бурбонов Неаполитанского королевства, а затем сменил на испанском престоле Карла IV. Луи (1778–1864), женившийся на Гортензии де Богарне, дочери Жозефины, получил в 1806 году Голландское королевство. Выдающийся монарх, он близко к сердцу принял нужды своего государства, пострадавшего от континентальной блокады, что привело его к неизбежному конфликту с братом. Проказник Жером (1784–1860) вывел Бонапарта из себя, женившись на богатой американке мисс Петерсон, однако в 1805 году помирился с ним; через шесть дней после второго бракосочетания, с дочерью вюртембергского короля, состоявшегося 12 августа
1807 года, он стал королем Вестфалии. Лишь Люсьен (1775–1840), самый умный из всех, побывав министром внутренних дел, послом в Испании и членом Трибуната, не удостоился королевства. Он женился на мадам Жубертон вопреки воле своего брата и вынужден был возвратиться в Рим, в свое поместье Канино, возведенное папой в ранг княжества. Элиза (1777–1820), жена безвестного корсиканского офицера Феликса Баччиочи, которого Наполеон ввел в сенат, стала принцессой де Люк и Пьомбино, затем – великой герцогиней Тосканской. Полина (1780–1825), красота которой увековечена в скульптуре Кановы, разведясь с Леклерком, вышла замуж за князя Бор-гезе. Наконец, Каролина (1782–1839), вышедшая замуж за Мюрата, была увенчана короной великой герцогини Бергской, а затем королевы Неаполитанской.
Став королями, братья Наполеона должны были, по замыслу императора, послушно проводить его политику. 6 мая 1808 года он пишет брату Луи: «Я узнаю из парижских газет, что вы назначаете князей. Настоятельно прошу вас не делать этого. Короли не могут назначать князей. Это прерогатива одного лишь императора». 27 августа 1809 года он напоминает Элизе из Шенбрунна: «Вы – французская подданная и, как все французы, обязаны подчиняться приказам министров».
По мере того как проявлялись пагубные последствия имперской политики, противоречившей интересам вверенных им государств, братья и сестры Наполеона пытались выражать интересы своих народов, посягая на единство Империи. В 1810 году Наполеон пожалел о том, что нараздавал престолы. Рождение римского короля (20 марта 1811 года), по-видимому, изменило его взгляд на Империю: он решил аннексировать неосмотрительно розданные территории в пользу сына. Луи в Голландии пал первой жертвой пересмотра политического курса; затем тучи сгустились над Мюратом. Переориентация политики вызвала возмущение французской общественности, так как отодвигала интересы нации на второй план: в расчет принимались лишь династические амбиции. В итоге семья сослужила Наполеону дурную службу не столько своими интригами, сколько тем, что превратилась в некий клан, эксплуатировавший Францию и Европу ради накопления несметных богатств и удовлетворения своих непомерных аппетитов.
Механизм государственной власти
Хотя республиканский календарь перестал издаваться 1 января 1806 года, а надпись «Французская Республика» гравировалась на монетах до конца 1808 года, личная диктатура Наполеона уже в 1804 году утвердилась как имперская форма правления, не церемонившаяся с законной консульской властью. Постепенно нотабли лишились того влияния, на сохранение которого все-таки рассчитывали вопреки усилившейся консолидации Империи. Воцарилась единая воля, потворствовавшая не интересам буржуазии, а прихотям одного человека.
Министры превратились в рядовых исполнителей: вся их документация отныне проходила через руки императора. В 1804 году Шапталь покинул министерство внутренних дел. Добросовестный Шампаньи сменил в 1807 году Талейрана на посту министра внешних сношений. Впавший в 1810 году в немилость Фуше передал полицию на попечение «жандарма» Савари. Сильные личности, способные оказывать влияние на решения императора, были заменены преданными, но бесталанными исполнителями. В 1811 году учреждается министерство мануфактур и торговли во главе с Коленом де Сюсси, которому передается ряд функций министерства внутренних дел, чересчур разбухшего под руководством Крете, а затем Монталиве. Увеличилось число главных управлений, ограничивших полномочия министров.
Противовес законодательной власти, куда как слабой уже при Консульстве, окончательно сошел на нет. Даже Трибунат, давно не представлявший собою никакой оппозиции и поделенный Конституцией XII года на три палаты, в 1807 году прекратил свое существование. Сессии Законодательного собрания, состав которого формировался из функционеров нового и старого призыва, сократились до нескольких недель в году. Однако Наполеон намеревался отделаться и от него. В ходе выборов в Национальное собрание 1807 года, призванных обновить на одну треть состав депутатов, в большинстве избирательных коллегий был зафиксирован большой процент самоотводов. Избиратели также бойкотировали формальные выборы. Казалось, что сама власть утратила к ним интерес: в 1812 году предполагалось назначить 399 членов в коллегию округа и 139 – в коллегию департамента Сена. Сенат добровольно отказался от последних претензий на самостоятельность, даже несмотря на ту относительную власть, которой обладали комиссии по свободе печати и индивидуальным правам. Последняя отменила, в частности, решение брюссельского суда присяжных, оправдавшего мэра Антверпена Вербруга, из личной мести обвиненного генеральным комиссаром полиции Бельмаром во взяточничестве и подлоге. Маркиз де Сад, заключенный в Шарантоне, тщетно взывал к этой сенатской комиссии, которая так и не сочла нужным высказаться по его делу.
И Государственный совет, весьма влиятельный в период Консульства, утратил немалую долю своего могущества. По свидетельству Тибодо, Наполеон все реже наведывался на его заседания, предпочитая навязывать свои решения, не прислушиваясь к мнению советников. Впрочем, кое-какое влияние у Совета все же оставалось, ибо, как свидетельствуют обнаруженные недавно записи секретаря Совета Локре на заседании 6 июня 1810 года, Трейяр не менее шести раз отклонял предложения Наполеона, касающиеся работы апелляционного суда. Оказавшись в меньшинстве, император 11 ноября 1813 года вынужден был смириться с результатами голосования. Впрочем, следует принять во внимание, что элита аудиторов, к которой принадлежал и Стендаль, формировалась именно в этом питомнике будущих администраторов. Пойти навстречу Совету означало признать его роль кузницы кадров. После того как были приняты все основные законы, Государственный совет вполне мог сосредоточиться на юридической стороне административной деятельности.
Недолго сохранялась несменяемость кадров и в судах. Решением сенатус-консульта от 12 октября 1807 года назначенной императором сенатской комиссии было поручено взять на себя труд по их обновлению. Закон, принятый 20 апреля 1810 года, реорганизовал судебное ведомство, заменив суды по уголовным делам на суды присяжных, заседавшие в столицах департаментов; присяжные заседатели назначались по списку из 60 человек, составленному префектом. Поимка преступника возлагалась на прокурора. Судебный следователь выносил постановление об аресте. Апелляционные суды были переименованы в имперские.
В префектурах возникло новое поколение, многие представители которого были потомками старого дворянства, более лояльно относившегося к распоряжениям новой власти: Моле, назначенный в 1807 году префектом Кот-д'Ор; Монталиве, сначала префект департамента Ла-Манш, затем Сена и Уаза, возглавивший в 1809 году министерство внутренних дел; Паскье, в 1811 году сменивший Дюбуа в префектуре полиции. Австрийский брак императора ускорил захват префектур старой аристократией (Косе-Бриссак, Ла Тур дю Пэн, Бретей). Семейственность также оставалась в силе. Абриал был сыном бывшего министра, Ренье – влиятельного судьи. Назначение префектов все больше зависело от прихоти императора. Тем же, кто надеялся на длительное пребывание в должности, нередко приходилось кусать себе локти. Директивы администрации носили все более произвольный характер. Они исходили от министерства внутренних дел, полиции, главного управления по рекрутскому набору. Именно этот род деятельности мало-помалу парализовал инициативу префектов, старания которых оценивались, как сообщает Савари императору, равным образом с учетом их происхождения, состояния и «особого расположения Вашего Величества». Они оценивались также по степени влияния, оказываемого ими на генеральные советы, чьим пожеланиям, принятым в ходе «летучек», суждено было навсегда оставаться мертвой буквой. Забвение, в котором пребывали муниципальные власти, усугублялось отсутствием реальной власти у мэров.
Параллельно убыванию, а то и упразднению функций законодательной власти осуществлялось дробление на все более многочисленные главные и окружные управления. Префект Мозеля Воблан отмечает, что в последние годы Империи это дробление привело к тому, что путаница в делах стала неизбежной. В результате тщательно отлаженная административная машина застопорила, столкнувшись со всеобщей подозрительностью и сверхцентрализацией. Накануне битвы при Лейпциге Наполеона вынудили одобрить статьи расходов уполномоченного по административно-финансовой части Сен-Мало, чем отвлекли от предстоящего сражения, имевшего немаловажное значение для будущего Германии.
Отныне Наполеону приходилось единолично решать даже второстепенные вопросы. Если он и собирал послушный совет, то не для ратификации мирного договора или альянса, как это предусматривалось конституцией, а для уточнения формулировки сенатус-консульта. «Император не считал нужным подписывать документы на заседаниях совета министров. Представленный проект декрета сразу же направлялся в соответствующий отдел министерства вместе с докладом и сопроводительными документами. Обложкой к итоговому документу, ждущему его подписи, служил, как правило, лист бумаги с тезисами предлагаемых министрами вариантов проекта. Так что министры уносили с собой после заседания лишь собственные впечатления от того, что говорилось и происходило в их присутствии».
Император отдавал предпочтение деятельности административных советов, заседания которых проходили по понедельникам, четвергам и субботам и часто длились с девяти утра до семи вечера.
«В обязанность административных советов входило всестороннее изучение какого-либо одного вопроса или одной составляющей нескольких вопросов. Как правило, – замечает Фэн, – эти вопросы касались бюджетного финансирования отдельных ведомств, таких, например, как дорожное, инженерных войск или кораблестроения».
Император вызывал на заседания государственных советников, инженеров-специалистов, начальников канцелярий. Сохранились документальные отчеты этих заседаний, в ходе которых каждый мог высказать свое мнение, однако это мнение в лучшем случае принималось во внимание, и лишь императору принадлежало право принятия окончательного решения. Проводя эти заседания, Наполеон получал нужную ему информацию, поскольку в силу одной малоизвестной черты своего характера часто колебался, принимая практические решения. Все это привело в итоге к парадоксальной ситуации, когда административные советы одобряли бюджет Парижа до его рассмотрения генеральным советом, реорганизованным в муниципальный совет столицы, и утверждались без учета мнения парижских нотаблей.
Финансы Империи
Функционирование правительственного аппарата стоило недешево. Чтобы контролировать расходы на его содержание, в 1807 году была учреждена Счетная палата, которую возглавил бывший министр государственного казначейства Барбе-Марбуа, подвергнутый опале после банкротства Союза объединенных коммерсантов. Наполеон рассчитывал получить необходимые ему средства путем взимания косвенных налогов. Так, с 1804 по 1810 год были восстановлены пошлины на алкогольные напитки. Непопулярный в народе налог на соль был в 1806 году заменен пошлиной. С 1810 года введена государственная монополия на табак.
Главное управление сводных налогов передается в ведение «Анакреона фискальной политики» Франсе де Нанта. На этот раз нотабли и народ объединились в своем недовольстве; вновь начинают взиматься налоги на продовольственные товары и соль, что вызвало волну возмущения, едва не захлестнувшую деревню. Эти меры правительства свидетельствовали о том, что война перестала себя окупать. После кампании 1805 года Наполеон учредил кассу чрезвычайных расходов. Ее администратором был назначен Ла Буйри, а директором – генерал-интендант оккупированных территорий Дарю. С 1805 по 1809 год в кассу чрезвычайных расходов поступило 734 миллиона. Сенатус-консультом 30 января 1810 года была создана государственная казна чрезвычайных расходов во главе с Дефермоном. Император обладал единоличным правом на основании издаваемых им же самим декретов финансировать из этого резерва армию, крупные гражданские и военные мероприятия, общественные работы и культуру. Государственная казна чрезвычайных расходов пополнялась за счет контрибуций и прибыли от выгодного размещения капитала. Однако со времени начала испанской кампании война из доходной превратилась в разорительную. Победа над Австрией в 1809 году стала последней финансовой «инъекцией» при не вполне ясных обстоятельствах, после чего разразилась катастрофа, предсказанная экономистом Франсисом д'Ивернуа.
Система образования
По замыслу Наполеона кузницей профессиональных кадров Империи должен был стать Университет. «Без преподавательского корпуса, сплоченного на основе единого принципа, невозможно единое политическое государство», – говорил император. Закон от 11 флореаля X года, введший систему лицейского образования, не оправдал возлагавшихся на него надежд. Разношерстный преподавательский состав не отвечал предъявляемым требованиям, обучение было чрезмерно милитаризованным, финансирование – недостаточным. Буржуазия бойкотировала эту новую форму образования. Лицеи не выдерживали конкуренции с частными учебными заведениями. 10 мая 1806 года был принят закон о создании «Университета – образовательного и просветительского учебного заведения Империи». Профессорско-преподавательскому составу предписывалось взять на себя «гражданские, профессиональные и договорные обязательства». Фуркруа взялся за разработку практической стороны закона. На рассмотрение поступило 20 проектов, после чего 17 марта 1808 года вышел декрет, содержащий 144 статьи, закладывавшие «основы образования в учебных заведениях Университета». Декрет закреплял за Университетом монополию на образование. Университет Империи во главе с магистром, ученым советом и корпусом генеральных инспекторов был разделен на академии; каждая академия, в свою очередь, возглавлялась ректором, советом и инспекторами. Магистр выдавал разрешительные лицензии преподавателям и учебным заведениям, каждое из которых выплачивало Университету ежегодную дань. Образование включало три ступени: начальное, руководство которым Наполеон поручил монахам конгрегации «Христианское вероучение»; среднее, получаемое в лицеях и коммунальных школах, и высшее – на факультетах филологии, естественных наук, права, медицины и теологии Университета. Именно в эпоху Империи стала престижной степень бакалавра, обладание которой открывало путь в высший свет. Преподавателей по-прежнему готовила реорганизованная в 1810 году Эколь Нормаль. Посредством системы образования Наполеон утверждал свою волю в деле формирования новой профессиональной элиты. Нотабли мгновенно раскусили намерение Наполеона. В целом создание Университета Империи вызвало негативную реакцию общества; в итоге он не выполнил возложенной на него задачи.
Поэт Луи де Фонтан сменил на посту магистра Университета автора проекта декрета Фуркруа, который, не пережив этой опалы, скончался. Он был смещен в наказание за свое революционное прошлое. Что же касается Фонтана, то, возможно, соглашаясь на эту должность, он рассчитывал на теплое местечко, но, вероятнее всего, надеялся обеспечить собственное будущее, отстаивая интересы церкви, для которой создание Университета означало потерю контроля над образованием. Он ввел в состав совета Университета таких католиков-ультрамонтанов, как Бональд и аббат Эмери, и утвердил на должности директоров, надзирателей и преподавателей лицеев множество священнослужителей. Этим он предал императора и поддержал католицизм.
И все же государственная монополия на образование не была такой уж безграничной: наряду с духовными семинария-ми функционировали частные школы и пансионы. Правда, и они, номинально входившие в корпус учебных заведений Университета, контролировались инспекторами. Несмотря на это, частные заведения, прежде всего духовные училища и семинарии, успешно конкурировали с лицеями.
Скандал, разразившийся в 1810 году в Сен-Поль-де-Леоне в связи с преобразованием средней школы в духовное училище, вызвал гнев Наполеона: «Передайте магистру Университета, что ему пристало иметь дело с префектами, а не епископами и не превращать народное образование в дело о котериях и происках церковников». 17 июля 1809 года министр полиции направил префектам циркуляр с требованием представить сведения о положении дел в системе лицейского образования. Полученные данные подтвердили авторитет духовных учебных заведений и растущую популярность церкви в молодежной среде. Будущие представители элиты явно не хотели попадать в расставленные Наполеоном сети. Декрет от 15 ноября 1811 года внес изменения и дополнения в декрет от 17 марта 1808 года: духовные училища переводились в подчинение Университету. Каждому департаменту разрешалось иметь не более одной духовной школы, а ее ученики были обязаны носить сутану. В этих школах и пансионах обучение сводилось к элементарной зубрежке. С другой стороны, даже студентам духовных училищ надлежало пройти лицейский курс. По данным на 1813 год, приведенным в трактате Монталиве «О положении в Империи», в лицеях и коллежах должно было учиться 68 тысяч, а в частных учебных заведениях – 47 тысяч школьников. Однако, не без пособничества Фонтана и его инспекторов, епископам удавалось обходить данный декрет. Гизо писал в 1816 году, что администрация Университета Империи «неустанно пропагандировала религиозные принципы, набожность, благочестие». Все это делалось в угоду нотаблям.
Отмежевание нотаблей
Постепенно, по мере того как обнаруживалась авторитарная природа власти, буржуазия начала проявлять признаки беспокойства. Ее цезаристские настроения сменились глубоким разочарованием политикой правительства, игнорировавшего интересы нотаблей и преследовавшего лишь собственные корыстные цели. Вместе с тем у нее оставалось все меньше возможностей для выражения своего недовольства и подрыва основ режима. Торговая палата Парижа заявила, что война пагубно отражается на торговле. «Неопределенность сроков войны, – говорилось в протоколах палаты, – усугубляет положение, не позволяя заключать торговые сделки, которые с наступлением мира обернутся разорением». Циркуляр от 31 марта 1806 года запретил публикацию и какое бы то ни было оглашение аналогичных обращений палаты без санкции министерства внутренних дел. Парижская буржуазия лишилась возможности выражать свое мнение через генеральный совет мануфактур, которому было запрещено обнародование проходивших на его заседаниях обсуждений.