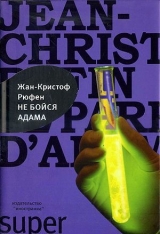
Текст книги "Не бойся Адама"
Автор книги: Жан-Кристоф Руфин
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
– Проводи меня до Мемориала. Все-таки расскажешь мне про свою жизнь.
– Нет, Берт, мне очень жаль. Я обязательно приеду в следующем месяце дня на три-четыре, а теперь слешу на самолет. Сейчас весна, и мой друг-садовник – помнишь, я тебе о нем рассказывала, – ждет меня с семенами. Я просто заскочила их забрать. Увидимся позже.
Бертон нахмурился:
– Если хочешь знать мое мнение, в твоей истории с семенами концы с концами не сходятся.
Жюльетта вздрогнула. Она хотела что-то сказать, но старый полицейский уже подошел к ней и ткнул в нее пальцем:
– За всем этим любовные шашни, ведь верно?
На лице Жюльетты отразилось облегчение, которое Бертон принял за смущение.
– Загнал-таки тебя в угол! В этих делах меня не обманешь. Не для того я тридцать лет прослужил в полиции, чтобы ты меня обдурила! Я любого выведу на чистую воду.
Жюльетта заморгала, как будто ее застали врасплох, и опустила глаза.
– Ну все, ты арестована. Пошли со мной до Мемориала. По дороге во всем сознаешься. Как его зовут?
Бертон взял Жюльетту под руку и чуть отступил в сторону, словно собирался танцевать кадриль.
– Хм, Симон…
– Где он живет?
– В… Вайоминге.
– Теперь я понимаю: в тех краях сезон посадок короток. Холода стоят долго. Поторопись отвезти ему семена.
Вдруг Берт замер на месте и строго посмотрел на Жюльетту.
– Как вспомню, что ради тебя я нарушил федеральный закон…
– Мне правда жаль. Но все эти разговоры о птичьем гриппе, коровьем бешенстве и…
– …и ящуре! Да, понимаю, они просто свихнулись на этом импорте биопродукции.
Потом он взял себя в руки.
– Но ведь это на пользу всем нам. А кроме того, закон есть закон.
Ворча, он снова пошел вперед.
– Знаешь, Этель больше не дома. Пришлось поместить ее клинику. Бываю там каждый вечер. Это всего час автобусом.
Он вздохнул.
– Но дома теперь прислуга, мадам Браун. Позвоню ей, чтобы предупредить о твоем приходе.
Жюльетта обняла его за шею:
– Спасибо, Берт. Вы просто золото.
Старый полицейский поправил свою фуражку и на этот раз не стал озираться по сторонам. Это не преступление, когда тебя целует такая красотка.
– Тебе повезло, что это хмель, – пробурчал он.
– Но не абы какой, Берт, я же объяснила. Это редкий сорт, из которого получается фландрский солод высшего качества. Из него Симон сварит лучшее пиво в Штатах, а я пришлю вам бочонок.
Бертон пожал плечами:
– Можешь поверить, на луковицы тюльпанов я бы так легко не согласился.
Часть четвертая
Глава 1
Хохфильцен. Австрия
В долинах Тироля еще лежал снег. Весне никак не удавалось его растопить. На северо-восточных склонах виднелись грязные обледенелые наросты, окруженные уже зеленеющей травой.
Керри взяла напрокат машину в Зальцбурге, что стоило ей полдня погружения в моцартовский кошмар. Вольфганг Амадей присутствовал везде: на шоколадках, в витринах магазинов и на рекламных панно. Она побыстрее сбежала из города на своем «форде-фиеста», но и на брелоке автомобильных ключей обнаружила профиль гения в детстве.
Городок, где жил профессор Фрич, лежал в горах, и от автобана нужно было ехать еще километров двадцать по горному серпантину. Керри миновала множество почти опустевших деревушек с бессмысленно просторными барочными храмами. Прошлое Австрии слишком величественно для страны в ее нынешнем состоянии.
С утра было пасмурно, но по мере того, как Керри приближалась к цели своего путешествия, горизонт светлел. Когда она поднимала глаза к вершинам гор, то ее взору представало замысловатое переплетение облаков и ледников. Наконец, небо совершенно очистилось. Вдали сверкали вершины Кайзергебирге.
Дом профессора Фрича стоял немного в стороне от деревни. Во все стороны от него открывался вид на вершины гор до самых Китцбюля и Санкт-Йохана в Тироле, вздымавшихся из затянутых туманом долин. Коричневые коровы наслаждались свежей травой между ледяными языками на склонах гор. На балконах профессора, как и по всей стране, красовались недавно высаженные неизменные герани с маленькими ярко-красными цветками.
Керри припарковала машину на площадке у дома и прошла по усыпанной гравием дорожке до выступавшего в сад крыльца. Легкий ветерок издалека доносил до нее звук колокольчиков. Могучий сосновый лес, росший на склонах гор, источал запах смолы. Керри пообещала себе, что обязательно как-нибудь повезет ребятишек на несколько дней в Скалистые горы.
Ей не пришлось нажимать на кнопку звонка. Когда Керри поднялась на последнюю ступеньку, дверь открылась. В проходе стояла грузная женщина, одетая в рабочий халат в сиреневый цветочек, и широко улыбалась. Ее пышные светлые волосы были тщательно уложены вокруг головы и так обильно спрыснуты лаком, что производили впечатление стального шлема. – Ви журналист, приходить фидеть профессор?
Английский язык женщины походил на пастбищную хижину: нагромождение едва обтесанных камней, уложенных без единой скрепы.
Керри кивнула, и женщина провела ее в дом. Внутри пахло мастикой и растворителем. Если бы каким-то пылинкам и вздумалось пристроиться на этой высоте, у них не было бы никаких шансов обосноваться здесь надолго. Керри проследовала за женщиной в гостиную, где в неверном свете все сверкало и поблескивало. Слабые лучи солнца падали сквозь маленькие окошки на полированное дерево, надраенную медь и картины, и отбрасывали желтые блики. Женщина усадила Керри на диван с многочисленными вышитыми подушками.
– Профессор быстро ходить. Я что могу потавать пить фам.
Керри недоумевала, пытаясь определить, кто эта мужеподобная дама с квадратной челюстью. Супруга профессора или его служанка? То, что она называла его «профессором», ничего не значило в германском мире, где мужья нередко величают жен «мамочкой». Керри не пришлось долго размышлять об этом. Через минуту в комнате появился сам профессор.
Фрич был то, что называется величественным старцем. С первого взгляда никто бы не догадался, что ему вот-вот стукнет девяносто. Ничего удивительного, если он провел весь свой век в этих краях. Говорят, что корсиканская колбаса пропитывается ароматом всех душистых трав, которыми питаются свиньи на острове. Точно так же нечего было и думать прожить вот так почти целый век, не вобрав в себя все самое целебное вплоть до местных пейзажей. Пышная вьющаяся шевелюра Фрича была белее снега, его нос, подбородок и надбровные дуги дыбились словно скалы. Широко открытые прямые и наивные глаза лучились тем голубоватым светом, который приобретает на глубине лед, производя парадоксальное впечатление чего-то теплого и шелковистого.
Любой, кроме Керри, нашел бы профессора весьма привлекательным. Фрич казался воплощением доброты и мудрости, этаким патриархом, которого всякий хотел бы видеть в роли своего дедушки, но Керри с молоком матери впитала инстинктивное недоверие к святошам вообще и лютеранским пасторам в частности. Оно конечно же питалось давними религиозными распрями в Центральной Европе, откуда происходила ее семья. Облик Фрича сразу заставил Керри насторожиться. – Вы приехали из Нью-Йорка, мадам. Приветствую вас в наших краях. Для меня большая честь, что вы проделали такой путь, чтобы меня повидать.
Судя по его биографии, выуженной из интернета, Фрич три года профессорствовал в университете Чарльстона. Отсюда и его тягучий акцент, когда он говорил по-английски. Немецкая дикция добавляла к его речи монотонность, которой часто отличаются протестантские пасторы, покуда не заговорят о грехе.
– Если вы не против, удобнее поговорить в моем кабинете Хильда, ты слышала? Мы идем в мой кабинет. Я еще не представил вам моего ангела-хранителя. Хильда необыкновенно преданно заботится обо мне вот уже два года. Ей хватает доброты не позволять мне делать чересчур много глупостей.
Рабочий кабинет Фрича располагался на том же этаже. Он был залит светом, струившимся из больших окон, выходящих на альпийские пастбища. После сумрака гостиной казалось, что они вышли на улицу. Все стены комнаты были уставлены книгами. На большом столе в центре лежали многочисленные папки, тщательно разобранные на стопки.
– Теперь я больше не пишу так много, но стараюсь читать и классифицировать, – сказал Фрич, словно извиняясь за неблаговидный поступок.
Керри села в обитое голубым бархатом кресло, а Фрич за свой письменный стол.
– Слушаю вас, мадам. О чем бы вы хотели поговорить со мной?
Керри избегала встречаться с ним взглядом. Этому научила ее мать: не глядеть в глаза всяких святош, чтобы не попасть под власть их лицемерной чистоты.
– О вас, профессор. Я пишу работу о крупных мыслителях в области экологии и просто не могла не встретиться с вами… Я независимая журналистка и хочу предложить свою статью «Тайм Мэгэзин».
Она протянула профессору визитную карточку. Фрич взял большую лупу с ручкой из рога серны и внимательно рассмотрел визитку.
– Дебора Карнеги. Очень приятно.
Он положил визитку на стол и прикрыл ее лупой.
– Мне казалось, что я уже мало кого интересую в Штатах. Когда-то мои работы считались новаторскими, это правда. Но теперь в этой области Америка впереди всех.
– Ваше влияние как философа чувствуется у большинства известных сегодня экологов. Кроме того, многие из них были вашими учениками.
– Это верно! – воскликнул Фрич.
У него была прелестная простодушная манера реагировать на слова собеседника. Несмотря на изрядный опыт, его отношение к миру казалось окрашенным доброжелательным удивлением, почтительным любопытством и вечным восхищением перед бесконечными поворотами судеб.
– Знаете, чем я больше всего сейчас горжусь? Семинарами, которые проводил, всей этой молодежью, приезжавшей издалека, чтобы поработать со мной и послушать мои советы.
– Как раз это меня и интересует, – поддакнула Керри. – Ваши труды известны мне по публикациям. Я бы хотела услышать воспоминания о вашей преподавательской деятельности и о том, как она менялась со временем.
– О, ничто не доставит мне большего удовольствия!
Можно подумать, Керри преподнесла ему подарок на Рождество. Старческая простота Фрича великолепно сочеталась в нем с младенческой наивностью.
– Когда вы стали вести семинары?
– Сразу после того, как оставил университет Вены, в 1959 году.
– Вы покинули его… по собственному желанию?
– И да, и нет. Там создалась удушливая атмосфера. Не надо забывать, что Австрия была оккупирована союзными войсками до середины пятидесятых. Университет находился под постоянным наблюдением. Немало предметов оказалось тогда под запретом. Я хотел рассуждать о природе, но это считалось в ту пору нацистской темой. Меня вечно попрекали гитлеровским законом об охране зверей…
– Но вы же держались тогда левых взглядов…
– И это меня не спасло, потому что другие, напротив, подозревали меня в симпатиях к коммунистам… Нет, знаете, о том времени лучше и не говорить. Для свободного мыслителя – сущий ад.
Фрич помотал головой, словно стряхивая с себя последние капли грязи. Потом снова блаженно улыбнулся:
– Наконец я сказал себе: сохрани лишь тех, кто умеет слушать. И объявил семинар прямо здесь.
– В этом доме?
– Нет, в старом. Он был попросторнее и поближе к Зальцбургу. В нем имелся большой зал для охотничьих обедов. Именно там мы и собирались.
Старик резво встал и снял со стены фотографию, запечатлевшую старинный дом:
– Вот где это было.
Он с умилением смотрел на снимок.
– С тех пор, как в 1925 году мать подарила мне первый «кодак», я все время снимаю. В моем возрасте это заменяет воспоминания.
– Какие темы вы обсуждали на семинарах?
– Я отталкивался от размышлений о философии науки. Меня как-то поразило одно открытие палеонтологов. В то время они сумели выделить в истории Земли пять периодов регресса животных видов, названные пятью вымираниями. Самый известный – это эпоха, в которую вымерли динозавры. Те же самые ученые пришли к пониманию того – я говорю о середине пятидесятых годов, – что мы входим в шестой период, когда исчезают многочисленные виды растений и животных. Принципиальная разница между ним и всеми предшествующими заключается в том, что тогда всему причиной стали природные феномены, а теперь – род человеческий. Этот вид – наш вид – губит все остальные. Это стало темой моего первого семинара: шесть эпох вымирания. Звучало на манер программ председателя Мао!
Фрич говорил с расстановкой, давая собеседнику время усвоить каждую фразу и каждую мысль.
Керри был хорошо знаком этот упорный, настойчивый и весьма эффективный способ шаг за шагом вдалбливать в головы аудитории свои аргументы. Таким логически выверенным рассуждениям нелегко противостоять, даже если знаешь, что они ведут к ложным выводам. Не чувствуя сродства с немецкой философией и тяжеловесной марксистской риторикой, в семье Керри гораздо больше ценили ироничную игру ума на манер Вольтера или Дидро. Керри и сама познакомилась с их трудами в атмосфере интеллектуальной свободы американских кампусов. Юмор, находчивость и интуиция стали для нее оружием против толстокожей грубости коммунистического мира, из которого она вела род.
– Сегодня, – продолжал профессор, – эти идеи у всех на слуху, но тогда я шел против течения. Размышлять о шестом вымирании значило идти прямиком к критике индивидуализма и данной человеку свободы разрушать мир вокруг себя. Вот немного двусмысленный вывод, который я сформулировал в моей первой книге: «Конечно, декларация прав человека 1789 года освобождает его от произвола и абсолютной власти. Но в то же время она вручает ему абсолютную власть и право творить произвол по отношению ко всем другим существам и природе в целом».
– Именно тогда вы подняли на щит Спинозу в противовес Декарту…
– Декарт, этот гнусный апостол разума! Он видит в животном простой механизм и не приемлет границ разгула человеческого разума… Он и есть главный виновник, я бы даже сказал – главный преступник!
Мимика Фрича была весьма выразительна. Когда он произносил имя Декарта, его лицо вопияло: «Сатана!» Он возвышал голос и начинал говорить быстрее:
– Спиноза, напротив, это гармония Целого, идея вездесущности Бога, наполненности им каждого существа, каждой вещи во всем мироздании. Это призыв к человеку знать свое место.
– У нас было много учеников в самом начале?
– Очень мало. Лишь несколько самых преданных остались со мной после ухода из университета. Потом я стал публиковать отчеты о моих семинарах. Не в Австрии, ясное дело. Забавно, но Соединенные Штаты оказались самой открытой страной, хотя я в своих работах критиковал капитализм. Я уехал туда на три года. В Южную Каролину. Прелестный штат, пострадавший от Гражданской войны и маловосприимчивый к идеям, насаждаемым янки, помешанными на производительности труда. Когда я вернулся в Австрию, мои мысли стали пользоваться огромной популярностью. Я получал по пятьдесят прошений о записи на семинары в год, но никогда не брал больше двадцати студентов.
– Я нашла имена некоторых из них, работая над статьей, – сказала Керри, роясь в своих записях. – Хочу повидать их и попросить поделиться воспоминаниями.
Она сделала вид, что наконец обнаружила нужный листок.
– Та еще работенка. Они ведь сейчас живут по всему свету. Вот, глядите, на той неделе я должна ехать в Польшу – нельзя упускать такую возможность, раз уж я в Центральной Европе.
– В Польшу? Как раз оттуда у меня было немного учеников.
– Ро-гуль-ски, – старательно выговорила Керри. – Вам что-нибудь говорит это имя?
– Павел Рогульский, конечно. Незаурядный и храбрый мальчик. Один из немногих, приехавших из коммунистических стран. В 67-м это было непросто. Вы знаете, что с ним сейчас?
– Он стал известным профессором биологии.
– Да? Меня это не удивляет. Немного замкнутый человек, но светлый ум. В том году собралась на редкость хорошая группа.
Фрич встал и направился к стоявшему у дальней стены шкафу. Он открыл резную дверцу, за которой обнаружились вертикальные перегородки и отделения для хранения бумаг. Из одного из них он вытащил большую черно-белую фотографию и прищурился, чтобы разобрать стоящую внизу дату.
– Ну вот, как раз шестьдесят седьмой год. Видите, порядок в делах бывает полезен.
Он протянул Керри прямоугольный снимок формата 21 на 29,7 и встал рядом с ее креслом.
– Вот он, Рогульский, с сигаретой в руке. Как всегда.
Фотография была сделана на фоне большого каменного дома, украшенного неизбежными геранями. Стояла осень, и на разросшихся растениях виднелись полуувядшие цветки. Человек двадцать молодых людей выстроились в два ряда. Стоявшие на первом плане преклонили одно колено. Чтобы сделать снимок, Фрич, должно быть, включил замедлитель. Он оказался на своем месте чуть позже, чем надо, и одна рука у него вышла смазанной.
– Настоящий космополитизм, не правда ли?
Среди учеников оказался один азиат и два смуглых юноши с индейскими лицами. Черты лица белых молодых людей выдавали в них испанцев, англичан, французов и американцев.
– Откуда они все приехали?
– Это еще что, – сказал Фрич, словно не слыша вопроса, – бывали и еще более смешанные группы.
Он взял у Керри снимок, и та заметила сзади написанные имена. Она не успела их прочитать, потому что профессор уже направлялся к шкафу.
– Не могли бы вы… одолжить мне снимок, чтобы я сняла копию. Он прекрасно подошел бы для моей статьи.
Старик сделал вид, будто ничего не слышал. Он поставил фото на свое место, закрыл дверцу и сел на свое место.
– Мадам, я никогда не отступал от одного принципа. Именно поэтому мое собрание и сохранилось. Я никому не даю своих снимков, а в доме нет копировального аппарата. Вам бы пришлось взять его с собой, а потом отсылать мне обратно. Этого, простите меня, я не могу допустить.
Тесто, из которого был слеплен Фрич, крепкий, как горы вокруг, было круто замешено на истинном смысле слов «всегда» и «никогда». Керри не стала настаивать, но выглядела разочарованной.
– Не расстраивайтесь, – сказал Фрич, похлопывая ее по руке. – Мне будет очень приятно сделать для вас копию у меня тут маленькая лаборатория в гараже, и это не займет много времени. На следующей неделе я вам его отправлю. Так на чем мы остановились?
– На программе ваших семинаров. Вы отправились в Америку.
– Нуда! Я возвратился в шестьдесят шестом и на следующий год продолжил вести семинар. Группа, которую я показал, была первой после перерыва. Я еще и поэтому ее так хорошо запомнил. Как раз тогда я обновил программу. У меня родились новые мысли, я был ими захвачен, и студенты это чувствовали. У них складывалось впечатление, что они в каком-то смысле открывают нечто новое вместе со мной. Так это и было, по сути. Они подталкивали меня вперед и заставляли дерзать.
Хильда, все в той же каске, вошла в комнату и принесла напитки, которых Керри не просила.
– В Соединенных Штатах я познакомился с великим философом Гербертом Маркузе, и он оказал на меня большое влияние. Априори мы были противниками: он ратовал за полное освобождение человека, а я не прекращал обличать издержки индивидуализма. Нас объединяла только одна идея: протест против индустриального капиталистического общества. Но больше всего меня поразил отклик, который его мысль вызывала у молодежи. Не важно, о чем он говорил, Маркузе всегда мыслил ради действия. Его философские взгляды выстраивались в целую программу, даже если он сам не хотел ее формулировать. Когда я вернулся домой, то постарался выйти за пределы голословных утверждений и предложить решение наболевших вопросов.
По ходу разговора Керри делала какие-то пометки, но внимание ее было настолько занято наблюдением за окружающим и попытками наметить ход всей операции, что записывать рассуждения профессора слово в слово она была не в состоянии. Она полагалась на свой крохотный диктофон и надеялась, что он ее не подведет.
– В тот год я избрал темой семинара демографию. Я убедился, что здесь самый стержень взаимосвязи человека с природой. Сам по себе человек не представляет угрозы для экологии: жили ведь дикари в равновесии с природой, и она доставляла им все необходимое. Однако ключ от этого равновесия в численности. Чтобы иметь все в изобилии, число людей в этих племенах должно быть ограниченным и стабильным. Отсюда все ритуалы, призванные избавить людей от излишнего населения: человеческие жертвоприношения, кастрация врагов, ритуальный каннибализм, насильственное безбрачие для части соплеменников. Когда это равновесие нарушилось, человек стал размножаться бесконтрольно и сделался убийцей природы. Он не переставая требует от нее больше, чем она в состоянии дать. Изобилие ушло в прошлое, и человеку стало всего не хватать. Чтобы жить дальше, ему пришлось заняться сельским хозяйством и ремеслом, начать вырубать леса. Я огрубляю, конечно, но вы же и сами все это знаете.
Керри сидела как прилежная студентка, но, вспомнив, что она все-таки журналистка, решила подтолкнуть Фрича.
– Все, что вы говорите, профессор, это по-прежнему констатация фактов. Но ведь вы имели в виду действие…
– Именно так! Весь мой семинар посвящался поиску ответа на один-единственный прагматический и программный вопрос. Как уменьшить давление человеческих существ на природу?
Фрич сделал изрядный глоток какого-то напитка, который, судя по его отчаянно красному цвету, мог быть лишь сиропом из клубники или гренадина. Потом он вынул из кармана платок и тщательно протер губы.
– Студенты страстно увлеклись этой проблемой. Мы вели поразительный интеллектуальный диалог. Можно было подумать, что мы в одной из философских школ античности…
При этом воспоминании профессор едва не всхлипнул на манер всех стариков, давших волю эмоциям.
– Оттого-то мы и смогли продвинуться так далеко в поисках решений. Они оказались поистине революционными.
– В каких трудах вы изложили все эти мысли?
– Нет! – воскликнул Фрич. – Эти работы я никогда не публиковал! К счастью! Стоит только вспомнить атмосферу конца шестидесятых. Экологические науки еще барахтались в пеленках. Если бы я стал отстаивать такие радикальные мысли, то быстро превратился бы в маргинала.
– Но в чем же заключалась революционность ваших работ? Где-то в комнате на свет вылезла кукушка и хриплым голосом прокукарекала десять раз.
– Подумайте, я ведь вам даже не показал дом! – воскликнул Фрич.
– Право, не стоит. В этой комнате так хорошо.
– Нет, нет, пойдемте. Мы можем поговорить на ходу.
С этими словами он встал.
Появившаяся в дверях Хильда подала ему пальто и фетровую шляпу. Керри поняла, что вежливость вежливостью, но изменять своим привычкам профессор не собирался. Каждое утро в десять часов он выходил на прогулку, и ничто не могло этому помешать. Под поверхностью ровного дружелюбия Фрича скрывались рифы эгоизма, опасные для всякого, кто подходил слишком близко.
– Это дом моих родителей. Я и на свет появился здесь, четвертым из шестерых детей, – рассказывал он, проходя по гостиной и направляясь через террасу в небольшой садик. – С возрастом, знаете, учишься подводить итоги. Вышло так, что, кроме трех лет в Штатах и нескольких поездок за рубеж, я всю жизнь провел в здешних краях, в этом и в другом доме.
Вся жизнь на одном месте, где кукушка отмеряет время, а коровы служат единственным развлечением, подумала Керри. И это вовсе не мешает ему отстаивать свое видение целого мира. Но, может быть, таков удел всех философов, по крайней мере большинства из них. Кант ведь тоже никогда не покидал родного города…
Фрич продемонстрировал Керри теплицу, где с гордостью похвалился своими фуксиями и лимонными деревцами. Потом пришла очередь кроликов, индюшек и ручных гусей, которых он, по-видимому, обожал. С большим трудом Керри удалось вернуть разговор в прежнее русло.
– Вы так и не рассказали мне об идеях, родившихся у вас в шестьдесят седьмом. Ну, тех, которые грозили превратить вас в маргинала.
Они стояли на птичьем дворе. Фрич вытянул руки вперед и дал двум гусям пощипать свои пальцы. Лицо его озарило вдохновение, а глаза посветлели.
– Да, это случилось именно здесь. Я приехал сюда повидать родителей. Тогда-то мне и пришла в голову эта мысль. Тема захватила меня целиком, понимаете?
– Какая тема? Демография?
– Да, размышления о гибели, которую мы, люди, несем породившей нас природе. Я вспомнил о собственной матери и вспоминаю ее всегда, когда думаю о природе. Как же иначе, они нас вынашивают, нас кормят. Мать-природа!
Гуси крутились вокруг Керри в надежде, что им удастся поиграть и с ее пальцами, но она с трудом выносила всякую живность и едва сдерживалась, чтобы не дать им пинка в жирные гузки. К счастью, Фрич, поглощенный своими мыслями, этого не замечал.
– Мне явился образ двух неблагодарных сыновей, доводящих своими капризами бедную мать до разорения. Ведь мы так же поступаем с природой, не правда ли? Но вот, представьте, что один из сыновей использовал достояние матери, чтобы зажить своей жизнью, стать богатым и независимым. Другой же так и остался капризным и жалким паразитом. Так кто же из них приносит меньше горя своей матери? Богатый. По крайней мере, когда-нибудь он уйдет и в свою очередь сможет помочь ей, а нищий всегда останется на ее иждивении.
Керри не знала, что ее больше раздражает: гусиный помет под ногами или все эти сентенции.
– Простите, профессор, но я что-то озябла. Может быть, нам вернуться? Вы сможете тогда разъяснить мне смысл вашей метафоры. Бедный сын, богатый сын, не совсем понимаю…
– Как! Вы не понимаете? – воскликнул профессор, с сожалением прикрывая калитку, ведущую в птичник. – Богатый сын – это развитый мир, промышленная цивилизация. Бедный сын – это страны третьего мира.
Они подошли к небольшой застекленной двери с тыльной стороны дома и почистили обувь на коврике в форме ежика. Потом они пересекли весь дом и снова устроились на своих местах в кабинете.
– В тот день я поступил точно так же: бросился к столу и записал свои мысли. Я назвал свою идею апорией развития.
– Апорией?
– Это философский термин, обозначающий проблему, которая не имеет решения, непреодолимое противоречие. Вот что такое апория развития: промышленная цивилизация, спору нет, губит природу, но, с другой стороны, она предлагает решение проблем, которые сама же и порождает. Все развитые страны, к примеру, имеют нулевой или отрицательный показатель прироста населения. Напротив, в отсталых странах, у, так сказать, бедного брата, численность населения постоянно растет. И разбухание этого муравейника, не сопровождаемого никаким развитием технологий, имеет драматические последствия: масштабная вырубка лесов, расширение территории пустынь и бесконтрольный рост мегаполисов. Так вот, когда размножение человечества вышло на этот уровень, не стало больше никакого решения проблемы. Стимулирование промышленного развития этих стран обернулось бы катастрофой. Посмотрите, что происходит в Китае с тех пор, как он встал на этот путь. Только представьте себе, что будет, если все китайцы, все индусы и все африканцы станут потреблять столько же, да что там, всего лишь половину того, что потребляет американец!
– И какие же выводы вы делаете?
– Именно это вызвало бурю эмоций и ожесточенные споры на моем семинаре. Если довести эту логику до конца, экология должна озаботиться бедным сыном, а не богатым.
В голове Керри начали складываться фрагменты головоломки. Это была самая суть логики «новых хищников» – неотесанная мысль Хэрроу, приправленная изощренным философствованием Фрича.
– Что вы имеете в виду, говоря «озаботиться»?
– Просто-напросто то, что экология не должна тратить силы на борьбу против индустриального общества, даже если его есть в чем упрекнуть. Да, оно достойно порицания, но ведь это всего лишь малая часть населения Земли и ее территории. Эта цивилизация постоянно увеличивает коэффициент полезного действия промышленности, борется с загрязнением среды, разрабатывает новые технологии замкнутых циклов производства. Большая его часть действует ныне в виртуальном пространстве, что практически никак не влияет на состояние среды обитания. При условии, что она не распространится на другие культуры, наша модель развития может быть признана наименьшим злом. Напротив, смертельная опасность исходит от бедных стран. Какие бы технологии они ни использовали – обычные или самые примитивные, – на них лежит основная вина за выброс токсичных газов. Перенаселенные страны с ранними формами цивилизации уничтожают последние нетронутые территории на Земле. Они истребляют диких животных, иссушают реки, торгуют охраняемыми видами фауны, вырубают ценнейшие леса, загрязняют сотни тысяч километров побережий. Их устаревшие дизели каждый год выбрасывают в воздух столько угольной пыли, сколько весят они сами.
В двери показался гренадерский силуэт Хильды, обменявшейся с профессором каким-то знаком.
– Вы останетесь на обед? Сегодня среда, будут канедерли с сыром. Типичное южнотирольское блюдо.
– Мне не хотелось бы вас беспокоить, – ответила Керри.
Ничто не могло так обеспокоить профессора, как перспектива пропустить время обеда. Он утвердительно кивнул Хильде.
– Ну да, – сказал он, снисходительно улыбаясь. – Вот чем я дышал тогда вместе с моей студенческой братией. Мы пришли к заключению, что важнее всего помешать расползанию по миру индустриальной цивилизации. Все парадигмы развития были поставлены под сомнение. Стремление направить страны третьего мира по пути промышленно развитых стран можно оправдать с человеческой точки зрения, но с позиции защиты окружающей среды это стало бы самоубийством.
Серая кошка, которую Керри раньше не замечала, стала тереться о ноги профессора. В доме царила такая тишина, что был отчетливо слышен звук поглаживания шелковистой шерстки о жесткую ткань брюк.
– Главное – утверждали мы в то время, – взять под контроль рост населения бедных стран.
– Взять под контроль… Но как?
– О, об этом мы яростно спорили, можете мне поверить. Некоторые из ребят были очень подкованы в этом вопросе и предлагали весьма радикальные меры. Они полагали, что надо любой ценой сохранить традиционную социальную структуру стран третьего мира со всеми ее обычаями, племенными вождями, малопроизводительной экономикой и так далее. Им казалось преступным осуществление медицинских программ, которые снижают смертность при постоянном уровне рождаемости и тем самым запускают механизмы демографического роста. По их мнению, не стоило ввязываться в бесчисленные локальные конфликты, противостоять пандемиям и кризисам мальтузианского толка, которые возникают из-за несоответствия численности населения продовольственным ресурсам. Короче, там, где рационализм еще не сокрушил традицию, люди должны быть чуть менее людьми и чуть более биологическим видом с собственными формами поддержания равновесия, своими рисками и хищниками. В шестидесятых годах такой подход еще можно было реализовать. Третий мир тогда не утратил связи со своими корнями, и эту связь следовало закрепить.








