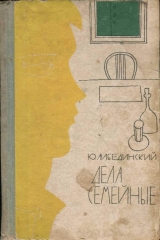
Текст книги "Дела семейные"
Автор книги: Юрий Либединский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
7
Если бы можно было, Леня приходил бы к Вике каждый день и совсем не уходил от нее. Но Вика не любила, чтобы он засиживался у нее подолгу, и, когда он заходил к ней, она обычно уже ждала его, готовая к прогулке, в каком-нибудь нарядном платьице, красиво причесанная. Они шли на танцплощадку или в кино. Леня чувствовал, что Вика показывает его своим подругам, и ничего не имел против этого и против того, что они явно завидовали ей. Ему все это нравилось. Совместные прогулки и частые встречи все больше сближали Леню с подругами Вики. Иногда они, зайдя к Вике домой, заставали там Леню, конфузились.
– Да это свой, он к нам в бригаду приходил еще зимой, помнишь? – говорила Вика.
И Леня с интересом, который был у него вообще ко всем Викиным делам, слушал их разговоры и с гордостью замечал, как она толково расспрашивает и вникает в суть вопроса и как дельны ее советы.
«Я бы так не мог!» – думал он.
К счастью для Лени, началась дождливая погода, прогулки стали невозможны. Теперь, когда он приходил к Курбановским, его усаживали в старенькое проваленное кресло, на которое из-за вылезших пружин садиться можно было только боком, угощали жидким чаем с повидлом. Возможно, что, если бы он попросил чаю покрепче, Евдокия Яковлевна, мать Вики, и налила бы ему, но он не просил, а здесь не придавали никакого значения крепости чая, и он пил этот жидкий чай по нескольку чашек, хотя ни за что не стал бы его пить дома, мазал на хлеб темное сладко-паточное повидло, и этот продукт, который у них дома за столом даже и не появлялся, здесь казался ему очень вкусным. Ему здесь все нравилось. И то, что окошки маленькие, и мебель вся скрипучая, и даже то, что пахло каким-то бродильным запахом, так как дом был старенький и, наверное, весь прогнивший.
Евдокия Яковлевна почти неотлучно находилась в комнате. С самого начала она взяла с Леонидом такой тон, как будто бы они вдвоем знают что-то очень важное про Вику, настолько хорошо знают, что им нет нужды об этом разговаривать. Иногда, оставшись наедине с ним, она заговорщически рассказывала Лене новости, касающиеся дочери:
– Викторию сегодня в приказе отметили... За прошлый месяц премию выдали.
– Покутим! – говорил Леня и приносил бутылку сладкого вина или пирожных.
Усадив Леонида в кресло, Вика давала ему газету и говорила:
– Давай, читай... – и начинала что-нибудь шить или кроить на столе.
Леонид понимал: Вика просила его об этом, так как ее смущало, что он не спускает с нее глаз. Бывало, он и во время чтения отрывался от газеты и переводил на нее взгляд.
– Ну читай, читай, – шепотом говорила она и краснела.
Она ему нравилась. Но он еще смотрел на нее и потому, что хотел понять, чем это она так мила ему? Он помнил, что первое время, еще в мастерской, черты ее лица казались ему резковаты и кожа на лице была какая-то неровная. Сейчас все это не имело никакого значения. Что-то неизъяснимо прелестное и нужное ему было в выражении ее лица, в движении губ, в быстром взгляде, в том, как споро работали ее ловкие руки.
Один раз Вика распорола какое-то свое платье, – оказалось, оно состояло из множества маленьких кусочков. Все эти кусочки были проглажены утюгом, разложены на столе, потом из какого-то другого куска вырезаны были еще какие-то кусочки, одни вынуты, другие вставлены взамен, потом все это отстрочено на машинке, и получилось новое платье.
– Ну, что ты скажешь? – спросила она, поворачиваясь перед ним.
– У нас, конструкторов, это называется модернизация, – сказал он. И когда он объяснил ей, что значит это слово, она довольно кивнула головой.
– Это подходящее дело, – сказала Вика задумчиво. – А теперь идем гулять!
И он шел, но не очень охотно. Он больше любил сидеть здесь, читать газету, иногда вслух высказывать свои мысли. И мать и дочь – обе выслушивали его внимательно и с уважением. Родная мать и сестра никогда бы не стали его слушать. А какой интерес говорить это отцу, когда он все лучше его понимает?
Леониду все время хотелось обнять и поцеловать Вику, но, оставаясь с ней наедине, он робел, хотя до знакомства с ней совсем не был робок с девушками.
Один раз, увидев, как Леня входит в сад Курбановских, сосед их, служивший бухгалтером на том же заводе, где работала Вика, рукой поманил к себе Леонида. От него вкусно пахло водкой.
– Слышь, молодой человек, что я вам скажу! – произнес он. – Вот я гляжу, вы ходите, ходите, значит, что называется, крепко приморозило. Да вы не краснейте и не думайте, что я нахальничаю и лезу не спросясь в ваши дела... Но мне это понятно, сам молодой был, до времени тоже туда-сюда совался, а потом, как припекло-приморозило, женился, и вот, слава богу, уже у нас шестой в этом году в школу пошел... И чего вам, извините за выражение, вола за хвост вертеть, женитесь – и все! Я вам говорю: Виктория – это золотая девка! Она вот такая к нам в мастерские пришла, еще ящик ей подставляли во время работы, потому что до станка не доросла, а уже тогда определилась как передовик производства. Я вам говорю, молодой человек, с такой девкой вы не пропадете, хотя вы и инженер-конструктор...
– Да разве я против? – покраснев и беспокойно оглядываясь, ответил Леня. – Я совсем не против.
– Эх, дело ваше молодое! Ты думаешь, тут что мудреное, а дело простей, чем орех расколоть.
Леня еле освободился от наянливого старика. Но мысль о том, что старик прав и его, Лени, поведение со стороны может показаться некрасивым, теперь уже не оставляла юношу. Может, и Евдокия Яковлевна думает так, как этот старик Кузьмичев? Наверное, как давние соседи, они о нем говорят, иначе откуда знать Кузьмичеву, что Леня инженер-конструктор? И однажды, во время прогулки, он, набравшись смелости и смущенно посмеиваясь, рассказал Вике о разговоре с Кузьмичевым.
– И что за охота в чужие дела лезть?! – сказала она с неудовольствием. – Вот я ему скажу...
– Нет, я умоляю тебя, ведь он хороший человек, он все это правильно говорит, я с ним согласен!
Она вдруг повернулась к Леониду.
– Так ты, значит, решил на мне жениться? – Вика покраснела до корней волос, но продолжала прямо и смело глядеть ему в лицо. Он схватил ее за руку.
– Да, – сказал он хрипло. – Я хочу, чтобы мы всегда были вместе, всю жизнь... – Рука ее вяло и безжизненно лежала в руке Леонида, потом она осторожно отняла ее. – Что же ты молчишь? – прошептал он.
– Не ладно все это, – сказала она. – Ведь я же говорила тебе, что у меня с отцом...
– Какое это имеет отношение? – спросил он.
– Имеет, – твердо ответила она. – Иди, давай... – она отвернулась и тут же сама быстро ушла.
До следующей встречи Леонид думал и гадал, что все это должно означать, и пришел к ней взволнованный. Но Вика встретила его как всегда и только пораньше кончила все свои дела по дому...
– Пойдем погуляем... – сказала она.
К станции пошли они не по линии железной дороги, как всегда, а через лесок. И едва они оказались в лесной, по-летнему насыщенной запахами темноте, Вика обняла Леню за плечи. Он обернулся к ней и увидел совсем близко лицо ее с закрытыми глазами. И, забыв обо всем, припал к ее губам.
Так он вступил в мир, в котором ему все было внове. Он давно уже знал, что любит ее. Тут он услышал ее бессвязные и жаркие уверения, которые она твердила ему на ухо, и шепот ее сливался с какой-то далекой музыкой, – это была все та же труба, которая гудела над танцплощадкой при их недавней и такой уже далекой встрече... Но сюда звуки ее доносились приглушенно, и Лене казалось, что лучше музыки он не слышал. И, слушая эту музыку, он задремал, – ему казалось, не более как на секунду. Но когда он открыл глаза, сквозь узоры веток стало ясно проступать небо, и густая тишина стояла вокруг, и он понял, что ночь уже проходит... Он взглянул на Вику. Она полусидела, прислонив голову к дереву, глаза ее были открыты, она держала его руку в своей. Приподнявшись, он поцеловал эти ее думающие глаза, непонятное выражение которых всегда внушало ему робость, и, так как мысль о том, что ночь проходит и что скоро утро, привела с собой мысль о разлуке, он сказал ей:
– Мы с тобой никогда не расстанемся, верно? Мы поженимся, да?
Вика некоторое время с какой-то внимательной нежностью глядела на него.
– Зачем это тебе? – спросила она, взяв его руку своими сильными руками. – Ведь я тебя и так люблю, братец ты мой маленький...
– Но я всегда хочу быть с тобой.
Она покачала головой.
– Лучше, чем сейчас, нам не будет, – сказала она убежденно.
И он впервые подумал, что она не только старше его по годам, но и что он у нее в жизни не первый, как она у него. «Может, это плохо?» – с тревогой спросил он себя. Но ему даже думать не хотелось о том, что было у нее раньше. А она говорила:
– Когда ты прошлый раз сказал о женитьбе, я вдруг поняла, что я вроде мучаю тебя, принуждаю к женитьбе. А у меня даже мыслей таких не было, чтобы принуждать тебя. Ведь я про себя уже давно знаю, что люблю тебя. Вот я и решила, что это с нами будет без всякой женитьбы...
– Но я хочу всегда быть с тобой...
Она покачала головой и сказала со смешком:
– В загс, что ли, сходить нам?
– Да, в загс, обязательно в загс! – сказал он громко.
Еле заметная улыбка долго не сходила с ее губ.
– А это совсем не надо.
– Ну почему?
Она молча и неторопливо расчесывала волосы. Леонид снизу из предрассветных сумерек видел ее лицо, которое после того, что произошло и накрепко соединило их, стало еще более привлекательно-таинственным.
– Что ж, – сказала она со вздохом. – Я вижу, ты все-таки ничего не понимаешь. Нелегкий это будет сейчас для меня разговор... – снова повторила она. – Но без него, видно, не обойтись, не обойтись... – И она вдруг опустилась к нему, уткнулась ему под мышку и стала совсем маленькой и беззащитной. – Мне так хорошо, – невнятно проговорила она, словно сквозь сон. – Просто у меня сил нет говорить обо всем этом...
– Ну, и не надо, – испуганно сказал он, обнимая ее. – Ну, не надо, хорошенькая моя...
– Нет, надо, надо, – сказала она и сделала движение, чтобы подняться. Но он удержал ее. – Помнишь, ты рассказывал, что тебя должны для работы в конструкторском бюро обязательно засекретить?
– Ну, помню, – нетерпеливо ответил он. – При чем тут...
– Так что же ты, будешь так и писать в анкете и в автобиографии, что отец твоей жены арестован как враг народа по пункту такому-то, то есть за участие в контрреволюционном заговоре?
– Но ведь этого же всего не было! – сказал он с отчаянием.
– Да я лучше тебя знаю, что не было... – И вдруг слезы брызнули из ее глаз, и она закрыла лицо руками. – А писать-то ведь нужно!
Разговор этот прекращался и вновь возобновлялся. Уже раннее веселое солнце показалось среди ветвей и брызнуло сквозь ветки красновато-щекотными лучами. И какая-то смешная маленькая птица, нахохлившаяся, с коротким хвостом, стала время от времени прилетать к ним, подлетать близко и, усевшись на ветку, глядя своими черненькими блестящими глазками, – «чивит-чивит» – словно спрашивать у них о чем-то, и они, обнявшись, смеялись, глядя на нее.
Много всего было в эту ночь и в это утро: и слезы, и смех, и незабываемые слова нежности, и серьезный разговор, такой серьезный, какого ни он, ни она еще в жизни не вели.
Когда они уже встали с земли, Вика сказала ему:
– Леня, я понимаю жизнь гораздо лучше, чем ты. Нет, ты не обижайся, в этом нет обиды. Ты все равно мой муж теперь, и я так счастлива, как никогда не была. Но если мы сделаем так, как ты хочешь, и запишемся в загсе, поверь мне, из-за этого будет плохо и трудно. Приходи ко мне, бывай у нас сколько хочешь...
– Я тоже дома скажу и приведу тебя к нам! – сказал он.
Вика опять усмехнулась:
– Хочешь мамашу свою обрадовать тем, что сошелся с замасленной девкой с производства?
– А что мне до того, что они оба скажут! – упрямо ответил он.
– Нет, ты не смей так говорить, – строго сказала Вика. – Мне, конечно, нет дела до нее. Но ты даже не можешь понимать, что это значит – родные отец и мать, потому что они всегда при тебе. А я понимаю.
8
Студент архитектурного института Борис Миляев был во время Великой Отечественной войны в рядах действующей армии, получил тяжелые ранения и только в 1948 году вернулся в институт. Красивый и болезненный, заслуживший на фронте несколько орденов, простой и дружелюбный в обращении, он был встречен очень благожелательно, ему помогали в усвоении предметов, которые он позабыл за годы войны. Впрочем, учился он усердно и работал в мастерской Фивейского, который тоже благоволил к нему.
Все складывалось удачно в жизни и в работе Бориса Миляева до злополучного просмотра. Столкновение с Крылатским было само по себе большой неприятностью. Но после просмотра, по договоренности с Сомовым, Касьяненко прислал в Академию бригаду Гипрогора, состоящую из инженеров-строителей, и они подвергли уничтожающей критике все проекты, причем особенно досталось проекту Миляева.
Фивейский, на поддержку которого особенно рассчитывал Миляев, был в длительном отпуске – отдыхал и лечился. Борис мало рассчитывал на поддержку Сомова, заменявшего Фивейского, но против ожидания Сомов его поддержал.
Из-за припадка ревматизма Владимир Александрович не мог выйти на работу, а ему нужно было увидеться с Борисом Миляевым, чтобы поговорить о всех вопросах, которые встали перед ним последнее время. Он попросил молодого архитектора зайти к нему домой. Миляев с восторгом исполнил просьбу самого заместителя президента Академии градостроительства, такого почтенного и даже внушавшего ему некоторую робость.
При всей любви к русской старинной архитектуре, Миляев был вполне современный молодой человек и понимал, что Фивейский со всем своим огромным авторитетом был все же беспартийный, следовательно, направляющая линия Центрального Комитета партии осуществлялась через посредство Сомова, старого и испытанного члена партии. И то, что Сомов отнесся к нему более чем любезно, Миляев рассматривал как подарок судьбы. Предварительно узнав, что у Сомова жена красавица и молоденькая дочь, он по дороге зашел в цветочный магазин, по своему вкусу подобрал огромный букет цветов и вручил его Леле, открывшей ему дверь.
Миляев сразу узнал в этой бледной, высокого роста девушке дочь Владимира Сомова. Но то, что лицу отца придавало величественный и мужественный вид, портило дочь, – и крупный нос, и большой подбородок, и угловатость лица. «Девочка похожа на Гоголя...» – подумал Борис. Но, передавая ей букет, пошутил насчет того, что он составлял его в духе импрессиониста Руссо и, оказывается, попал прямо в точку.
– Вы знаете Руссо? – пролепетала девица с явным одобрением.
Борис прошел в кабинет к Сомову. Он знал, что Сомов всегда особенно участливо расспрашивает о здоровье, и выражение болезненной хрупкости, нервности само собой установилось на его лице. И это возымело действие.
– Что, болят старые раны? – участливо спросил Владимир Александрович. – У меня тоже, чуть намечается переход к осени, так ревматизм скрючивает... – говорил он, с некоторым затруднением поднимаясь навстречу Борису и морщась от боли в коленях.
– Это все ничего, – крепко пожимая руку и торопливо усаживая хозяина в кресло, ответил Миляев. – На фронте мы привыкли ко всякого рода телесным недугам. Но нравственные недуги...
– А что? Главный гонитель ваш Саша Крылатский от нас уходит.
– Но ведь бригада Гипрогора фактически повторяет его критику.
– Ну что вы! Это все деловые люди, и критика их лишена всякого привкуса демагогии.
– Это, конечно, так. Но критика их сводится к тому же. Попираются все требования эстетики, нужно будет поставить стандартного типа постройки и в ниточку вытянуть улицы. Но ведь Антон Георгиевич и вы, Владимир Александрович, все время твердили нам о том, что архитектура – искусство, что эстетические требования обязательны для планировки городов.
– Только не надо, Борис Андреевич, впадать в уныние, – говорил Сомов, продвигаясь к стеллажу, где кнопками был пришпилен миляевский проект города. – Я скажу вам о тех недостатках, которые прежде всего нам бросились в глаза еще при первом просмотре. Например, вы напрасно сбили весь город в кучу...
– То есть, выходит, вы согласны с Касьяненко?
– В известной степени согласен, – твердо сказал Сомов. – Ведь скученность средневековых городов и монастырей обусловлена исторической необходимостью всегда быть готовыми к обороне. А вы не бойтесь, смело растащите свой город, пробейте улицы кварталов по лесным просекам. А эту горку, которую по вашему проекту должны были застроить, оставьте неприкосновенной. И старинная церковь пусть стоит окруженная валами, как она здесь стояла несколько столетий, мы в ней музей откроем. Когда предполагается открыть музей?
– Во вторую очередь, – сказал Миляев.
– А вы проектируйте сразу и то, что в третью очередь. Знаете, как Петр Петербург проектировал? По его проектам двести лет улицы потом строились. А если уж следовать национальным традициям, возьмите за образец чудесную цветную гамму Василия Блаженного и вынесите ее за пределы церковной архитектуры. Размалюйте по этому образцу жилые кварталы города, чтобы наши дети и внуки при коммунизме добром вспомнили бы нас, радовались бы своему городу и весело жили в нем.
Когда после долгого разговора Сомов и Миляев вышли к обеду, Борис увидел, что букет его поставлен посредине стола и что среди мясисто-зеленой травы, обрамлявшей цветы, приколот миниатюрный пятнистый леопардик, – букет в таком виде как бы повторял мотив известной картины Руссо.
– У вас большое чутье стиля, Елена Владимировна, – похвалил Миляев. На бледных щеках девушки вспыхнул румянец, она даже похорошела. «Все-таки ухаживать за ней можно!» – подумал Борис.
Светло-карие, с озорной искрой глаза, что-то болезненно-нежное в цвете лица, по-юношески ломкий голос, хотя ему уже было за тридцать, умение непринужденно держаться в любом обществе – все это сразу располагало людей к Борису Миляеву, особенно когда он хотел понравиться. А ему здесь очень хотелось нравиться. Он не совсем понимал, почему Владимир Сомов, издавна известный строгостью и непримиримостью своих вкусов, так расположился к его проекту. Но Борис и не стремился это понимать, а старался по возможности полностью использовать это расположение.
По обилию магазинных закусок на столе и по безвкусному подбору их он легко догадался, что Нина Леонидовна плохая хозяйка, но все, что ни отведывал, хвалил напропалую и особенно сладкие вина, которые терпеть не мог. Нина Леонидовна все его преувеличенные похвалы принимала как должное. «Безвкусна, глупа и падка на лесть...» – подумал Миляев, и это ему понравилось. Леля щурилась, кокетничала с ним и, чтобы отстоять свою самостоятельность и не подпасть под его обаяние, пыталась подпустить ему шпильку.
– Все-таки это странно, Миляев, что вы, молодой архитектор, придерживаетесь этого стиля рюсс, ведь это же старомодно!
– Так стиль рюсс не с небес к нам упал, а из нашей же земли вырос, милая Елена Владимировна! – весело возразил Миляев. – Несомненно должно быть какое-то соответствие между нашим пейзажем и стилем древнейших каменных кремлей, церквей, монастырей...
– Послушать вас, так всякий прогресс остановится... Я, конечно, не получила специального архитектурного образования, но все время краем уха слышу разговоры папы с его коллегами и все-таки имею представление, что техника в вашей области проделывает решительные изменения. На место камня пришла сталь, даже железобетон, правда, папа? Дело идет к тому, что дома будут, как в детских конструкторах, собирать из заранее отштампованных частей, изготовленных на заводах. Папа, я не завралась?
– Нет, Лелька, вали давай! – смеясь, сказал Владимир Александрович.
– Но дело ведь не в процессе производства, который, и особенно в наши дни, все время совершенствуется, и не в том, что отдельные части дома будут штамповать на заводах, а в том, по какому рисунку будут штамповать... – сказал Миляев. Он говорил теперь серьезно и с волнением и больше обращался к отцу, чем к дочери.
– То есть будете из железобетона штамповать церковные купола? – И Леля звонко расхохоталась. – Папа, ну скажи, разве это не ересь, то, что он говорит? Ну скажи, ведь материал требует...
– Я лучше послушаю, что скажет Борис Андреевич, – ответил Сомов.
– Материал, Елена Владимировна, ничего не требует, – несколько учительно говорил Миляев. – Революция в строительном деле, конечно, не такого масштаба, как сейчас, но происходила. Достаточно напомнить о переходе от дерева к камню, который произошел в северо-русской архитектуре. Для того времени это была революция не менее значительная, чем та, которую сейчас переживаем мы. И вот представьте себе, что при этом переходе старинные мастера постарались сохранить архитектурные формы, найденные в период так называемый деревянный.
– Ну, это консерватизм, слепая инерция... – не совсем уверенно ответила Леля, и Владимир Александрович отметил эту неуверенность, – видно было, что факты из истории русской архитектуры, которыми свободно оперирует Миляев, ей неизвестны.
– Я думаю, что наших предшественников в архитектуре и градостроительстве слепыми назвать никак нельзя. Наоборот, они были весьма зрячие, и, хотя и не чуждались иностранного опыта, могу вам напомнить, что в строительстве наших храмов искони принимали участие византийцы, итальянцы, а в древности и армяне; их влияние чрезвычайно отразилось на архитектурных формах. Наоборот, иностранцы нередко подчинялись обаянию нашей природы... – громко говорил Миляев, и Леля, умолкнув, во все глаза глядела на его разгоревшееся лицо. А он говорил, словно забывшись: – Все, что для вас архаика и древность, для меня мое детство, ведь я на клиросе пел. И когда мне поручили проектировать этот лесной, бумажно-целлюлозно-животноводческий город, я как приехал на место да как увидел сохранившийся там поразительный храм... Ну, тут и пошло лепиться одно к одному... – Словно опомнившись, он вздрогнул, взглянул на Владимира Александровича и добавил: – Конечно, если бы не сегодняшний разговор с Владимиром Александровичем, я бы пал духом. Но Владимир Александрович сегодня подсказал мне, что не нужно слепо копировать старорусские архитектурные ансамбли, он вывел меня на широкий простор советской Руси, он подсказал мне площади и проспекты, мосты через каналы, напомнил мне о волшебной расцветке Василия Блаженного...
– Да ну, ну что вы, Борис Андреевич! – смущенно отмахивался Владимир Александрович. – Ей-богу, вы преувеличиваете... А насчет советов, так у меня должность такая, я за это жалование получаю.
– Нет, нет, не говорите, дорогой Владимир Александрович! Хотя скромность и приличествует большевику, но о вашей роли в градостроительстве мы все, молодые архитекторы, никогда не забудем.
– Ей-богу, Борис Андреевич, если вы не прекратите, я всерьез рассержусь! – прервал его Сомов, и глаза его сверкнули.
«Кажется, и вправду переборщил?» – подумал Миляев и положил ладонь на свой свежий, под темными усиками рот.
– За здоровье папы! – сказала Леля.
– Я только одно хочу сказать, – опять заговорил Миляев, чокаясь с ней. – Только одно: что Владимир Александрович первый указал мне на то, что использование национальных форм придаст строительству наших городов великолепное разнообразие.
Владимир Александрович покачал головой и сказал:
– Вот если бы вы, когда сдавали зачеты по ленинизму, усвоили бы по-настоящему учение Сталина о социалистическом содержании и национальной форме нашей культуры, тогда бы знали, за чье здоровье поднять этот бокал...
Миляев тут же с поднятым бокалом вскочил с места:
– Товарищ Сталин! Великий учитель! Гениальный полководец! Вы правы, Владимир Александрович, тысячу раз правы! Когда я был ранен и думал, что пришел каюк, последняя моя мысль устремилась к нему и я...
– За здоровье товарища Сталина! – перебил его Сомов и этим остановил поток излияний, которые, при всей их искренности, казались ему чрезмерными.
Леля предложила выпить за процветание истинного новаторства в архитектуре.
– Кого вы имеете в виду?
– Ну хотя бы Корбюзье...
– Что вы, Елена Владимировна! – живо возразил Миляев. – Ну согласитесь, что его когда-то новаторский стиль двадцатых годов сейчас стал старомоден...
– А вы предпочитаете наш советский ампир? Колонны как обязательный гарнир к каждому жилому дому, к гостинице, к театру и даже к гастрономическому магазину? – злорадно спрашивала Леля. Во рту у нее от вина было приторно-сладко, сердце билось с силой, ярко-золотистые глаза (как у кошки, – подумала она) этого привлекательного и все же внушающего опасение человека скользили по ее голым плечам и рукам, и ей было стыдно и приятно. «Не одевать же мне посредине лета платье с длинными рукавами?» – говорила она себе, чувствуя необходимость оправдаться и понимая, что вступает в какой-то странный и душный мир, куда, как в воронку, втекала ее словно бы разжижившаяся и теряющая обычную способность к насмешке душа.
– Он очень симпатичен, этот Миляев, – говорила Нина Леонидовна, после того как гость ушел, – И знаешь, он, кажется, произвел впечатление на нашу Лелечку. Скажи, у него действительно большое будущее?
– Я от него многого жду, – ответил Владимир Александрович. – Но в его отношении к Леле, мне кажется, есть что-то неприятное...
– А я тебе скажу, что в нашей Леле на этот раз раскрылось то «поди сюда», – многозначительно и даже таинственно сказала Нина Леонидовна, – что должно раскрыться в каждой девушке и определить ее брак. Помнишь, Вовик, нашу весну? – сказала она и опустилась к нему на колени всей своей основательной тяжестью.
– О-ох! – невольно застонал он, и она тут же вскочила.
– Бедненький мой, – сказала она. – Я совсем забыла о твоем ревматизме.
Леля не слышала этих разговоров отца и матери, и у нее не было никакой охоты думать о матримониальных планах. Но благодаря Борису ей в это лето стало вдруг весело и празднично жить. Она ходила вместе с ним в театр и на выставки, она непрерывно с ним спорила, почти ссорилась. Но это было для нее самое увлекательное в их отношениях. Она водила Бориса с собой к своим подругам, где можно было потанцевать, поболтать. Попав в общество столичной молодежи, Борис не стеснялся своей провинциальности, охотно давал себя учить самоуверенным, кичащимся своим культурным уровнем приятелям Лели, хотя нередко неожиданно ловил их на невежестве, – вдруг обнаруживалось, что им неизвестны элементарные сведения из русской истории, что они совершенные профаны в области физики и математики. Но делал он это настолько простодушно и безобидно, что ему все спускалось, и он давал понять, что не придает никакого значения своим познаниям, основательно усвоенным в средней школе и в вузе. Среди веселящихся бездельников, окружавших Лелю, его полюбили. Он и рассказать мог что-либо смешное, а то и жуткое, – ведь он прошел всю войну от Вологды, где его мобилизовали, до Берлина, где был ранен за три дня до заключения мира. Борис хорошо играл на гитаре, она оживала под его пальцами. Но всего охотнее он учился, – тем более что друзья Лели очень любили поучать. И он не стеснялся, что ему незнакомо имя какого-либо модного западноевропейского художника, и если не мог в Москве найти подлинника, то разыскивал копии...
Он легко подбирал на гитаре мотивы залетевших с запада песенок и танцев. Иногда, не очень часто, потому что Борис не хотел быть навязчивым, он провожал Лелю и заходил к Сомовым, оставался у них ужинать. Теперь для него, как это было в первый раз, не накрывали стол в комнате Нины Леонидовны, а как своего угощали на кухоньке.
Бывая у Сомовых, Борис впитывал каждое слово Владимира Александровича и потом вслух размышлял с Лелей.
– Ей-богу, я не знал, что у Гегеля есть такие золотые высказывания об архитектуре, а твой отец прямо наизусть их шпарит. Лелечка, твои все приятели, поверь мне, просто щенки в сравнении с твоим отцом, хотя он на первый взгляд и может показаться простаком...
Так как Леля испытывала потребность, вполне понятную всякому, кто переживал такие чувства, если не говорить о Борисе Миляеве в его отсутствие, то хотя бы упоминать его имя, она рассказывала отцу и матери о том, как Борис «уважает нашего папу». И хотя Владимир Александрович был честный, чистый человек, но он был все же не лишен обычных человеческих слабостей, и эти слова умной лести были тем маслом, которое смазывало движение дел Бориса Миляева. А Миляев, распознавая Владимира Александровича, все больше входил к нему в доверие. О Нине Леонидовне он не беспокоился, он чувствовал, что сразу же покорил ее. Он так же выразил желание познакомиться и с братом Лели, таинственным Леней, которого никогда не было дома.
– Что это за такой загадочный молодой человек? – спрашивал он Лелю.
– Он очень хороший, и я хотела бы, чтобы вы познакомились. Но только он вот так, – и она с обеих сторон глаз прикладывала ладони, – кроме своего конструкторского дела, ничего знать не хочет. В шорах, как лошадь...
«Сама ты, голубушка, отчасти похожа на лошадь», – думал Борис, и улыбка насмешливая и нежная играла на его губах.








