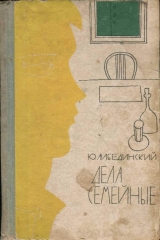
Текст книги "Дела семейные"
Автор книги: Юрий Либединский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
12
Поначалу в доме Леонида и Виктории происходило то же, что и во всех домах, – Вика и Евдокия Яковлевна плакали, спрашивали, что же будет, а Леня утешал их, успокаивал и говорил, что есть партия, а партия вечно жива.
За завтраком Вика сказала:
– Ты бы сходил на завод, мне ведь нельзя, а ты сходи...
– А как ты одна?
– Я не одна, – и она кивнула на мать.
– Ну, я скоро приду, – сказал Леня и торопливо ушел.
А Вика, сложив руки над своим большим животом, ходила и ходила по комнате и думала о том, о чем в те часы думали все, – о том, как сложится судьба родины, нет, не только родины, а того главного, что началось в семнадцатом году и продолжалось и посейчас и что называлось навечно вошедшим в сознание словом – революция. Она с нетерпением ждала Леонида, и не только потому, что она хотела (всегда хотела), чтобы он был рядом с ней, но и еще потому, что ждала новостей, а по радио передавали бесконечную похоронную музыку.
В эти минуты Вика словно забыла о матери, только слышно было, что Евдокия Яковлевна где-то ворошится, шуршит, – обычное, исходящее от нее мышиное шуршание. И когда вдруг мать сказала спокойно и отчетливо:
– Ну вот, Викуша, я прибралась, а сейчас поеду... – Вика вздрогнула и оглянулась. В комнате было чисто прибрано, все расставлено по местам, скатерть застелена на столе, а сама Евдокия Яковлевна стояла перед зеркалом и неторопливо одевала поверх платка, намотанного вокруг шеи, старенькое, потрепанное пальто.
– Ты куда это собралась? – строго спросила Вика.
– А ты не бойся, я скоро вернусь, только взгляну на него, правда ли он помер, и вернусь.
– Да откуда ты знаешь, где его поставили?
– А где, кроме как в Колонном? – разумно сказала Евдокия Яковлевна.
– Ничего это не известно, – быстро запротестовала Вика. – И никуда я тебя не пущу, ведь разве я одна могу оставаться? А если у меня схватки начнутся, что тогда?
Евдокия Яковлевна села на стул и распустила платок, – ей, видно, было жарко.
– Слушай, что я тебе скажу, Виктория. Ведь если он вправду умер, значит, Петенька наш вернется. Ведь это он его умахал в ссылку.
– Ну ладно, мама, – Вика вспомнила, что с Евдокией Яковлевной, как с умалишенной, нельзя спорить. – Вот погоди, придет Леня, он все расскажет...
– А что он может знать, твой Леня, он ведь как теленок молосный, право молосный, – с нежностью сказала она. – Да и ты тоже, ну что вы, голуби, понимаете?.. А я, я, – добавила она, понижая голос, – глаза у меня слезами промытые, насквозь промытые, и если он вправду помер, так я сразу разгляжу...
– Я что-то не понимаю, что ты мне говоришь, – сказала Вика, со страхом глядя на мать. – Как это не взаправду, ведь уже народ оповестили...
– Э, чего там оповестили... Да что же это я села, – она быстро замотала платок вокруг шеи, лицо ее горело, она была точно в жару...
«Да она ведь сумасшедшая... – с ужасом подумала Вика, – а я одна с ней...»
– Мамочка, ты хоть меня пожалей, мне ведь рожать...
Но Евдокия Яковлевна уже бубнила что-то про стражу, которая заточила ее Петеньку, что надо прорваться к нему, она уже не узнавала дочери и боролась и дралась с ней, как с чужой.
Вика открыла форточку.
– Помогите! – крикнула она в синий простор. – Помогите!
И вдруг почувствовала, что то, чем она пугала мать, и вправду совершается, – эта резкая боль в пояснице, боль, которую она, ни разу не испытав, сразу узнала, – началось!
– Мама, – говорила она, хватая мать за руки, – вы поймите, роды, роды, началось... Помогите мне до родильного дома дойти...
Но Евдокия Яковлевна в своем исступлении почувствовала только одно – что ее никто не держит, и вся расстрепанная выбежала из комнаты.
Такой и встретила ее Леля, когда, сойдя с поезда, по узкой, протоптанной в снегу тропинке пробиралась через поле. Она издали признала Евдокию Яковлевну, несмотря на ее встрепанный вид, и, раскинув руки, остановилась.
– Евдокия Яковлевна, что случилось?
Но Евдокия Яковлевна, с раскрасневшимся лицом, с запекшимися губами, налетела на Лелю, сбила ее с ног, что-то пробормотала, вроде: «Только я знаю, только я...» – и пробежала мимо.
Ошеломленная Леля, поднявшись из сугроба, кинулась за старушкой обратно к станции. Потом вдруг остановилась, испуганная тем, что ни Вика, ни брат не гонятся за сумасшедшей. Ну Вика-то не может, а брат? Значит, брата нет дома, а Вика?!
И тут вдруг, отчасти догадавшись, отчасти инстинктивно, Леля бросила всякую заботу о сумасшедшей и кинулась бежать на помощь Вике, почти уверенная, что с ней происходит что-то неладное...
Застав Вику у порога комнаты, в положении самом беспомощном, Леля не удивилась. Вика пыталась и не могла подняться с пола...
– Лелечка, ангел... – прошептала Вика искусанными в кровь губами, – скорее к Кузьмичевым, пошли кого-нибудь вызвать карету скорой помощи. Да возвращайся быстрее, мне страшно одной, мама...
Но Леля, не дослушав ее, уже бежала вниз по ступенькам. Не стучась, она с такой силой рванула тяжелую дубовую дверь, что вырвала крючок, на который та была закрыта. У Кузьмичевых все ушли – старики, как и Леня, на завод, младшие в школу, дома была только сама старуха Кузьмичева, она варила обед.
– Вика рожает, скорее карету скорой помощи, врача...
– Ах ты господи, а у нас и послать некого...
– Сами бегите! – повелительно крикнула Леля. – Да скорее, а я к ней вернусь, она одна!
– А Евдокия Яковлевна?
– Сошла с ума, брата нету... Да скорее, скорее же все нужно делать!
И, увидев, что Кузьмичева схватила пальто, Леля побежала обратно к Вике.
В голове у нее словно горел костер, при спокойном пламени которого она видела все необыкновенно ясно. Встретив исступленный взгляд Викиных словно вылезающих из орбит глаз, Леля нагнулась, поцеловала ее, потом кинулась к умывальнику, тщательно вымыла руки, потом к комоду, достала чистое постельное белье.
– На пол стели, мне не подняться... – просительно прошептала Вика, и Леля мгновенно стащила на пол матрац с постели, застелила чистое белье, сдернула со стола клеенку, помогла Вике переползти на приготовленное ложе и, засучив рукава, стала помогать ей. То ли тут действовали воспоминания, – не раз дед ее, акушер-гинеколог, думая, что Леля спит, рассказывал своим дочерям (две сестры Нины Леонидовны были медички) о трудных случаях родов, – то ли помог вековой бабий опыт, унаследованный от предков, но Леля спокойно, в короткие передышки между схватками целуя Вику, давала ей пить, потом вдруг бережно и сильно нажала ей на живот, и, в решительный момент забыв о том, что это страшно, ухватила что-то живое и скользкое и вытащила это скользкое из тела Вики. И вдруг такая жалость, такая нежность к этому беспомощному, упругому и маленькому, но несомненно живому существу охватила ее и такой восторг перед тем, что произошло сейчас, что она заплакала.
– Пуповину перережь, пуповину... – простонала Вика.
Леля оглянулась, взгляд ее упал на большой нож, лежавший на кухонном столе. Еще мгновенье – и она пустила бы его в ход, перерезала бы пуповину и, может быть, этим погубила бы и мать и ребенка. Но тут, на счастье, послышались торопливые шаги, и в комнату вошла пожилая женщина в халате с решительным лицом, а позади стояли мужчины, тоже в белых халатах, в дверях виднелось испуганное лицо Кузьмичевой.
Дело родов было довершено опытной, спокойной рукой акушерки. Теперь ее грудной голос непрерывно рокотал в комнате. Она похвалила Лелю, взяла ребенка из ее рук и сообщила, что это девочка, да еще хорошенькая какая... Но она же ни одной лишней минуты не дала ребенку и роженице побыть дома. В то время как санитары перекладывали Вику на носилки, она сама закутала ребенка, который при этом впервые запищал.
Когда Вика была уложена и тоже укутана, акушерка разрешила Леле поцеловать ее, и, нагнувшись к ней, Леля услышала хриплое «спасибо».
И вот все кончилось. Разгромленная грязная комната с кровавыми простынями на полу выглядела странно опустевшей...
– Ну и боевая твоя сестренка, – говорила Кузьмичева Леониду, который весь бледный, с выражением ужаса и удивления стоял посреди комнаты. – Я в скорую помощь позвонила и скорей к вам, думаю, помогу, ведь сама-то сколько раз рожала. А сеструха твоя, гляжу, действует, да так ловко, да без опаски, будто у овцы принимает. Я стою, даже обратиться боюсь, думаю, вдруг помешаешь, не дай бог...
– Но зачем же ее увезли? – перебил Леонид. – Ведь уже все произошло...
– А нельзя оставить, не дай бог зараза какая пристанет, – объясняла Кузьмичева, – ведь гляди, как здесь захламлено, погляди только... Вот что, ребята, вы пойдите на двор, а я здесь приберу.
– А Евдокия Яковлевна где? – спросил Леонид, оглядываясь кругом.
Леля взглянула на брата. Его лицо, всегда спокойное и даже немного насмешливое, все дрожало, она взяла Леню за руку, рука тоже дрожала.
– Ну, успокойся, успокойся, выйдем на двор, я все тебе расскажу... – Она ощущала чудесное спокойствие и сознание какой-то огромной силы, которая вдруг в эти страшные минуты открылась в ней. Жизнь словно разделилась: до этого дня было одно, не достойное даже рассмотрения, – и другое то, что она сделала в эти минуты: этот восторг, вдруг вспыхнувший в ее душе, когда она вынула ребенка из страдающего тела матери. И нет уже ни Вики, ни маленькой новой девочки, появившейся на свет с Лелиной помощью, но восторг, этот восторг сохранился. И она берегла его, – ведь впервые в жизни она уважала себя за совершенное дело, важнее которого не было ничего в жизни...
13
На пленум Академии, происходивший в полукруглом, с белыми массивными колоннами зале, Владимир Александрович прибыл с некоторым опозданием, так как сначала решил, что ему там показываться незачем. Но потом пересилило захватившее его с утра, после разговора с Касьяненко, чувство ответственности. Все места были заняты, он шел по центральному проходу, все ближе к президиуму. Фивейский, который сидел на председательском месте, сделал ему знак, чтобы Сомов прошел в президиум, но Владимир Александрович, увидев в первом ряду свободное место, занял его. Секретарь парткома Академии заканчивал речь, посвященную роли Сталина в развитии советской архитектуры и градостроительства.
– В вопросах архитектуры и градостроительства мы лишь воплощали его гениальные предначертания и будем впредь эти предначертания выполнять...
«У него насморк, что ли?» – на мгновенье подумал Владимир Александрович, но потом понял, что этот взрослый человек с мясистым лицом, автор ценнейшего труда о значении высшей математики в архитектуре, плачет. Слезы медленно выступали из-под круглых, очень выпуклых очков в роговой оправе, стекали на полные щеки и на подбородок. Прикрыв лицо, словно от света, и время от времени громко сморкаясь, плакала Елизавета Марковская. Но откровеннее всех плакал Борис Миляев. Он сидел в президиуме, рядом с Фивейским, оперев локти на стол, и слезы быстро катились по его молодому лицу одна за другой, бежали по щекам, пропадали в рыжеватых усиках, и видно было, что ему все равно, смотрят ли на него или нет, – именно это необыкновенное для Миляева выражение безразличия поразило Владимира Александровича.
В зале тоже было слышно, как сморкаются, вздыхают. Пожалуй, не плакал только Фивейский, хотя выразительное морщинистое лицо его выражало серьезное и печальное волнение.
«Почему я не плачу? – спросил себя Владимир Александрович. – Может, в этом есть что-то предосудительное? Или я не испытываю горя от этой страшной потери?» И вдруг он словно въявь услышал голос Касьяненко по телефону. «Нет, не горе, здесь другое, это важнее, это строгое и суровое...» – Владимир Александрович словно прислушивался к себе – это было веление души, – не оно ли, когда Дутов в восемнадцатом году подходил к их городку и дворам его, к Совету, заставило его получить винтовку и встать в ряды красных, против белых, не это ли движение подвигало его к действиям серьезным и ответственным в самые решительные минуты жизни? Теперь как раз наступила такая минута.
Он слушал восхваления Сталина, которые звучали в речи секретаря парткома, и ему хотелось сказать: «Ну хватит, хватит уже. Как ни велика утрата, Сталин не унес с собой источников нашей силы. Партия существовала до Сталина, на памяти нашей, представителей старшего поколения, она перенесла такой страшный удар, как смерть Ленина... Это должен сказать ты, иначе какой же ты представитель партии...»
Секретарь парткома сказал об этом вяло, смазанно.
Доставить делегатов к Дому Союзов должны были на автобусе. Пока проверяли паспорта, – процедура проводилась очень тщательно, – на улице быстро темнело, несколько раз принимался идти снег. К Владимиру Александровичу, который давно не показывался в Академии, подходили товарищи, справлялись о здоровье. Сомов подошел к Марковской, – еще до болезни он консультировал ее проект постройки академического городка в одном из республиканских центров, – тогда они сильно поспорили, и ему хотелось сейчас узнать, не сердится ли она. Ее женственно милое, все блестящее от слез лицо обернулось к нему, она схватила его за руку:
– Ах, Владимир Александрович, как мне отрадно сейчас вас видеть!
К вечеру совсем подморозило, окна автобуса покрылись мохнатой изморозью, и, когда машину останавливали на контрольных пунктах, нельзя было понять, где происходят эти остановки. И потому особенно резок показался переход от желтовато-тусклого света автобуса к ослепительно яркому свету нескольких юпитеров, под который они попали, когда вышли на улицу. Юпитеры своим гудением, казалось, сотрясали не только воздух, но и все вокруг, и под их неестественно сильным и неживым светом видны были лица людей, стоявших в очереди у одного подъезда, недвижные фигуры часовых у другого, пустого, к которому направили их делегацию, предложив построиться по двое. Гудение юпитеров придавало какой-то планетарный отпечаток тому, что происходило, и Владимир Александрович вдруг вспомнил строчки любимого своего стихотворения:
С восхищеньем смотрят марсиане
На великих жителей Земли...
В этом обесцвеченном, бездушно-белом свете видны были бесчисленные вереницы лиц, как на старинных иконах, лиц, словно уравненных этим светом, который подчеркивал их количественную значительность, их напряженность, их спрессованность происходящим.
Кто-то вдруг цепко схватил Владимира Александровича за рукав, – он оглянулся и увидел прорезанное глубокими морщинами лицо Антона Георгиевича Фивейского, его пергаментно-желтые щеки, синие губы, которые что-то шептали. Владимир Александрович нагнулся к нему.
– Мне плохо стало, Владимир Александрович...
– Может быть, вам лучше не ходить... – сказал Сомов.
– Нет, что вы, это никак нельзя, нужно проститься со всем, что было, и с величием, и с кровью... – Он всхлипнул. – Когда вы рядом, чувствуешь себя как-то увереннее, вы такой большой, надежный...
Лицо старика дернулось. И хотя у Владимира Александровича у самого щемило и холодело сердце, он взял старика под руку, и они пошли вверх по лестнице.
В том, как лежал Сталин, не было покоя. Похоже, что он как стоял в своем френче, невысокий, собранный, так вдруг и окаменел и окаменевший упал.
«Да, окаменел, не умер, а застыл, отлился в ту форму, которая выработалась при жизни», – подумал Сомов, проходя мимо.
Когда они вышли из Колонного зала, вокруг уже было темно, раздавались слезные всхлипы, трясся от беззвучных рыданий Антон Георгиевич, – а перед глазами Владимира Александровича неотступно стояла освещенная неживым светом, лишенная обычного величавого покоя смерти фигура...
Первое, что он увидел, выйдя из автобуса возле подъезда Академии, было бледное, все устремленное к нему лицо жены: платок небрежно наброшен на ее черные, с сильной проседью волосы...
– Володя, – сказала она, бережно принимая его в свои объятия. – Как я боялась, как боялась! Как же это я отпустила тебя? И как ты, ничего, перенес?
А когда они уже сидели в машине, Нина Леонидовна сказала:
– Ты знаешь, что случилось? Виктория родила девочку, и так неожиданно! Эта сумасшедшая старуха в самый решительный момент куда-то сбежала. Виктория так разволновалась, что у нее начались преждевременные роды, и представь, наша Лелька приняла ребенка, ну разве это занятие для девушки?
– А как Евдокия Яковлевна? – спросил Владимир Александрович, пряча улыбку.
– Да ее нашли, конечно. Железнодорожная милиция задержала, опять же нашли ее и встретили Леонид и Леля.
14
Еще находясь в родильном доме, Виктория получила огромный букет цветов «от деда и бабки», а также продолговатый сиреневый конверт, в котором содержалось предложение, чтобы Вика вместе с драгоценной Дунечкой (так было написано по настоянию Владимира Александровича) прямо из родилки переехала бы на московскую квартиру Сомовых. Виктория тут же в ответной записке поблагодарила за любезное предложение, но категорически отвергла его, и Леонид, которому она сообщила о своем отказе, с ней согласился.
Нина Леонидовна была возмущена, огорчена, удивлена... С момента, когда на свете появилась внучка, – как бы ее там ни звали, пусть даже Дунечка, – Нина Леонидовна почувствовала, что сердце ее повернулось в сторону новорожденной, и она представляла себе, как ужасна трущоба, в которую повезут ее внучку, ее первую внучку, прямо из родильного дома, и как страшно то, что девочка окажется на руках полусумасшедшей бабки, которая своей совершенно неуместной выходкой – так именовала ее припадок Нина Леонидовна – едва не загубила и мать и ребенка, «эту нашу крохотулечку».
– Ставить интересы своего самолюбия выше интересов ребенка, хороша же твоя женушка, – с негодованием говорила Нина Леонидовна сыну, возмущаясь Викиным письмом.
– Надо было умнее вести себя с Викторией Петровной, – сказал Владимир Александрович, когда Леонид, наговорив матери кучу неприятностей, точнее говоря, дав ей понять, чтобы она не путалась в их отношения, уехал, а Нина Леонидовна пошла жаловаться на него мужу.
– Но ты видишь, какая она дрянь!
Может быть, Нина Леонидовна рассуждала разумнее, чем кто-либо, но, несмотря на это, новорожденная Евдокия вместе с матерью водворилась в поселке Большие Сосны. И, сидя на руках у полусумасшедшей бабки Дуси, впервые в жизни увидела широченные желто-лимонные и багряные весенние закаты, зубчатую кромку синих лесов, поля, сначала черно-бурые, а потом нежно-зеленые.
Дунечка родилась рыженькая, с прозрачными, как у матери, зелеными глазами, но лицо было округлое, и по этой округлости все признавали в ней дочку Леонида Владимировича Сомова.
– Вся в Сомовых! – возопила Нина Леонидовна, увидев впервые Дунечку.
Теперь она усвоила с Викой слащаво-нежный тон, привозила огромные коробки конфет Евдокии Яковлевне, – она готова была на все, чтобы уничтожить пропасть, образовавшуюся между ней и семейством ее сына, но ничего не могла поделать. Советы, которые она давала молодой неопытной матери, – как кормить Дунечку, как пеленать и купать ее, – Вика выслушивала молча, но игнорировала. Она за все сдержанно благодарила Нину Леонидовну:
– Ах, зачем вы, ну к чему это!..
И сын привозил обратно домой и коробки конфет и плоские коробки с дамским бельем, которые дарила Вике Нина Леонидовна.
Единственно, кто мог, без всяких подарков, как своя, в любое время появляться на старой дачке в Больших Соснах, была Леля. Она часами проводила время с Викой, которая медленно поправлялась после родов. Они вели бесконечные женские разговоры, и Вика в который раз рассказывала Леле печальную историю о том, как она жила до знакомства с Леонидом. Да и Леля рассказала ей все – и о Борисе Миляеве, и о своих чувствах к нему. С грустной и насмешливой по отношению к самой себе улыбкой сообщила она Вике, что Борис недавно женился на Гале Матусенко.
– Вот так подруга! – с возмущением воскликнула Вика. Леля покраснела и промолчала.
Она помогала Вике нянчить Дунечку, с наслаждением купала ее, ловко принимая в мохнатую простыню пухлое распаренное детское тельце. И, глядя, как она ловко вытирает, пеленает и укачивает девочку, Евдокия Яковлевна говорила:
– Своего бы завела... – и в голосе ее слышалась беззлобная ревность. Ей, как и Нине Леонидовне, хотелось всецело завладеть Дунечкой.
Но вот при резком похолодании, наступившем в конце мая, бабка Дуся не уследила за изменением погоды, и у Дунечки началась пневмония. Как забеспокоилась и в то же время как торжествовала Нина Леонидовна, когда Леня привез из Больших Сосен эту тревожную весть! Но ведь Нина Леонидовна выросла в высоко образованной медицинской семье. Правда, отец ее, знаменитый врач, уже умер, но две сестры ее были врачами, и одна из них, старшая, Елена Леонидовна Дашевская, – светило педиатрии.
Леля получила задание привести эту больную, в седых кудрях старуху на помощь Дунечке. Елена Леонидовна очень любила Леню, но всегда пренебрежительно относилась к Леле, к ее увлечению живописью. Поклонница русской реалистической школы, она со времен, когда училась на Бестужевских курсах, привыкла смотреть на всякие левые течения как на баловство, и Леля была очень удивлена, когда на этот раз тетка отнеслась к ней весьма ласково. Причину этого изменившегося отношения Леля поняла сразу, едва машина тронулась. Тетка спросила:
– Ну-ка расскажи, милочка, о твоих акушерских подвигах!
Леля рассказала, – она любила рассказывать об этом, она словно переживала тот неожиданный восторг, который испытала в те необыкновенные минуты.
– Так, так, – одобрительно проговорила тетка. – А бицепсы у тебя потом болели?
– Болели, – призналась Леля, – и еще вот тут, – и она показала на запястье. – Это от неумелости?
– Что ты, наоборот! – оживленно возразила тетка. – Значит, правильно работала. Ты молодец, прямо молодец. Ведь я тоже начинала акушеркой и скажу, что у тебя то, что называется талант... Да ты не смейся! – сердито сказала она, хотя Леля и не думала смеяться. – Ты думаешь, чтобы малевать твои модные картинки, на которых не разберешь, где глаз, где нога, талант нужен? Нет, матушка! А в нашем деле не только талант, самозабвенье нужно, находчивость, смелость, вдохновенье...
– Конечно, конечно... – тихо проговорила Леля.
Некоторое время они ехали молча.
– Тетя, – сказала Леля застенчиво. – А что, если я... если я на акушерские курсы подамся?
Тетка всем телом вдруг повернулась к племяннице и поцеловала ее, кажется, впервые поцеловала так крепко, от души.
– И очень хорошо сделаешь! Подавайся, голубушка, подавайся! Это святое дело! Пусть будет и в четвертом поколении нашей семьи акушерка, хотя и не Дашевская, а все же... Милочка моя, умница, я ведь старая, но тебя еще выучить успею!
Так, не переставая разговаривать, доехали они до Больших Сосен, и, даже когда машина засела в двадцати метрах от дома и Елене Леонидовне пришлось брести по ужасающей грязи, это не испортило ее настроения.
Елена Леонидовна одобрила действия участкового врача. Молоденькая девушка-врач, которую весь поселок называл Майка Лепилова, кроме того, что была детским врачом, славилась еще как капитан большесосненской баскетбольной команды. Елена Леонидовна, к удивлению и тихому негодованию Нины Леонидовны, стала величать эту белобрысую, без бровей и с яркими карими глазами девушку Майей Андреевной, а когда та ушла, сказала, что она и своего родного внука доверила бы этой девушке!
Впрочем, Елена Леонидовна могла говорить все, что угодно, но Нину Леонидовну теперь невозможно было выжить из Больших Сосен. Она поселилась там на все время болезни ребенка, а так как смешно было уговаривать родителей перевозить Дунечку на лето в центр города, то Нина Леонидовна сняла неподалеку дачу, утверждая, что это необходимо Владимиру Александровичу, который – все в семье это знали – терпеть не мог дачного житья. Но не могла же Нина Леонидовна доверить жизнь любимой внучки сумасшедшей старухе, несговорчивой невестке и подбашмачнику сыну!
Между тем, хотя Виктория и впрямь не жаловала свою свекровь, она вынуждена была прибегать к ее услугам. Как только врачи ей разрешили, она вышла на работу, – ведь на заводе довершалось большое дело, начатое по ее инициативе. Теперь она нередко кормила девочку в конурке мастера, куда ее приносила Евдокия Яковлевна. Потратив на это дело полчаса, Вика снова бежала к станку. Конечно, это возмущало Нину Леонидовну, которой все дела Виктории казались несущественными по сравнению с одним – с кормлением Дунечки, как она теперь с нежностью называла внучку. Но она боялась вмешиваться в жизнь сына и его жены. Только по вечерам изливала она свою досаду молчаливому и как всегда добродушному Владимиру Александровичу. Но в душе она радовалась, что эти дела заставляют Вику целые дни пропадать на заводе и потому дают возможность ей, Нине Леонидовне, если и не безраздельно, то, во всяком случае, весьма активно заниматься воспитанием обожаемой Дунечки.
А для Виктории теперь все было завязано в один крепкий, стянутый рукою жизни узел: и ее любовь к Леониду, и их совместная работа на заводе, где она была лучшей помощницей мужу, и их общая любовь к маленькой дочке.
Настало время длинных вечеров, когда трое стариков, словно у одного огонька, собирались возле рыженькой девочки, блаженно мурлыкающей что-то свое, между тем как звезды падали с неба и огромный город грохотал и взблескивал зарницами вдали, а невидимый самолет проносил высоко над землей свои зеленые и красные огоньки... Потом слышалась быстрая поступь, молодые голоса, – чаще Лёнин, чем Викин, которая говорила тихо, и на столике под рябиной становилось еще оживленнее, возникали разговоры о том, что напечатано в газетах. А поговорить было о чем...








