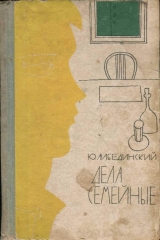
Текст книги "Дела семейные"
Автор книги: Юрий Либединский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
6
У Лени был свой ключ от входной двери. Но ровно в час ночи, перед тем как лечь спать, Нина Леонидовна запирала входную дверь на длинный железный крюк, который делал бесполезными все ключи, имевшиеся у каждого члена семьи. Леонид, просидев весь вечер с Викой, вернулся домой в половине второго и позвонил, мало надеясь, что ему откроют, потому что в семье все спали крепко. В прошлом году однажды осенью, когда он задержался на собрании, ему ничего другого не оставалось, как, позвонив несколько раз, отправиться на вокзал, с первым же поездом уехать в Большие Сосны и в шесть часов утра прийти на службу, – у него был пропуск, разрешающий приходить в любой час суток. Он и сейчас подумывал, что ему предстоит то же. Но дверь неожиданно открыл отец; он выглядел особенно уютно в своей полосатой пижаме. Увидеть его лицо, ласковое и доброжелательное, было сейчас особенно приятно Лене.
– Я разбудил тебя, папа? – виновато спросил он,
– Я не спал, – ответил отец шепотом. – А ты, верно, есть хочешь? Давай залезем в холодильник...
Рассказывая сыну о сегодняшнем, насыщенном событиями дне, Владимир Александрович вместе с Леней прошел на кухню. Там они достали из холодильника смерзшиеся и потому особенно вкусные котлеты и масло. Хлеб стоял на столе. Отец зажег газ и поставил чайник. Леня ел, а Владимир Александрович с удовольствием смотрел на него. Они последнее время виделись мельком, и сын на этот раз казался ему повзрослевшим, губы обозначались как-то отчетливо, по-юношески мужественно, сочетание унаследованной от матери округлости лица с русыми волнистыми, правда сильно поредевшими за последнее время волосами, придавало ему молодую прелесть. «Должен нравиться женщинам...» – подумал отец. Ему приятно было неожиданное ночное свидание с сыном, приятно было, что сын смотрит на него доверчиво и ласково. Съев несколько котлет, Леонид налил себе чаю и так потянулся, что старенькое соломенное кресло заскрипело под ним. Это кресло любили все члены семьи, кроме Нины Леонидовны, которая сослала его на кухню за старомодность.
– Что это за бумага? – спросил Леня, взяв в руки длинную полоску бумаги, на которой было за номерами, строчка под строчкой, что-то написано, Владимир Александрович засмеялся.
– А это новая домработница писала. Я просил ее записать, кто звонил по телефону, так она что-то записала, ничего понять нельзя.
– То есть как это нельзя? – Леня повертел бумагу и стал всматриваться в нее. – Папа, да здесь ведь по-латыни написано! Вот это «л» латинское, а вот «т». Алтухова – это верно фамилия ее, и «х» изображено как следует, через «аш», все как полагается.
– По-латыни? Гребнер, Мануйлов, Листвянников... – читал Владимир Александрович список людей, звонивших ему по телефону. – Верно, но зачем по-латыни? А, понятно, она решила меня проучить! Я спросил ее, грамотная ли она, а она – по-латыни: знай, мол, наших! Вот это да!
– Папа, тебя коснулся тридцать седьмой год? – спросил вдруг Леонид, прерывая благодушную речь Владимира Александровича, который на вопрос сына ответил недоуменным и, пожалуй, испуганным взглядом. Вопрос этот показался ему неожиданным, он никак не вытекал из предыдущего разговора.
– Да, коснулся, – подумав, ответил он.
– Но ведь тебя не арестовывали?
Владимир Александрович пожал плечами:
– За что было меня арестовывать?
– А всех, кого арестовывали, было за что? – настойчиво спрашивал Леонид.
– Мне трудно судить обо всех. Думаю, что все-таки было за что. Но в таком большом деле, конечно, возможны были и перегибы и ошибки... Ты бы с дядей Женей об этом поговорил. Он в органах работал, ему виднее...
– Дядя Женя? – недоуменно переспросил Леонид. – Да он какими-то доисторическими людьми занимается, лекции про них читает... Что он может мне сказать?
– Доисторическими людьми, как ты говоришь, он уже после войны занялся, а до тысяча девятьсот тридцать седьмого года был на большой должности в НКВД, потом тяжело заболел, ему язву желудка вырезали, ушел на пенсию... Поговори с ним, хотя он не очень любит обо всех этих делах разговаривать, даже со мной, а ведь ближе меня у него никого нет. Впрочем, ты, наверное, еще в вузе об этом учил – о Ежове, о том, как его действия в ОГПУ привели к тому, что перебито было много честных партийцев...
– Да, это мы учили, конечно, учили, – нетерпеливо сказал Леня. – Ну знаешь, как бывает в вузе: прослушали, сдали зачет, и все! А тут вдруг, понимаешь... Такой случай. Это у меня с товарищем одним... Он отказывается вступать в комсомол, говорит, что отца его несправедливо арестовали в тридцать седьмом, понимаешь? – краснея и волнуясь, говорил Леня. Ему не хотелось рассказывать отцу о том, что больше всего волновало его в этом деле, о том, что речь шла о Виктории, которую он любил. И когда отец вполне резонно заметил, что ни его товарищ, ни тем более сам Леонид не могут судить о деле, которого они не знают, Леонид рассердился. Возразить было нечего, а соглашаться с этим не хотелось, потому что Вике он верил безусловно. Весь этот вечер он держал ее руку в своей руке, а она шепотом рассказывала ему о своем отце, который был героем гражданской войны, потом учился в Военно-инженерной академии...
– Мне хочется спать, – сказал Леонид, не дослушав рассуждений отца, и ушел в свою маленькую комнатку, которую для него выкроили в результате внутренней перепланировки квартиры.
Владимир Александрович почти машинально прибрал на столе, выключил газ. Конечно, надо было бы заставить все это проделать сына, но ведь Лене предстоит встать ни свет ни заря, чтобы поспеть на поезд. Владимир Александрович любил сына не только как любят своих детей хорошие отцы, с разумной и последовательной заботой, он еще любил его так, как бабушки любят внуков. В молодости, когда Нина Леонидовна продолжала надеяться, что из ее артистической карьеры что-нибудь получится, а Владимир Александрович учился в вузе, супруги по справедливости поделили заботы о детях, – Нина Леонидовна взяла на себя младшую, в детстве болезненную Лелю, а Владимир Александрович старшего – пятилетнего Леню. Но Нине Леонидовне помогали ее мать и незамужние сестры, а Владимиру Александровичу никто не помогал. Он сам с удовольствием вставал рано, кормил Леню завтраком и отводил в детский садик, потом шел слушать лекции или в библиотеку, и с неменьшим удовольствием в пять часов отправлялся за Леней, беседуя с ним о разных разностях, приводил его домой, кормил, умывал и, отвечая на бесчисленные вопросы, укладывал спать. Он научил его самостоятельно раздеваться и одеваться, они по сигналу радио по утрам делали зарядку. Так и пошло. Леля так и осталась жить в комнате у Нины Леонидовны, а Лене недавно выделили отдельную маленькую комнатку. Но все, что волновало Леню, по-прежнему беспокоило также и Владимира Александровича. В этом вопросе Лени о тридцать седьмом годе Владимир Александрович слышал какое-то личное беспокойство, которое тут же передалось и ему.
Тридцать седьмой год! Ведь вопрос об Аравском, который задал ему Касьяненко, был тоже вопрос о тридцать седьмом годе. Владимир Александрович вернулся в кабинет, включил настольную лампу и хотел продолжить рассмотрение проекта Миляева, который он захватил с собой, но никак не мог сосредоточиться. Взял роман, но не находил интереса в том, что читал. Потушил огонь и хотел заснуть, но подушка мгновенно нагревалась под горячей головой, он поворачивал подушку, а она снова нагревалась.
«Все ли арестованные в тридцать седьмом году были арестованы по справедливости?» Этот вопрос сына снова и снова возвращался к нему. Он сам хотел бы получить ответ на него, нет, не о всех арестованных, хотя бы только об Аравском. Владимир Александрович встал, подошел к окну, открыл его, и приправленный бензином и потому по-особенному лихорадочный воздух летней ночи ворвался к нему в комнату.
Ему неотступно представлялось худощавое, с остренькой бородкой, аскетического склада лицо, он словно въявь слышал резковатый голос, с виртуозной легкостью укладывающий слова в стройные предложения, – способность, которой лишен был сам Владимир Александрович...
Владимир Сомов впервые услышал Анатолия Аравского на диспуте в Союзе архитекторов, где Анатолий, худенький и кудлатый, в сапогах и кожаной тужурке, громил реакционеров и прежде всего поборника церковной архитектуры – Антона Георгиевича Фивейского. Со страстью говорил Анатолий о перспективах первого пятилетнего плана и призывал архитекторов и инженеров-строителей к участию в героических делах первой пятилетки, развертывал перспективы социалистического градостроительства. В каждом его слове Владимир Сомов с изумлением и восторгом видел воплощение своих, много раз приходивших ему мыслей, – даже цитата из Фурье была та же, которую выписал он!
Сомов тут же написал записку Аравскому. После диспута они встретились, пробродили всю ночь по Москве, обошли кругом Страстной монастырь и разобрали его как архитектурный ансамбль. Утро встретили в Александровском саду. Они говорили о Кремле и о социалистических городах будущего, которые их поколение воздвигнет по всему простору обновленной социалистической России. Они не спорили, один говорил, другой продолжал, оказалось, что каждый поодиночке пришел к одним и тем же мыслям... Так началась дружба, которая продолжалась несколько лет. Они стали выступать вместе, молодежь, откликнувшуюся на их призыв, они объединили в Ассоциацию революционной архитектуры и социалистического градостроительства – АРАСГ.
...Все началось с этой, по-ассирийски звучащей, как выразился один из их противников, организации. Сомов и Аравский составили ее манифест, который кроме них подписали еще несколько таких же молодых или еще более молодых архитекторов и инженеров-градостроителей. В этом манифесте фурьеристские идеи соединялись с модным тогда конструктивизмом. Их уже стали прорабатывать за «техницизм» и «формализм», когда вдруг в незабываемый день позвонили из секретариата Сталина, – Сталин их обоих вызвал к себе. Он был прост и ласков. Посмеялся над некоторыми неудачными выражениями их манифеста, подверг критике отдельные неуклюже сформулированные пункты их программы, но похвалил за то, что они прямо и отчетливо выразили убеждение, что новые формы архитектуры родятся в практике строительства социализма и что в новых городах эти формы найдут конкретное свое воплощение.
С тех пор арасговцы участвовали во всех совещаниях, которые созывались по первому пятилетнему плану. Владимиру Сомову не раз приходилось в присутствии Сталина делать доклады, и эти доклады неизменно одобрялись и после некоторой доброжелательной критики с его стороны бывали опубликованы.
Все это время Сомов не переставал учиться. Он начинал как художник, и начинал не плохо. Но потом разочаровался, – не в живописи, нет, а в своих способностях. «При перспективе развития цветной фотографии нельзя просто копировать природу, в этом деле цветная фотография имеет все возможности побить художника, ограничивающегося копированием натуры. Художнику нужно ставить перед собой такие задачи, которые находятся вне возможностей цветной фотографии. А я таких задач ставить себе не могу, таланта не хватает!» – говорил Владимир Сомов. И он, еще за год до встречи с Анатолием Аравским, поступил в Архитектурный институт. Но эта встреча открыла перед Сомовым неслыханные возможности применения своей молодой энергии. Имена Сомова и Аравского стали известны всем, кто только занимался в Советской стране архитектурой и градостроительством. Но Аравский ограничивался по преимуществу публичными выступлениями, в которых он или разоблачал врагов «на архитектурном участке идеологического фронта», или произносил имевшие абстрактный характер декларации. А Владимир Сомов с охотой выезжал на новостройки. Утопая в грязи и пыли, с волнением проходил он по улицам возникающих при новостройках городов. Он обобщал положительный опыт градостроительства и отмечал ошибки и недостатки. Так родилась тема его диссертации. Первый из молодых архитекторов-градостроителей он получил ученую степень и на основе своей диссертации написал докладную записку в ЦК и Совнарком, в которой доказывал, что в деле строительства новых городов следует отказаться от торопливости, от «барачного» стиля, как он иронически именовал строения временного типа. Он настаивал на том, чтобы в основе проектов строительства новых городов предусматривались все коммунальные удобства, что сначала необходимо заложить подземное хозяйство будущего города – водопровод, канализацию, электросеть, телефон, а потом воздвигать жилые здания.
Эти предложения, сформулированные в диссертации, заслужили рекомендации самые лестные. В частности, Антон Георгиевич Фивейский, которому Сомов и Аравский немало крови испортили своей критикой, Антон Георгиевич, прославленный еще до революции своим так и не осуществленным проектом Северной лавры, дал блестящий отзыв на диссертацию своего постоянного оппонента и неутомимого критика. Антон Георгиевич пренебрег всеми личными обидами и при публичной защите диссертации поддержал Владимира Сомова. Более того, именно он первый и сказал, что без соблюдения положений, выдвинутых Владимиром Сомовым, «мы будем строить на песке, и наше градостроительство зайдет в тупик».
И Сомов, отправив свою докладную записку в ЦК и Совнарком, спокойно ждал победы, тем более что в 1932 году был ликвидирован РАПП и другие подобные ему организации в искусстве, и этим был нанесен удар по всяческого рода псевдореволюционным и левацким теориям.
Но в одно далеко не прекрасное утро, развернув одну из центральных газет, Владимир Сомов глазам своим не поверил: Анатолий Аравский выступал о резкой критикой основных положений диссертации Сомова и докладной записки его. Аравский утверждал, что «хотел этого Сомов или не хотел», но, если всерьез отнестись к его предложениям, это означало бы попытку затормозить реальное дело социалистического градостроительства. «Если бы мы всерьез взяли установки Сомова, – писал Аравский, – мы не построили бы ни Сталинградского тракторного, ни Днепрогэса, ни Магнитогорска...»
– Но как же так? Почему ты раньше всего не сказал о своем несогласии мне самому? – спросил по телефону Владимир.
– Так ты же все лето был в отъезде! А мои взгляды сложились за это время, – ответил Анатолий.
На партийном собрании, где разбиралось это дело, Владимир Сомов заявил, что ни в какой степени не опорочивает методов строительства городов первой пятилетки. Его диссертация является взглядом в будущее, в завтрашний день нашего градостроительства. Но Анатолий Аравский в своем выступлении напомнил ему о его насмешках над «барачным» стилем. Заботу Сомова об удобствах рабочего населения он назвал демагогией, граничащей с троцкизмом, а всю теорию Сомова оппортунистической.
И тщетно потом Владимир Сомов брал слово для справки, говорил, что его предложения есть обобщение передового опыта градостроительства, ссылался на опыт строительства Днепрогэса, где прежде всего был построен поселок для строителей. Но слово было сказано: оппортунизм Сомова подвергался порицанию в резолюциях, в передовых статьях, о нем говорилось, как о чем-то само собой разумеющемся.
Между тем после ликвидации АРАСГа создана была Академия градостроительства и при формировании руководящих органов ее обошлись без Сомова. Президентом Академии избран был Фивейский, к которому издавна благоволил Сталин, заместителем его – Анатолий Аравский. От некоторых тайных доброжелателей своих, в том числе и от Касьяненко, Сомов узнал, что все злоключения его обусловлены тем, что Сталин с самого начала отрицательно отнесся и к его диссертации, и к докладной записке, что Аравский, вызванный к Сталину, согласился с его критикой Сомова и с охотой выступил в печати против старого друга.
Сомов не верил, чтобы Сталин мог поступить так, даже если он и считал Сомова заблуждающимся. Ведь до сих пор он знал Сталина совсем другим. Так что же делать? Писать письма, оправдываться? Признаваться в ошибках, каких не совершал?
Шли месяцы, Сомов был в нерешительности. Но после убийства Сергея Мироновича Кирова Сомова обвинили в том, что он скрытый и неразоружившийся троцкист, хотя он всегда был верным сторонником Центрального Комитета партии. На низовом собрании партийной организации его исключили из партии. И тут, еще не зная, чем кончатся все его злоключения, Сомов по совету Касьяненко написал письмо Сталину. Он категорически отверг всяческую свою связь с троцкистами и троцкизмом, но признал, что его точка зрения в вопросах градостроительства, возможно, является объективно оппортунистической, и попросил разрешения уехать на периферию и принять участие в строительстве одного из социалистических городов. Он отослал это письмо, и ему ничего не оставалось, как ждать решения своей участи.
В июле 1938 года Владимира Сомова со строгим выговором «за грубые ошибки в деле социалистического градостроительства» восстановили в партии. Ему даже обещали удовлетворить его желание и послать работать на периферию. Счастливый тем, что его восстановили в партии, он ждал назначения, но тут вдруг ход событий круто переменился. Анатолия Аравского арестовали, а Владимир Сомов, к своему величайшему удивлению, был назначен на его место. Оказывается, на этом назначении настоял Фивейский.
Последние годы бывшие друзья не встречались, и Сомов не знал, за что арестовали Аравского. Разговорам о том, что он оказался шпионом нескольких держав, Владимир не верил. «Ну уж наверное что-нибудь выкинул!» – думал Сомов, тем более что старик Фивейский все время жаловался, что работать ему с Аравским было невыносимо.
Сам Владимир Александрович со времени его назначения в Академию дружно работал с Фивейским. В годы войны, когда Сомову пришлось, отбросив все свои предложения, проектировать города на Урале и в Сибирской тайге, где на первых порах не мог не торжествовать столь высмеянный им «барачный» стиль, с него был снят партийный выговор. К концу же войны из правительственных кругов пришла директива, в основу которой была положена, к величайшему удивлению и нравственному удовлетворению Сомова, названная раньше «оппортунистической» программа градостроительства. Отныне она объявлялась обязательной.
Уважение и любовь к Сталину, особенно за годы Великой Отечественной войны, пожалуй, даже увеличились. Для Сомова в Сталине воплощалась воля партии к осуществлению коммунизма, лучшие устремления советского народа к будущему. Но все, что случилось с Сомовым в тридцать седьмом году, привело к тому, что он старался жить и работать так, чтобы не попадаться на глаза Сталину. Ему это удавалось. Похоже, что о нем забыли. На поверхности политической жизни фигурировал Фивейский, он был избран депутатом в Верховный Совет РСФСР, в шестидесятилетний свой юбилей награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в семидесятилетний – орденом Ленина.
Конечно, Владимира Александровича несколько покоробило то, что, когда ему исполнилось пятьдесят лет, эта дата никак не была отмечена. Ведь в правительственных сферах знали, не могли не знать, что Академия градостроительства держится на неустанной работе Владимира Сомова. И все же удовлетворение от того, что он достиг своего и Сталин забыл о нем, пересилили в нем естественное чувство обиды. Более того, то, что он не лезет на глаза начальству и ведет свою большую ответственную работу, не ожидая за нее похвалы и благодарности, и что Сталин о верности его не знает и не узнает, поддерживало в нем чувство удовлетворения и самоуважения. Ведь каждый проект нового города, в каком бы отдаленном краю нашей родины он ни воздвигался, обязательно проходил через руки Сомова, подвергался разбору, и автор получал от него полезные указания.
«Нет, я живу и работаю достойно и правильно...» – говорил себе Сомов, словно оспаривая кого-то, кто хотел зачеркнуть его работу. А он весь был поглощен своей работой и старался ко всему, что не касалось этой работы, не прислушиваться. Но сегодняшний разговор с Касьяненко и в особенности то, что произошло в Академии, когда он после обеда вернулся туда, разбередило его. Секретарь парткома, отсутствовавший во время столкновения Крылатского с Миляевым, уже дожидался Владимира Александровича в кабинете и попросил рассказать, как было дело. Владимир Александрович со всей объективностью рассказал, а секретарь парткома, круглоголовый, в круглых больших очках, слушал его, возбужденно ходил по кабинету, глубоко вздыхал и один раз даже принял валидол.
Владимир Александрович понимал его волнение, – история была неприятная, а он должен был довести о ней до сведения МК и ЦК партии. Спросят-то ведь в первую очередь с секретаря парткома. Потом, когда Владимир Александрович кончил говорить, секретарь парткома, несколько успокоившись, стал рассуждать вслух, и Владимир Александрович не без некоторого удивления услышал примерно то же, о чем они говорили с Касьяненко: о двух уклонах – формалистско-эстетском (Миляев) и догматично-левацком (Крылатский). Он предложил Владимиру Александровичу сделать на заседании парткома доклад об этих двух уклонах и потребовать от обоих уклонистов признания ошибок. Владимир Александрович дал согласие. Но после этого к нему явились оба носителя уклонов. Сначала пришел Миляев с лихорадочно багровыми пятнами на лице, весь сразу словно похудевший. Он говорил, что ему срывают возможность творчески работать, что он напишет об этом Фивейскому и в ЦК, что Крылатский давно уже завидует ему. Владимир Александрович заранее знал, что в ЦК прежде всего посчитаются с мнением Фивейского. Миляев бил наверняка. Но при этом видно было, что он все же напуган той сокрушительной атакой, которой его подверг «демагог» Крылатский. Владимир Александрович постарался его успокоить.
– Вы признаете свой проект не подлежащим критике? – спросил он Миляева.
– Что вы, Владимир Александрович! Но критика критике рознь. Я ничего не имею против критики со стороны такого всеми уважаемого партийного руководителя, каким являетесь вы...
И Владимир Александрович обещал взять проект Миляева домой, чтобы ознакомиться с ним в спокойной обстановке. К Миляеву Сомов относился настороженно, но результатами разговора с ним был удовлетворен. К Крылатскому он испытывал симпатию, он чувствовал какое-то сродство с ним, ведь и они с Аравским были в молодости такие же. Но когда Крылатский, весь насупившись и побагровев, стал читать ему свое заявление в партком, где были в тоне обвинительного заключения изложены все мыслимые обвинения против руководства Академии, Владимир Александрович, изрядно уже уставший и раздраженный, даже не стал его дослушивать и прервал чтение сухой репликой, что он, мол, просит не подавать этого заявления, а оставить его ему, Сомову...
– Но я требую, чтобы меня передали в распоряжение Комитета, я не желаю зря есть советский хлеб!
– Я рассмотрю ваше заявление, – сухо сказал Сомов. Ему тут же вспомнилось, что Касьяненко несколько раз сказал, что с охотой возьмет Крылатского к себе в Комитет, но, конечно, говорить об этом Крылатскому он не стал.
«Ну и пусть уходит, – думал он, вертя горячую подушку под своей еще более горячей головой. – Может быть, это избавит мальчишку от проработки...» В его разгоряченной голове Крылатский сливался с Аравским, раздражение против старого друга и некрасивая кампания, которую тот провел против него, сейчас как-то забылись. Он вспоминал Анатолия таким, каким знал в молодости: бескорыстным, резко принципиальным человеком и настоящим коммунистом. Хотя и на разных фронтах, но ведь они оба участвовали в гражданской войне. Анатолий, делегат X съезда партии, был ранен на льду Кронштадта и получил орден Красного Знамени. И что-то было в нем сходное с участником Отечественной войны, принадлежавшем к другому поколению, – Крылатским.
Настало утро. Владимир Александрович слышал, как мимо его двери, стараясь не разбудить отца, ходил Леонид, как он умывался в ванной, что-то наспех ел на кухне. Вот хлопнула входная дверь. Да, сын – взрослый человек, начинает жизнь с новыми надеждами, с новыми иллюзиями. Сколько ему еще предстоит разочарований и огорчений и как хотелось бы своим опытом помочь ему и всем этим юношам!








