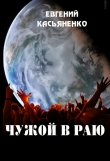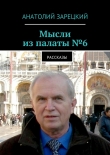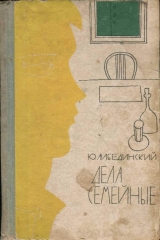
Текст книги "Дела семейные"
Автор книги: Юрий Либединский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
– Очень кстати, – весело сказал Сомов. – Как раз сегодня у меня просмотр проектов, пройдемся из комнаты в комнату...
В начале будущего, 1953 года предполагалось устроить генеральную выставку в Москве с таким расчетом, чтобы каждая союзная республика выставила бы по одному наилучшему проекту города. До последнего времени архитекторы-градостроители работали под непосредственным руководством Фивейского. Уезжая в отпуск, Антон Георгиевич просил Сомова лично просмотреть все экспонаты и сделать свои замечания. И теперь, вместе с Касьяненко проходя из комнаты в комнату и выслушивая его по большей части резонные замечания, Сомов думал о том, что старик по своему обыкновению схитрил, дав ему это поручение перед самым своим отъездом. Замечания по проектам он выслушает, уже вернувшись и основательно отдохнув, а за это время Сомов будет иметь время сформулировать свои замечания не сгоряча, как это получилось бы сейчас, а в виде положительных предложений, в которых Антон Георгиевич разберется без затраты излишних усилий.
«Все византийские штучки...» – думал Сомов о Фивейском, сразу и о характере и о стиле его, когда они задержались перед проектом молодого архитектора Миляева, любимца старика Фивейского, работавшего в его мастерской под непосредственным руководством этого старого мастера.
Сейчас в обходе кроме Касьяненко, Сомова и двух его заместителей участвовала большая группа аспирантов, авторов проектов. К стенду, на котором выставлен был проект Бориса Миляева, подошла довольно большая толпа.
Борис Миляев вышел вперед и стал давать пояснения к проекту. Он был невысокого роста, но это скрадывалось необыкновенной ладностью его сложения. На нем был военный, хорошо пошитый офицерский мундир, на плечах выделялись следы погон, колодки свидетельствовали о многих наградах. На его красивом лице, которое Сомов привык видеть самоуверенным, сейчас заметно было волнение, красные пятна появлялись и исчезали на щеках, и Сомов, знавший, что Миляев несколько раз был ранен на фронте, с сочувствием подумал, что он болезнен и хрупок. Стараясь держать себя спокойно, он докладывал общие предпосылки проекта, быстро водя большой указкой над макетом.
На большой северной судоходной реке строилась гидроэлектростанция, на базе ее энергии предполагалось на большом пространстве лесов электрифицировать лесозаготовки, построить бумажно-целлюлозный комбинат, мебельную фабрику. Новый город должен был поглотить несколько старинных сел, где располагались колхозы с животноводческим уклоном.
Борис Миляев положил в основу проекта расположенный поблизости от гидроэлектростанции, на лесистой возвышенности, старинный, северо-русской архитектуры храм. Повторяя и варьируя его купола и белые стены, должен был подняться новый город, его профиль четко и красиво намечен на рельефном чертеже.
Сомову сразу вспомнился знаменитый проект «Северной лавры» Фивейского, проект хотя и неосуществленный, но прославивший старика еще до революции. Видно, что в проекте Миляева Фивейский осуществил свою давнюю мечту.
Миляев закончил свою речь совсем по-другому, чем ее начал, – голос его звучал громко, звонко. Замолчав, он не без щегольства обвел указкой вокруг своего макета, как бы говоря этим жестом – дело говорит само за себя.
И правда, макет был хорош. Среди необозримых хвойных лесов над широкой рекой на холме высился город со множеством шпилей, которые как бы имитировали церковные колокольни, как бы варьировали старый храм.
Касьяненко, обращаясь к автору проекта, задал несколько вопросов, – они относились к тому, как он представляет себе возрастание будущего города, спросил о характере почвы, не болотистая ли она.
– Нет, пески, – быстро ответил Миляев.
– Вы уверены?
– Как же, я оттуда родом... – И Миляев усмехнулся и с некоторой заносчивостью вскинул маленькую и красивую голову.
Получив ответ, Касьяненко в раздумье погладил подбородок, как бы пробуя, насколько хорошо он побрит. Впрочем, примерно так же реагировал он и на проект азербайджанского автора, и на эффектный проект «Города в пустыне», который представил коллектив проектировщиков Узбекистана.
Сомов, который хорошо знал Касьяненко, с самого начала заметил, что тот чем-то недоволен, но не хочет делать слишком скоропалительных выводов. И по всей вероятности, они прошли бы так же молча мимо проекта Миляева, как проходили мимо других проектов, но вдруг раздался чей-то взволнованный голос:
– Разрешите задать вопрос!
Александр Крылатский, на чей глуховатый голос обернулись все присутствующие, как и Борис Миляев, пришел из армии и тоже был несколько раз ранен. Но в отличие от Бориса, который в армию пришел из института и служил по специальности – военным инженером, Саша Крылатский вступил в армию в первые дни войны, на родине, в Белоруссии, партизанил в тылу у немцев, и, когда партизанская часть, в которой он служил, соединилась с Красной Армией, его, кандидата партии, послали в школу лейтенантов. Командир взвода, а потом роты, он дрался в 1943 году на Западном фронте, был ранен, получил звание старшего лейтенанта и как командир батальона участвовал в освобождении Белоруссии. На этот раз он был ранен настолько тяжело, что на фронт не вернулся, а поступил в Академию градостроительства.
Сомов давно знал его, и потому вопрос, который Крылатский задал Миляеву, не удивил его.
– Скажите, товарищ Миляев, – спрашивал Саша, самолюбиво краснея, точнее сказать, бурея всем своим старообразным и худощавым лицом, – считаете ли вы, что ваш проект может облегчить проблему создания новых социалистических городов для других авторов проектов?
– Дорогой Александр Пантелеймонович, – покровительственно-ласково ответил Миляев. – Уже в самой постановке вашего вопроса я чувствую подвох. Потому отвечу вам прямо, – в тех единственных, по своему характеру, условиях, в которых будет построен Северный город, я считаю, что никакой иной город, кроме предложенного мной, не может быть построен. – Он быстро взглянул на Сомова, явно ища одобрения, потом на Касьяненко, боязливо и вопросительно.
– А он не будет так построен, как вы хотите его построить, – волнуясь и сильнее обнаруживая белорусский акцент, сказал Крылатский. – И если мне будет разрешено, я скажу почему.
Сомов не успел еще ничего ответить, как Касьяненко быстро проговорил:
– Пожалуйста, пожалуйста...
И Крылатский заговорил. Это было нападение прямое, страстное и по форме, пожалуй, грубоватое. Он начал с того, что ответил на вопросы Касьяненко, заявив, что перспективный план строительства не соответствует прогрессивному росту населения. Потом стал критиковать резкое несоответствие проектируемых жилых зданий с тем, что имеется в индустрии жилищного строительства. Тут Миляев, сильно расстерявшийся, обрел дар речи:
– Так вот как! Вы хотите шаблонизации, стандарта! А там, где стандарт, кончается искусство!
– Черт с ним, с искусством! – ответил Крылатский. Его слова вызвали бурное возмущение молодежи, он сразу потерял все то сочувствие, с которым его слушали.
– Это позор, что наше крестьянство ютится в старых деревнях, которые привыкла воспевать наша декадентская поэзия!
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые
Как слезы первые любви!
Это гадость и барство!
– Ты ничего не понял!
– Это ведь Блок!
– А хоть бы Пушкин! – старался перекричать Крылатский своих оппонентов. – Я заявляю, что не буду с этим мириться, и не я один! Сельскохозяйственное производство, колхозный строй, основанный на машинной технике, повелительно требует новых форм общежития! И не безжизненная архаика и стилизация под церковный стиль нужна нам сейчас. Нет, мы не пойдем по этому пути. Открыто заявляем, как сторонники индустриализации жилищного строительства, сторонники типовых стандартов: мы хотим всю нашу необъятную страну застроить социалистическими городами, чтобы колхозное крестьянство наше и рабочий класс пользовались бы всеми удобствами городской жизни: водопроводом, газом, теплоцентралями, кинематографами, театрами...
– Получается, будто бы я против всего этого! – сказал Миляев, бледный, с лихорадочными пятнами румянца на щеках. – Вернись к моему проекту, там все предусмотрено...
– Это предусмотрено только в одном городе, а нам таких городов нужно построить тысячи. Предполагается, что проект вашего города даст образец для всех нас, а он уводит в болото, потому что, кстати сказать, почва там болотистая, и не мешало бы подумать о мелиорации всей местности. Если хотите знать, географические условия, бесконечно разнообразные, скорей продиктуют чуткому проектировщику каждый раз новые особенности новых городов, а не остатки старины...
– Конечно, дай таким, как вы, простор, и вы всю нашу землю застроите космополитическими казармами и вконец загубите те своеобразные особенности национальной формы, которые сейчас пышно расцветают в каждой республике... – отчеканивая каждое слово, сказал Борис Миляев.
Крылатский развел руками и своими светло-желтыми глазами, как бы прося защиты, взглянул на Касьяненко и Сомова.
Касьяненко примирительно сказал:
– И та и другая сторона в горячности нагородили изрядное количество чуши, но, между прочим, кое-что сказано правильно. Как вы считаете, Владимир Александрович?
– Несомненно, – согласился Сомов. – Ведь мы здесь никаких решений принимать не будем. Надеюсь, что творческая дискуссия, не случайно разгоревшаяся возле этого стенда, принесет всем пользу. А сейчас мы проследуем дальше...
Пока о позиции Касьяненко можно было только догадываться, но она стала явной при рассмотрении проекта, представленного группой донбасских проектировщиков, – здесь кварталы раскинулись широко, они перемежались зелеными массивами, спортплощадками и стадионами. От места выработки угля жилые кварталы отделялись отрогами горного кряжа, поросшего дубовым лесом.
– А если обнаружится, что этот горный кряж тоже состоит из каменного угля? – спросил Касьяненко.
– Не обнаружится, – медлительно ответил один из авторов проекта. – Он весь сложен из известковых пород.
Касьяненко удовлетворенно кивнул головой.
– Проверь-ка, проведен ли подобного рода анализ почв при составлении проекта Северного города. Кажется мне, что Крылатский прав... – шепнул он Сомову.
Осмотр подошел к концу.
– Может быть, вы соберете авторов проектов и скажете им свою оценку их работы? – предложил Владимир Александрович Касьяненко, когда они вернулись в тихий кабинет президента Академии.
– Нет, нет... – быстро ответил Алексей Алексеевич. – Что значит оценка? Неминуемо придется говорить о художественной стороне проектов, которые подверглись столь страстному обсуждению, а тут мои оценки могут оказаться и весьма субъективными и недостаточно квалифицированными. Да и сумбур у меня в голове стоит изрядный... – Он помолчал, словно в нерешительности. – Знаешь что, – сказал он просительно, положив свою теплую руку на колено Владимира Александровича. – Поедем сейчас ко мне, право! Расставаться нам сейчас нельзя, мысль моя кружится вокруг того, что я у вас здесь увидел и услышал, вот и поедем ко мне обедать, там и продолжим разговор. А то мне врачи прописали вести регулярный образ жизни. А мою Катерину Васильевну ты знаешь, – если я только не приеду, она меня будет пилить час за часом, день за днем, пока не признаю свои ошибки и не отмежуюсь... Ну, как ты?
– Да вот мне через час принесут сюда обед, – ответил Сомов, взглянув на часы.
– Тем более, значит, и у тебя обеденный перерыв, вот и поедем, пообедаешь со мной!
Сомов согласился. Обещав Раисе Васильевне после обеда еще вернуться в Академию, Владимир Александрович сошел вниз и сел рядом с Касьяненко в его бронированный «виллис».
– Не могу с военных времен расстаться! Что за машина, везде пройдет, любую гору берет, из любого рва выбирается. Ну что бы мы делали с твоим «ЗИСом»?! Пришлось бы через центр ехать! А на «виллисе» мы рванем через весь этот разрытый Юго-Запад и сиганем через буераки и ямы на Калужское шоссе, где и находится моя хата... Ты у меня бывал?
Владимир Александрович не успел ответить, так его тряхнуло, потом мотнуло влево, бросило на Касьяненко, крепко держащегося за баранку. Его генеральская фуражка залихватски сползла набекрень. Владимир Александрович получил ощутительный удар в голову.
– Держись крепче! – предостерегающе крикнул Касьяненко.
Сомов взглянул в окно: «виллис» на второй скорости с воинственным рокотом, окутываясь дымком, неустрашимо пер вверх по какому-то сорокапятиградусному откосу.
– Что, зашибся? – участливо спрашивал Алексей Алексеевич. – Мне бы предупредить, что здесь нужно за боковины держаться. С непривычки, конечно...
– Ничего, ничего, я ведь тоже на «ЗИСе» разъезжаю, когда Фивейский в отпуску, а так у меня «газик»...
– Ты только погляди в окно, где мы едем! – с восторгом сказал Алексей Алексеевич. – Какой рельеф местности! Здесь с того берега реки перекинется путепровод, вот этот бугор срежется, и проложим продолжение главной магистрали. А тут, по склонам, поднимутся жилые кварталы. Будет где поработать вашим мальчикам!
– Вы что-то, кажется, не очень довольны их работой! – усмехнулся Владимир Александрович.
– Нет, нужно сказать, что все это юноши способные, свое дело знают, работают с огоньком. Некоторые проекты, как глаза закрою, так словно въявь вижу. А этого парня, Крылатского, я у вас заберу, хотя он и петуха пустил под конец. Но помнится, вы в молодую пору, с дружком вашим Анатолием Аравским, ратовали за то, чтобы архитектура и градостроительство определялись бы потребностями социалистического строительства. Где он, кстати Анатолий Аравский?
Владимир Александрович взглянул на Касьяненко: не мог он не знать, что Анатолий Аравский арестован. Но Алексей Алексеевич не отводил своих светло-голубых, словно вылинявших глаз.
– Вам же известно, что мы с Анатолием поссорились, и что с ним стало, я, по совести, не знаю...
– Значит, не знаете? – медленно произнес Касьяненко. – Ну что ж, не знаете, так не знаете. А взгляды ваши молодые, – не кажется ли вам, что вы их несколько порастеряли?
– Нет, не растерял.
– Тогда почему же вы разрешаете молодым вашим товарищам при проектировании новых социалистических городов исходить только лишь из эстетических требований? Этот Миляев, он еще доставит вам немало хлопот...
– Как и его оппонент.
– Я сказал, что оппонента заберу к себе.
– Ну и берите на здоровье!
– Не ко двору пришелся, а?
– Слушай, Алексей Алексеевич, мы с тобой не первый год работаем в одной области. Высотные здания построились на наших глазах, и то, что они радикально изменили облик нашей столицы, это ясно! Каждому ясно. И так же ясно каждому, кто работает в архитектуре и градостроительстве, что за Москвой начинается вся наша страна.
– Ну, как говорили мои украинские деды: дурень думкой богатеет!
– То есть хочешь сказать, поживем-увидим?..
– Именно так. И тут я тебе скажу, что вопрос всех вопросов состоит в том, о чем говорил этот самый Крылатский: нам нужно ставить вопрос о том, чтобы изменить жилищное положение не десятков и даже не сотен тысяч, а миллионов...
Они мчались по Калужскому шоссе, любуясь раскинувшимися вокруг них лилово-зелеными просторами. Потом круто свернули в сторону и подъехали к даче Касьяненко, построенной в гущине молодого лиственного леса. Дача показалась Сомову приземистой, он вспомнил, что до войны здесь стоял двухэтажный дом. Въехать во двор они не смогли, так как на их пути был вырыт большой котлован, и потому слезли у ворот.
– Видишь ли, дом этот экспериментальный, я сам его складывал из микропоровых плит, новый строительный материал. Достоинство этого дома в том, что он не имеет второго этажа. Сердце пошаливать стало, и второй этаж мне не под силу. А недостаток, – что в нем отсутствует центральное отопление, а с печным страшная возня и грязь... Вот я и придумал: все отопление перенести в подвал, внизу установить котел центрального отопления, туда же засыпать уголь или дрова.
– А что это такое? – с изумлением спросил Владимир Александрович, остановившись перед странным строением, – это был врытый в землю кургузый фургон, в крышу его, как-то накось, была вделана труба.
– Это? Разве ты не видел? Ну конечно, ты бывал в нашем большом доме, который во время войны сгорел. Так, значит, ты впервые видишь этого уродца? Тут, дорогой мой, не обойтись без исторического экскурса. В 1926 году, когда я работал в МК, нам впервые розданы были участки для дачного строительства. И поскольку у нас с Катей был пятилетний сын и уже в проекте был второй, я не счел возможным отказаться и получил вот этот участок. Хорошо, участок получил, леса много, река поблизости, но ведь что-то нужно на участке этом поставить. Думали мы, гадали, со всеми советовались, и тут вдруг меня выручил Данилкин. Ты Данилкина помнишь? Первый директор автобусного парка... Когда я рассказал ему о своей нужде, он вдруг сказал: «Эврика! Не унывай, Алешка, припаси сто пятьдесят карбованцев, приходи завтра ко мне на торги и купишь себе целую дачу!» Я, понятно, выразил изумление... «Очень просто! – сказал он. – Мы за границей купили партию автобусов, несколько лет пользовались ими в Москве. Но потом выяснилось, что превосходное качество моторов позволяет увеличить их грузоподъемность, и мы спроектировали свой кузов, гораздо более поместительный, и изготовили целую партию новых кузовов. А что же делать со старыми? Просто списать и бросить? Нельзя. Хозрасчет, режим экономии. Значит, нужно их реализовать, обратно перевести на деньги. Мы скалькулировали, определили их ценность и решили продать. Продавать будем через свободные торги – 124 рубля, кто больше! Вряд ли кто даст больше. Но ты на всякий случай прихвати 150 рублей, ведь торги есть торги...»
И я, запасшись стапятидесятью рублями, взятыми в аванс в счет зарплаты, пошел на торги и, представь себе, за сто тридцать рублей купил вот этот кузов. Друг Данилкин перевез его мне сюда за пятнадцать рублей, установили мы его сами, на следующий год поставили даже печку-«буржуйку» и жили в нем до тридцать четвертого года каждое лето, детей вырастили, да... В тридцать четвертом году основался дачный кооператив, и тут воздвигли мы довольно симпатичный дом, который ты помнишь. Но эту реликвию я сохранял – черт его знает почему, из сентиментальных чувств, – к тому же здесь сберегались зимой всяческие сельскохозяйственные орудия. А осенью тысяча девятьсот сорок второго года заехал я как-то сюда, Катя с внуком и младшим сыном была в эвакуации, старший в армии, затосковал я что-то. Заехал и ахнул: вместо благоустроенной дачи – одно пожарище, – оказывается, какой-то мимолетный фашист сбросил зажигалку, дача сгорела, а этот урод, можешь себе представить, стоит как стоял! Сначала я разозлился, хотел все бросить, а потом какое-то странное ожесточение напало на меня: так нет же, не уйду я с этого места! Уйти только из-за того, что какая-то гадина сбросила сюда свою вонючую зажигалку? И когда Катя вернулась из эвакуации... Вот, Катя, припоминаешь старого знакомого Володю Сомова? – обратился он к жене, которая в этот момент подошла к ним. – Помнишь, как ты не хотела снова селиться в этом вагоне?..
– Как же, помню... – Катя Касьяненко, сильно поседевшая, раздавшаяся, – Сомов помнил ее молоденькой, она тоже была секретарем вузовской «просвещенной» ячейки, – крепко тряхнула его руку. – Это действительно обидно, Володя, на старости лет, и все сначала, снова в старый кузов...
– А ничего, и начали... Три года жили опять в старом кузове. Потом нам в порядке испытания поставили это микропористое жилье. Ну, а этого инвалида я берегу и внукам закажу его беречь...
За столом, на местах, где сидели раньше сыновья Касьяненко – они оба были убиты в Великую Отечественную войну, – сидели теперь внуки, дети старшего сына. Было ли в истории с кузовом что-то очень советское, неистребимое, или очень уж похожи были внуки на сыновей, – и в этом тоже было утверждение нерушимости нашей жизни, – но непритязательный обед, вегетарианский и протертый, показался Сомову особенно вкусным.
К концу обеда разговор вернулся к утренним впечатлениям.
– Сам-то ты вполне доволен работой своих воспитанников? – спросил Касьяненко.
– Видишь ли, – с некоторым смущением ответил Сомов. – По разделению труда я ведаю административно-хозяйственной стороной деятельности Академии, в творческой задает тон старик.
– Понятно, понятно... Так я думаю: именно ты должен понять, почему работа ваших товарищей вызывает у меня недовольство. Конечно, этот белобрысенький Крылатский типичный загибщик, и все же он в своей критике прав! Ведь не случайно Миляев сбил весь свой проект в кучу, вокруг той старинной церкви. По всему видно, что, если мы последуем этому проекту, скученность в новом городе будет неимоверная. Скученность и антисанитария. Да что я говорю, этого не будет! Потому что проект этот в таком виде осуществлен не будет, ты, конечно, это сам прекрасно понимаешь. При переработке советую обратить внимание на почву, Крылатский не случайно сказал о болотистости, здесь необходимы будут мелиоративные работы, значит, пройдет целая система каналов, а это подсказывает планировку Амстердама, Венеции... Да нет, ты не записывай, это я так.
– Как же не записывать, ведь мне нужно будет завтра со всеми проектировщиками разговаривать.
– А если так, пойдем дальше. Ты на этого Миляева не особенно напирай, я взял его только для примера, чтобы показать, насколько ваши молодые товарищи отклонились от основных принципов социалистического проектирования. Научите их во главу угла ставить интересы и нужды народа! Жилищное положение наше после войны напряженное, если уж строить, так с размахом, с тем, чтобы удовлетворять нужды м и л л и о н о в. А этот товарищ Миляев проектирует строить свои хоромы из белого камня. А откуда же он его повезет, если в тех краях белого камня нет? Зато кругом неисчерпаемые лесные богатства, а он их игнорирует. Я, конечно, не специалист и не художник, но, насколько мне помнится, искусство строить из дерева – это наше национальное искусство. И потом как-то не удовлетворяет меня однотонность пейзажа, эти белые и серые краски. А Василий Блаженный? Впрочем, это я так, к слову...
– Нет, нет, очень интересно...
– Вот и получается, что проектировщики Северного города не знают, что делать с водой, а проектировщики «Города в пустыне» вопроса о водоснабжении так и не разрешили.
– Так ведь там же должен пройти канал!
– Ну, как же можно об этом забыть? Но канал пройдет через десять лет, а нефть, из-за которой и возникает этот город в пустыне, добывается уже сейчас. Значит, нужно сейчас думать о воде? Что же, ее на машинах подвозить? Или строить бассейны-водохранилища для сбора зимних осадков? Ненадежное это дело!
– Наверное, придется артезианские колодцы рыть, ничего не сделаешь...
– Так-то, мой друг Володя, эстетика без техники – формализм, а техника без эстетики – рационализм...
– Ну вот и хорошо. Два уклона нашли, значит, все правильно... – посмеиваясь, говорил Владимир Александрович уже в передней.
– А что ж, значит, и генеральная линия ясна! – в тон ему ответил Касьяненко, крепко пожимая руку и снизу вверх глядя на старого друга.