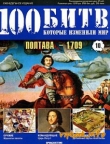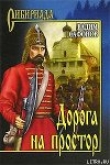Текст книги "Гайдамаки. Сборник романов (СИ)"
Автор книги: Юрий Мушкетик
Соавторы: Николай Самвелян,Вадим Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 56 страниц)
– Не знал. Отчего он помер, не татары ли подстрелили?
– Окунь несколько лет из куреня не выходил. Ему уже, кажись, за восемьдесят было. Захотел в последний раз верхом проехать. Видно, чуял уже смерть свою. Сел на коня, конь на дыбы, а дед с него. Мы к Окуню – готов. Где уж там было ему удержаться на коне.
Аргатал не стал слушать дальше разговорчивого запорожца и пришпорил коня. Когда он догнал своих, один из монахов, всё ещё оглядываясь на похороны, спросил:
– Для чего чару за гробом несут?
– Знать, пьющий был казак, – пояснил аргатал. – Разве вы никогда не видели такого, ваше преподобие? Нет? Когда непьющий умирает – хоругвь белую несут за гробом. Однако редко такое приходится видеть.
Мелхиседек хотел что-то сказать, но Зализняк выровнял коня и показал нагайкой на улицу, отходившую в сторону:
– Вам сюда, никуда не сворачивайте, улица прямо к монастырю приведет. Да вон и колокольню видно – церковь рядом с монастырем.
Мелхиседек повернул коня. Узенькая улочка действительно привела их к монастырю. Монахи сошли с коней; ведя их на поводу, вошли в монастырский двор.
Передав поводья монаху и спросив какого-то послушника, где помещаются комнаты игумена, Мелхиседек направился к деревянному домику около ограды. Сечевой игумен встретил Мелхиседека очень приветливо. Расспрашивая о дороге, засуетился, сам собирая на стол; потом угощал чаем со свежими ароматными просфорами, однако, чтобы не показать себя невежливым, о цели приезда не спрашивал. Послушав Мелхиседека, стал говорить сам: о своём монастыре, о татарских набегах, сетовал на соборного старца – начальника церковных служителей на Сечи, рассказал, как попал сюда. Он принадлежал к тем людям, которые больше любят рассказывать, нежели слушать, и наилучшим собеседником считают тех, кто слушает их, не перебивая. Мелхиседек не прерывал; он сидел молча, ощупывая игумена своими колючими глазами.
«Нет, на него положиться нельзя, – наконец решил он про себя, – никчемный человек». И вслух сказал:
– Зело интересные вещи рассказываете. Я ещё вечерком зайду к вам, если не возражаете. Кошевого бы мне повидать. Еду я из Петербурга, удостоила меня государыня грамоту передать ему.
– Может, что про наш монастырь? – насторожился игумен.
– Сам того не ведаю, запечатана грамота; только я нахожусь в сомнении, чтобы про монастырь в ней говорилось. Где сейчас кошевой?
– Вряд ли вы застанете его дома. Собирался он сегодня куда-то, будто в зимовник свой. Завтра после утрени отдадите, он будет в церкви.
– Не проспать бы, утомился немного, – зевая и поглядывая на дверь соседней кельи, молвил Мелхиседек.
– Не беспокойтесь, – замахал руками игумен, – я скажу пономарю, он разбудит. Пойдет поднимать кошевого и к вам зайдет. Вы, я вижу, отдохнуть хотите с дороги. Прошу вот сюда, до вечера ещё успеете отдохнуть.
…Проснулся Мелхиседек перед заходом солнца. Взял в руки высокий, похожий на меч посох, отправился осматривать Сечь. Сечевой игумен хотел было дать в провожатые кого-нибудь из послушников, но Мелхиседек отказался.
По улицам тут и там слонялись запорожцы. Одни проходили быстро, очевидно спешили по каким-то делам, другие же – а таких было большинство – бродили без дела от куреня к куреню, от одной группы к другой.
Держась рукой за тын, отыскивая места посуше, Мелхиседек добрался по размокшей грязной улице до майдана. На краю майдана стояли в ряд несколько шинков. Приземистые, покосившиеся, они глядели своими подслеповатыми окнами в землю, как будто стыдясь посмотреть в глаза прохожим. Каждый навес поддерживали два трухлявых столба, отчего шинки походили на нищих, которые, опершись на палки, выстроились возле церковных ворот. Около второго от края шинка Мелхиседек заметил порядочную толпу запорожцев. Они стояли полукругом около завалинки. Посреди толпы сидел слепой кобзарь с сизоватым двойным шрамом на лбу. Около него, поджав под себя ноги, примостился мальчик. Кобзарь качал длинной седой бородой, перебирая сухими руками струны почерневшей от давности кобзы. Кобзы почти не было слышно – ее заглушили сильные казацкие голоса. Мелхиседек прислушался. Чтобы лучше разобрать, о чем поют запорожцы, он обошел лужу и приблизился к толпе. Запорожцы, обнявшись за плечи, притопывали ногами, громко пели:
У нашого отамана
Нема штанів, ні таляра.
Ой, скиньмося по таляру,
Купим штани отаману,
Штани мої ряднянії…
Мелхиседек больше не мог выдержать.
– Если стыда не имеете, хотя бы греха побоялись! – громко крикнул он.
Запорожцы смолкли, удивленно оглянулись назад и расступились, пропуская вперед Мелхиседека.
– А ты, вместо того чтобы бога славить, – продолжал он, обращаясь к кобзарю, – срамные песни поешь.
Кобзарь поднял невидящие глаза и заговорил тихо, по привычке слегка касаясь пальцами струн:
– Не знаю, кто ты, человече божий, однако напрасно мешаешь веселиться. Будь спокоен: бога мы не забываем, не во гневе он на нас и за песни эти. В песне – радость, утешение.
– Разве в таких песнях утешения ищут? – Мелхиседек обвел взглядом запорожцев. – Есть молитвенные, божественные песни: что могли бы мы знать без молитвы? С нею легко крест земной нести.
– Можно несть, – негромко, а все же так, чтобы услышал Мелхиседек, промолвил один из запорожцев, – когда в кармане есть.
Он хотел ещё что-то добавить, но Мелхиседек обернулся, взмахом обеих рук сразу остановил его.
– Помолчи лучше! Пока уста сомкнуты, ты ещё хозяин своего слова, а отверзлись, вылетело – им уже дьявол владеет. Мы часто не думаем, что говорим, в том и беда наша…
– Батюшка, право же, бога мы славим прежде всего, – спокойно, негромко заговорил один из запорожцев, встав напротив Мелхиседека. – Денно и нощно ему молимся. А сейчас нам не мешай, проповеди читать у нас свой поп есть. Господь веселых людей любит. Эй, кобзарь, метелицу!
Кобзарь ударил по струнам. Запорожец топнул ногой на месте, хлопнул ладонью по голенищу и, раскинув руки, пошел по кругу, часто перебирая ногами. Вдруг он, словно бы обо что-то споткнувшись, подался вперед, присел на правую ногу, выбросив вперед левую. И шагом пошел по кругу вприсядку.
– Нехристи иродовы! – выругался Мелхиседек. – Прости, господи, что согрешил, – шептал он, отходя от запорожцев.
– Ух и пляшет, словно его черт вилами подбрасывает. Мотню не разорви, – донеслись до него голоса.
Мелхиседек не оглядывался. Он не шел, а бежал через площадь. Едва не наткнулся на какую-то телегу – это посреди майдана расположился на ночь обоз с рыбой. Обходя возы, оступился в лужу и, выскочив на сухое, остановился.
«Нужно возвращаться в монастырь», – подумал он.
Однако идти снова мимо шинков не хотелось. Мелхиседек взглядом обвел майдан, раздумывая, по какой улице лучше пойти.
– Ваше преподобие, – внезапно услышал он сбоку, – чего-то вы одни посреди майдана стоите?
Мелхиседек оглянулся. Возле него стоял Зализняк.
– Просто так, – ответил он нетвердо. – Сечь осматривал, теперь хочу в монастырь попасть.
– Заблудились? Вот так через майдан идите.
– Я уже шел этой дорогой, хотелось бы назад по другой.
– Пойдемте со мною, я провожу вас, – предложил Максим.
Они пошли рядом.
– Не думаешь на Сечи остаться? – после некоторого молчания спросил Мелхиседек и остановился перед лужей, разыскивая глазами место посуше.
Зализняк указал рукой на чуть заметную тропинку между двумя колеями.
– Сюда идите. – И, помолчав, добавил: – Оставаться мне тут не хочется. Да и незачем.
Мелхиседек осторожно двинулся вперед, ощупывая посохом дорогу.
– Куда же ты поедешь, снова к кому-нибудь наниматься?
– Выходит, что так. Куда-нибудь да поеду. Была бы спина, а дубина найдется. Скорее всего, вернусь в родное село.
Мелхиседек вышел на сухое место, немного подождал Максима, пошел рядом. Ему всё больше и больше нравился этот аргатал. Нравилось его открытое, смелое лицо, приятная, хотя и скупая улыбка, нравилось и то, как рассудительно он говорил, как внимательно вслушивался в речь собеседника.
– Слушай, а не пойти ли тебе к нам, в монастырь? Там никто не будет измываться над тобой: перед богом – все равны. Поработаешь на монастырском дворе, понравится – в монахи пострижешься. Ты говорил, что не женат. А не захочешь постричься – сможешь пойти, куда сердце влечет, никто тебя задерживать не станет.
Максим задумался.
«Ей-ей, правду говорит игумен, – размышлял он. – Перед богом все равны. А разве нет?»
– О! Максим! – прервал его мысли встречный казак. – Здоровый будь. Откуда? Каким ветром?
– Суховеем, – ответил Зализняк. – После расскажу.
Запорожец, видя, что Максим с монахом, не стал задерживать его.
– Заходи сегодня вечером в наш курень, – пригласил он.
– Ладно, Данило, – кивнул головой Зализняк, – зайду. – И, подойдя к Мелхиседеку, сказал: – Подумаю, ваше преподобие, может и приду. Оно на месте виднее.
– Ты грамотный? – немного погодя спросил Мелхиседек.
Зализняк покачал головой.
– Некому учить было. Отец немного знал грамоту, да где ему было со мною морочиться. Крестный обещался, у него и часослов, и псалтырь были, и ещё какая-то книжка, октоих или как-то так. Да вскорости помер.
Они дошли до монастыря. Мелхиседек попрощался и пошел в монастырский двор. Но, вспомнив что-то, остановился у калитки.
– Домой скоро едешь?
– Через неделю, может, немного позже, – не сразу ответил Максим.
– Давай вместе поедем, сподручнее и веселее. Дорога далекая.
– Отчего же, можно, – согласился Максим.
Мелхиседек прикрыл за собой калитку.
Со двора долетел приглушенный бас – Мелхиседек уже с кем-то разговаривал. Зализняк, пристально всматриваясь перед собой – уже были сумерки, – пошел к Тимошевскому куреню, где остановились аргаталы. В курене был один Роман.
– Ты что это так рано спать улегся? – толкнул его Зализняк.
Роман поднял голову, потер рукой открытую грудь.
– А что же больше делать?
– Горилку пить. Пойдем в гости к стебловцам, приятель мой давний, Данило Хрен, там, приглашал.
– В гости я всегда готов. – Роман долго возился в углу, отыскивая шапку. – В шинок будем заходить?
– За горилкой? Не нужно. Всё равно одной квартой всех не напоим, да тут так и не заведено. Они сами угостят. Не зря говорят, что на Запорожье бывает два дурня: первый, кто пришел в курень голодный, а второй, кто ушел оттуда не пьяный.
На пороге куреня, старый, немного сгорбленный, но ещё крепкий еврей брил запорожца. Захватив в пригоршню оселедец, он вертел голову запорожца то в одну, то в другую сторону, дергал кверху, задирал назад, а тот, красный, словно из него тянули жилы, кряхтел, сопел и тихонько поминал черта.
В просторном курене, аршин сорок длиной, людей было немного. В противоположном от двери конце, ближе к кухарской половине, горели две свечки, около них на перевернутой вверх дном бадье стояло ведро с медовой варенухой. С десяток запорожцев по очереди черпали ковшом. Закусывали вяленой таранью, лежавшей тут же, на бадье.
– Будь ты неладен, всегда так: когда дома пообедаешь – и тут зовут, – воскликнул после приветствия Роман. – И не просите, не сяду, – он уже сидел, по-татарски поджав под себя ноги. – Что ты припал, как вол к луже? – толкнул Роман высокого запорожца и протянул руку за коряком.
– Ух, матери твоей дуля! – довольно крякнул, хлопнув его по спине, здоровенный носатый запорожец. – Бойкий ты, и говоришь складно.
– Максим, чего стоишь, – сказал Данило Хрен, приглаживая неровные усы. – Садись вот тут, рядом со мной.
– Чего это у тебя левый ус наполовину короче?
– Порохом спалил. Костер раскладывал. Такие были усы!
– Хоть бы подрезал…
– Короткие будут совсем; потерплю, он скоро отрастет.
– Поспеши, Максим, – протянул ему коряк Роман, – а не то сам выпью.
– Этот выпьет, – показывая большие крепкие зубы, засмеялся носатый. – Истинный казак. Знаешь, как когдато, бывало, в сечевики принимали? Не слышал? – Рассказчик поудобнее уселся, пососал трубку. – В первый день берут казака запорожцы на сенокос. Сами возьмут косы – и на луг. А ему кашу поручают варить. «Крикнешь, – говорят, – с могилы, когда будет готова». Сварит тот кашу, выйдет на могилу и начинает кричать. Запорожцы лежат себе поблизости в кустах – и ни гугу. А у того каша уже пригорает, он чуть не плачет. Так вот и сгорит каша. Вернутся и прогонят его. А иной зайдет на могилу, позовет раза два, а потом плюнет и вернется к казанку. «Ну вас, – скажет, – ко всем чертям, кабы были голодны, сами бы пришли», за ложку – и садится есть. «О, это наш, – говорят, – этого можно принять, человека по еде видно».
– То когдато было… – бросил Жила.
– Было. А теперь…
Носатый запорожец махнул рукой.
– Перевелась Сечь. Видно, скоро её вконец разрушат. Царицыны люди всё здесь околачиваются, одни её указы какие-то возят, другие в пушки заглядывают да челны щупают, а третьи, черт бы их побрал, так те и вовсе не знать зачем толкутся. Не та Сечь, не та. Даже татары не те стали. Не разберешь – мирные они или немирные. Едут к нам с товарами, а мы к ним; до чего дошло – нанимаемся друг к другу.
Максим подержал коряк в руках, вылил варенуху и молча повесил коряк на бадью.
– Почему не пьешь, сам говорил дорогой, что хочешь напиться? – удивленно поднял брови Роман.
– Хотел, да уже расхотел.
– Не разберу я тебя, Максим, – Роман оборвал кусок тарани, пососал и снова положил на цебер. – Чудной ты какой-то. Иной раз привередничаешь, да только не должно бы этого быть. Откуда бы взяться этим прихотям?
– Не приставай! – бросил Зализняк, вынимая из медного кольца на поясе трубку.
– Нет, ты скажи, почему ты такой? – не отступался Роман. – Неужели тебе не хочется выпить?
– Хочется… как голодному по нужде выйти.
Роман приготовился сказать какую-то колючую остроту, но его перебил Хрен:
– В самом деле, отстань! Чего ты прицепился к человеку, как злыдни к нищему. Не хочет, и пускай. Ты, Максим, насовсем в Сечь?
– Через неделю домой поеду.
– Может, в нашем курене останешься? Что тебе дома – злыдни стеречь?
– А что у вас делать? Коней Карасевых пасти? Я их у аги напасся.
– Ого, у Карася есть что пасти. Двести восемьдесят жеребцов, – обронил какой-то запорожец, лежавший в тени за цебром.
– Двести восемьдесят! – даже Роман поднялся. – Больше, Максим, чем у нашего аги было. И вы держите такого в курене?
– Ты, парубок, видно, мало ещё горя видал. Помолчи, лучше будет.
– Чего же молчать, – возмутился Роман, – разве и на Запорожье не вольно говорить правду!
Наступило длительное молчание. Только нудно потрескивал фитиль да какой-то запорожец чавкал, обсасывая тарань.
– Видишь, хлопец, – загадочно и не торопясь проговорил Хрен, – вольно-то вольно, а только дурней всегда бьют.
Роман блеснул глазами.
– Смотри, дядько, чтобы я за такие слова по шее не заехал, хоть ты и старше. А то можно и на кирею встать.
[21]
– Не горячись, меня пугать нечего, – спокойно промолвил Хрен. – Я уже, сынок, дважды стрелялся на кирее. Это не бог весть что, было бы только из-за чего. Я тебе плохого не желаю, молодой ты, можешь в беду попасть.
Носатый запорожец протянул коряк:
– Выпейте вдвоем и не нарушайте доброй беседы. А я вам лучше расскажу одну быль. Случилось когдато мне заночевать у одного валаха…
Разговор повернулся к излюбленной запорожцами теме. Говорили о ведьмах, оборотнях, леших. Носатый запорожец рассказал, как он заснул на возу в чужой клуне и его со свистом и гиканьем возили вокруг сохи черти, как он перепугался и не мог ничего сделать. И только под утро догадался – вывернул сорочку, чертей сразу как водой смыло.
– А ты не пьяный был? – спросил один из слушателей.
– Крест святой, – божился запорожец, – утром ещё и след от колес на току видно было.
– Меня когдато такие черти возили, – вмешался Хрен. – Пришел я раз с крестин. А парубки понамазывали морды сажей да ещё и одежу мою под стреху запихнули, вот поискал я её на другой день. Максим, может, ты и вправду брезгаешь нашей чаркой?
Максим взял коряк и выпил крепкий сладковатый напиток, пахнувший медом и сухими грушами.
– Пускай вам Роман про чертей расскажет, – сказал он, улыбаясь. – Он с ними, как с кумовьями, жил.
– Не надо бы на ночь нечистого поминать, – несмело попросил кто-то.
– Да чего там, с нами крестная сила, – перекрестился носатый. – А ну-ка, ну-ка, хлопче.
– Правда, это не со мною было, – переворачиваясь на живот, начал Роман, – а с соседом. Поехал он однажды в лес…
– Не вертись, как на огне, – прошептал кто-то своему соседу, – слушай.
– Вот, значит, поехал он в лес, а за ним щенок увязался…
Зализняк легонько пожал Хрену руку и встал. Хрен вопросительно поднял на него глаза. Максим прижал ладонь к щеке, показывая, что идет спать, и, ступая тихо, вышел из куреня.
Ёжась от утреннего холода, Мелхиседек прошел в распахнутую настежь дверь. В церкви стояла полутьма, свечей горело немного, и в углах было совсем темно. Церковь была почти пустой, только возле аналоя столпились запорожцы – преимущественно старики, седобородые сечевые деды. Поспешно прошли на свои места писарь, есаул и судья. Подпономарь, который ежедневно будил их, сегодня немного опоздал – они были заспанные, с нерасчесанными чупринами. Мелхиседек брезгливо поморщился – возле аналоя кто-то громко икал. Отыскав глазами главный бокун
[22]
– отгороженное решеткой место для старшины, игумен увидел, что кошевой уже стоял там. Виднелась только его широкая спина в кирее и бритый затылок. Заутреню сегодня служил сам соборный старец. Постояв немного, Мелхиседек прошел в ризницу. При его появлении дородный лысоголовый поп испуганно встрепенулся и прикрыл что-то подрясником.
«Видно, похмелялся перед молитвой», – подумал Мелхиседек и спросил:
– Почему это в церкви пусто? Где казаки?
Поп поддернул под рясой штаны, завернул какую-то страницу в библии.
– Спят, как кабаны. Крестом же их в церковь не погонишь. Покойный кошевой, царство ему небесное, – поп перекрестился, – перед церковными выборами издал было указ всем заутреню слушать. На другой день пришел, а в церкви – хоть свистни. Он в ближайший курень: одного за чуб, другого. «Чего это вы, сучьи дети, молитву не слушаете?» – «Как не слушаем, – те ему в ответ, – мы нарочно и дьякона выбрали такого, чтобы в куренях его было слышно». А дьякон, не буду врать, бывало, как заведет, верите – потолок звенит. Однако жаловаться на запорожцев нельзя, бога они почитают и на подаяния не скупы.
Мелхиседек вернулся в церковь. Встал в левом крыле перед образом святого Николая, которого какой-то богомаз намалевал с непомерно длинной бородой и запорожскими усами. По окончании службы, когда все вышли из церкви, Мелхиседек подошел к кошевому Запорожской Сечи Петру Калнышевскому. Тому, очевидно, уже кто-то доложил о приезде правителя правобережных церквей, и Калнышевский встретил Мелхиседека без всякого удивления.
– Я должен поговорить с вами, – после приветствия сказал Мелхиседек.
Кошевой расстегнул кирею – после церковной духоты ему было жарко – и кивнул головой в сторону улицы.
– Прошу в мой дом. Там и поговорим.
Размахивая палицей, он двинулся от церкви. Он обходил только большие лужи и шагал так широко, что Мелхиседеку приходилось почти бежать. Иногда, вспомнив об игумене, кошевой замедлял ход, но спустя мгновение забывал и снова начинал выбрасывать палицу далеко вперед. Мелхиседек даже не заметил, как они вышли на майдан.
– А шинков у вас немало, – переведя дух, сказал Мелхиседек. – Видно, запорожцы изрядно бражничают.
– Угу, – согласился кошевой, – пьют, аспиды. Вчера иду я к складу, а один здоровило, пьяный, как чоп, кожух разостлал мехом вниз, сел на нем по-турецки и читает проповедь прохожим. Весь в грязи, словно чудище. Я к нему. «Чего ты, – говорю, – такой-сякой, расселся, точно сучка в челне?» А он мне: «Наставляю добрых людей на путь истинный, призываю хмельного не пить». – «Как же ты можешь других наставлять, когда сам, как свинья, пьян?» – «В том-то и дело, – отвечает. – Пускай на мне видят, какой вред горилка приносит. А то что бы из того было, если бы я им трезвый говорил». Ах вы, дьяволы… – внезапно прервал рассказ кошевой и, не промолвив больше ни слова, рысцой бросился через площадь в сторону торговых рядов.
Грязь брызгала из-под его сапог, полы киреи взлетали, словно крылья подстреленного коршуна, который силится и не может взлететь ввысь. Около хлебных рядов суетились запорожцы, слышался крик, громкая ругань. Мелхиседек видел, как при появлении кошевого часть людей бросилась врассыпную, другие обступили его, что-то доказывали, размахивая руками. Кошевой ходил между рядами лавок, зачем-то долго копался в мешках, потом снова останавливался, окруженный толпой. Он ещё некоторое время говорил с сечевиками, что-то щупал, отведывал, потом пригрозил кому-то палицей и вернулся назад.
– Кашевары взбунтовались, – отряхивая забрызганные грязью полы, пояснил он удивленному Мелхиседеку. – Хлеб им показался плохим. Вот они и прибежали все вместе и давай возы с хлебом в грязь опрокидывать. Чего им, аспидам, нужно, разве калачей? Подумаешь, велики паны. Хлеб как хлеб, я пробовал. С остьями немного – беда невелика. Пойдемте быстрей, нам уже недалеко.
В хате кошевого было уютно и тепло. Калнышевский снял кирею и кафтан и остался в шелковой голубой сорочке и синих, с широким золотым галуном шароварах. Он пригласил игумена завтракать. Блюда подавали два молодых повара. Ели сметану, потом борщ с мягкими пшеничными булками, жареную баранину с гречневой кашей, пироги с творогом и маком. Под конец завтрака кухарь поставил глиняную макотру
[23]
грушевого узвара и тарелку медовых пряников.
Вытерев губы концом шленской скатерти, кошевой поднялся из-за стола.
– Немного перекусили, теперь можно и о делах поговорить, – сказал он, – пойдемте, ваше преподобие, в светлицу.
Мелхиседек заметил – лицо кошевого сразу изменилось. Оно, как и раньше, выглядело немного простовато, но глаза посерьезнели – в них светился скрытый ум. Игумену и прежде казалось, что Калнышевский только прикрывается простотой, а в действительности он рассудителен и даже хитер.
– Атаман, – начал Мелхиседек, сев рядом с Калнышевским на скамью, – ты уже, наверное, догадался, что приехал я не с пустяковым делом. За пустяками в такую даль не ездят. Да будет тебе известно: еду я издалека, из самой Варшавы. Вернее, не из Варшавы, а из Петербурга, в Варшаве я проездом был. Послала меня к тебе наша государыня. Ты знаешь, атаман, меч и католическое распятие нависли над нашими православными церквами на правом берегу Днепра, горе и муки падают на головы тех, кто не хочет принимать унии.
Черные колючие глаза Мелхиседека заполыхали неукротимым огнем. Он говорил убедительно, со страстью.
Игумен рассказал, как на протяжении последних лет униаты всё дальше и дальше на Правобережной Украине ткали свою паутину, усиливали гонения на православных. Они уже повсюду, невзирая ни на кого, чинили насилия. Да и некому было их остановить. Внутренние раздоры, борьба за власть до предела расшатали прогнившие основы Речи Посполитой. Казна была пуста, жолнеры поразбредались по домам, местное управление пришло в упадок. Одновременно с этим Польша всё больше и больше подпадала под влияние России. Наконец в 1764 году на польский престол был посажен близкий к Екатерине II Станислав Август Понятовский. Однако уже вскоре значительная часть шляхты, недовольная направленной на сближение с Россией политикой Станислава, провела через сейм конституцию, по которой православие на правобережье запрещалось совсем и провозглашался врагом всякий, кто не принимал католической веры. Русское правительство, которое только и искало предлога, чтобы вмешаться во внутренние дела Польши, через своего посла в Варшаве Репнина заявило протест, пригрозив вооруженным вмешательством, и сейм издал новый указ об урегулировании прав католиков и диссидентов.
[24]
Тогда крупнейшие польские магнаты объявили, что они не признают постановления сейма, и снарядили посольство в Рим. В Польше, в мрачных дедовских замках потомственных князей, собиралась закоренелая католическая шляхта. Тут плелись коварные заговоры, вызревали черные помыслы. На Подольскую Украину двинулись шляхетские отряды Воронина, Мокрицкого, с благословения папы и частично вооруженные на его счет. Зашевелилось и местное дворянство. Чувствуя свою силу, шляхта начала жестокую расправу над православным духовенством.
Отказавшись выполнять королевские указы, конфедераты чинили повсюду свою волю. Польское правительство, бессильное предпринять что-либо против них, обратилось за помощью к Екатерине II. Тогда с русской стороны на правобережье был послан пехотный корпус генерала Кречетникова.
Обо всем вспомнил игумен, обо всем рассказал кошевому. Только, по-видимому, забыл напомнить, что вместе с распятием шляхтичи везли с собой длинные узловатые канчуки,
[25]
что паны в имениях стали чувствовать себя ещё увереннее, что панские нагайки всё чаще свистели над всё ниже склоненными спинами крестьян.
Калнышевский внимательно вслушивался в речи Мелхиседека. Почти всё, что говорил игумен, было известно ему. И теперь он никак не мог уразуметь, к чему ведет Мелхиседек, искал какую-нибудь нить, которая бы связывала речи игумена с ним, кошевым Сечи Запорожской, и не находил её. Да её и не нужно было искать. Мелхиседек после недолгой паузы поднялся со скамьи, разгладил бороду, наклонился к Калнышевскому.
– Прибыл я не только по своей воле. Меня послала государыня с грамотой. Запорожцы должны тоже выйти из Сечи, встать с оружием на защиту веры. Вот грамота.
Мелхиседек полез рукой за пазуху, вытащил завернутую в шелк бумагу, стал развязывать её. Глаза кошевого беспокойно забегали по светлице.
– Тимош, пойди Глобу позови! – крикнул он, приоткрыв дверь, и, возвратившись на место, смущенно пояснил Мелхиседеку: – Глоба – писарь кошевой, он сейчас прибудет; тут недалеко, через одну хату. Не умею я читать.
Однако грамоту взял. Долго разглядывал её, вглядывался в мелкий красивый почерк. И Мелхиседек никак не мог разобрать, в самом ли деле он не знает грамоты или только прикидывается. Через несколько минут, стуча сапогами, в светлицу вошел писарь Иван Глоба. Кошевой протянул ему бумагу, коротко пояснил, о чём идет речь. Глоба прочитал грамоту сначала про себя, потом, расправив её на столе, вслух. А дочитав, внимательно посмотрел на подпись.
– И печать с орлом, и писано под указ, а только не настоящая она, атаман, – словно бы про себя промолвил писарь. – На таких грамотах должна бы другая печать быть, на шнурках. Да и рука не государыни. Я руку её величества хорошо знаю.
Мелхиседек сидел неподвижно. Его лицо было спокойно, только ниже упали на глаза длинные ресницы.
– Как не государыни? – тихо спросил он.
– А так, не государыни – и дело с концом! – не поднимая головы, промолвил Глоба. – Я сейчас принесу какой-нибудь указ, сверим, хотя и так видно.
– Не надо, – махнул рукой Калнышевский. – Я вижу – почерк подделан. Подпись государыни и я хорошо помню. И с чего бы это вам поручали её везти? Гонцов, что ли, нет в сенате? – Кошевой вытянул вперед руку. – Молчите, ваше преподобие. Я всё знаю, не берите на душу большего греха, и так вы не малый приняли. Не пойму только, ради чего вы всё это затеяли? Может, ради славы? Что, мол, это я поднял всех на оборону веры. В историю попасть! На такое дело подбить хотели! Когда б не сан ваш и не о вере шла речь, приказал бы в колодки забить. Уходите отсюда с миром и не пробуйте запорожцев подговаривать, худо будет.
Третий день шёл дождь. Грязные лохматые тучи ползли и ползли по небу без конца и края. Мокрые деревья сбрасывали последнюю листву, она тонула в лужах, смешивалась с грязью размокших сечевых улиц.
В такую погоду выезжать из Сечи было безрассудством. Максим с утра до вечера сидел в Тимошевском курене и либо забавлялся картами – в хлюста, дурачка, в пары, либо латал сечевикам обувь. И хотя он не был разговорчивым, всё же вокруг него всегда сидело несколько запорожцев. Рассказывали разные бывалые случаи, шутили, иногда распивали по чарке. Изредка вставлял слово и Зализняк. Больше же молчал. Зажав между колен сапог, он стучал молотком, вгоняя гвоздик за гвоздиком в потертые казацкие подошвы. Однако было в нем что-то такое, что привлекало людей, располагало к откровенности. И наибольшей наградой для того, кто рассказывал что-то смешное, был не громкий хохот кого-либо из запорожцев, а скупая Максимова улыбка, короткий теплый взгляд его серых лучистых глаз.
Романа в курене не было. Он остался у стеблевцев и, как передавал Хрен, связался с пьяной ватагой. Максим решил не трогать его.
«Выедем из Сечи, на том и колец его пьянке, – думал он, – только бы поскорее установилась погода».
В среду с утра погода как будто бы стала улучшаться, но с полудня снова надвинулись тучи. Сидя у двери, где было больше света, Максим пришивал к сапогам старые голенища. Сеял мелкий дождь. В курене, улегшись в круг, негромко пели запорожцы. Зализняк натирал смолой дратву и тоже подтягивал невысоким голосом:
Чорна хмара наступила,
Став дощик іти.
Благослови, отамане,
Намет нап’ясти.
Песня лилась печально, то затихая на миг, то снова звуча с новой силой.
Ой, нап’яли козаченьки
Червоний намет,
Несуть вони вино, пиво
І солодкий мед.
Усі пани, усі дуки
У наметі сіли,
Наше браття, сіромашня,
Та і не посміли,
Взяли кварту меду з жарту,
На дощику сіли.
Вдруг Максим услышал топот на улице. В курень влетел Жила, забрызганный грязью. Он так запыхался, что едва мог говорить.
– Романа довбиш
[26]
забрал, судья повелел… на горло… – размазывая по лицу грязь, выпалил он.
Максим вскочил с березового пенька, рассыпав деревянные гвоздики.
– Что ты мелешь, за что?
– С Карасем сцепился. Ещё в первый день, как вы вдвоем приходили. А сегодня утром Карась поднял крик, будто Роман у него деньги украл. Кто-то из братчиков вытащил, а на Романе отыгрались. А может, и никто не брал, Карась нарочно всё подтасовал. Роман разозлился, в гневе поднял саблю; Хрен успел подбить руку, и он ударил плашмя, только кожу на Карасевом затылке немного царапнул. Может быть, дубинками все обошлось бы, но куренной – за Карася. Разве не знаешь, «бідний плаче – ніхто не баче, а як богатий скривиться – всяке дивиться». Говорит, мол, сам видел, как Роман около череса Карасева вертелся. Не верю я, что он взял эти деньги! Ни за что хлопца повесят. Куренной давно грозился проучить голытьбу. Только зацепки не было. А теперь возьмут и отыграются на Романе. Правда, уже столько лет на смерть у нас не осуждали. И указ сената запрещающий есть. Но они вынудят дозволение у тутошних московских начальников или теперь, или после казни.
– Мигом к кошевому, он один может запретить казнь, – бросился за шапкой Максим. Забежав на кухарскую половину, он схватил у кухаря два калача.