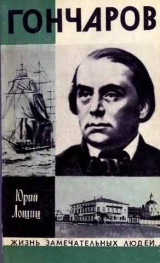
Текст книги "Гончаров"
Автор книги: Юрий Лощиц
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
Миссия эта вряд ли будет простой. Сколько раз пытались европейцы «распечатать» Японию, втянуть ее в торговые связи с остальным миром, а ничего путного из этих намерений не выходило. Подозрительные островитяне не желают ни с кем знаться. Даже от ближайших соседей – китайцев – держатся особняком. А Россия для них и вовсе небывальщина. Но Япония на русском Востоке – сосед серьезный, и нехорошо, если сроки будут упущены и сосед этот сделается враждебным. На борту «Паллады» известно, что американцы уже предпринимают попытку завязать торговые сношения с островитянами: по направлению к Японии под всеми парусами (а может быть, на всех парах?) движется эскадра командора Перри. У адмирала Путятина полномочия сложные – и дипломата, и торгового эмиссара. Кто успеет первым, кто поведет себя умней, тот приобретет в японцах если не союзника, то хотя бы толкового партнера. Политика не любит пустых, незанятых, мест, белых пятен, половинчатых ситуаций. России нужно постоянно заботиться о своих азиатских соседях. Особенно сейчас, когда английские щупальца простерлись по всему Востоку.
К тому же с каждым днем на борт «Паллады» поступают все более тревожные сведения о политической ситуации в Европе. До предела обострились отношения России с Турцией. Даже не читая британских газет, по одному лишь поведению здешних англичан видно, чью сторону в русско-турецком конфликте займет «царица морей». Сообщение о разрыве дипломатических отношений с Великобританией и о начале войны можно ожидать в любой день. И тогда вряд ли удастся избежать столкновения с сильной английской эскадрой, рассредоточенной в китайских портах… Еще и поэтому нужно изо всех сил спешить к берегам Японии.
Во время стоянки у островов Бонин-Сима к фрегату присоединились три русских военных корабля, поджидавших «Палладу» в водах Тихого океана, – транспорт «Князь Меншиков», корвет «Оливуца» и шхуна «Восток». Через пять суток после того, как покинули Бонин-Сима, маленькая русская эскадра вошла в бухту Нагасаки.
«Тридесятое государство», каким оно предстало сейчас перед Гончаровым, и правда было погружено в атмосферу если не сказки, то какого-то старинного театрального действа. Здесь впервые за все десять месяцев плавания он не увидел той эклектической экзотики, которая сначала озадачивала, а потом и раздражала его по мере продвижения на восток. В Японии «местный колорит» сохранялся в чистейшем виде. Ни в одежде обитателей Нагасаки, ни в архитектуре их. жилищ, ни в характере возделывания земли, ни даже в безделушках – ни в чем не было и намека на подражание европейским образцам. Поведением японских чиновников, которые по поручению здешнего губернатора каждый почти день навещали фрегат для выработки условий будущих переговоров, можно было любоваться, как оперным или балетным представлением. Церемониально-ритуальная сторона их поведения озадачивала тонкостью и обилием мимических, интонационных, приемов.
Японцы – с первых же дней стало ясно – «тянут резину». Только на составление церемониала встречи нагасакского губернатора с русским посланником потрачен был целый месяц (на «Палладе» не знали еще, что в это время японское правительство, напуганное военной угрозой командора Перри, уже склонялось к тому, чтобы заключать торговый договор со Штатами).
Еще два месяца ушло на сношения губернаторских посланников с верховными властями в Эдо. Известие, привезенное из столицы, не содержало ничего определенного: четверо полномочных едут в Нагасаки на свидание и переговоры с адмиралом. Но какие у них полномочия? Уже едут или только собираются?.. Похоже было по всему, что время потеряно зря.
В письмах, дневниках, а позднее «Фрегате «Паллада» Гончаров часто не скрывает возмущения этой тактикой проволочек и лавирования. Но по-человечески ему понятны трудности, переживаемые хозяевами острова: «Иностранцы постучались в их заветные ворота с двух сторон. Пришел и их черед практически решать вопрос: пускатьили не пускатьевропейцев, а это все равно для японцев, что быть или не быть. Пустить – гости опять принесут свою веру, свои идеи, обычаи, уставы, товары и пороки. Не пускать… но их и теперь четыре судна, а пожалуй, придет и десять, все с длинными пушками. А у них самих недлинные, и без станков, или на соломенных станках. Есть еще ружья с фитилями, сабли, даже по две за поясом у каждого, и отличные… да что с этими игрушками сделаешь?»
Но, может быть, японцы лишь прикидываются сонными, ко всему равнодушными, этакими одряхлелыми детьми? Ведь в них так много живости, сообразительности, юмора и ума.
По установившейся уже привычке подмечать в поведении, в быту чужеземцев черты, сходные с тем, что видел с самого детства у себя в России, Гончаров и тут, на улицах и в домах Нагасаки, то и дело обнаруживает занятные соответствия. Обилие слуг и вообще всякой дворни, расположившейся у ног знатного феодала, поражает его сходством с привычками старых русских бар и барынь. Глядя на японца, задрапировавшего волнами материи свое ленивое тело, он невольно вспоминает об Обломове и его просторном восточном халате.
Но особенно запомнился один из высокопоставленных японских, чиновников. «Мы так и впились в него глазами: старик очаровал нас с первого раза: такие старички есть везде, у всех наций. Морщины лучами окружали глаза и губы; в глазах, голосе, во всех чертах светилась старческая, умная и приветливая доброта – плод долгой жизни и практической мудрости. Всякому, кто ни увидит этого старичка, захотелось бы выбрать его в дедушки».
Переговоры продвигались черепашьим ходом, а между тем международная обстановка заставляла русскую сторону быть начеку. Не дожидаясь прибытия полномочных из Эдо, Путятин И ноября 1853 года увел эскадру с нагасакского рейда в направлении Шанхая. Незадолго до отплытия Гончаров пишет Майковым: «Если правда, что в Европе война, то нам придется тоже уходить на время отсюда или в Ситх, у или в Калифорнию, иначе англичане, пожалуй, возьмут нас живьем. А у нас поговаривают, что живьем не отдадутся, – и если нужно, то будут биться, слышь, до последней капли крови».
Как уже говорилось выше, Гончаров лишь изредка сообщает сбоим петербургским друзьям подробности такого рода. Еще в меньшем количестве вошли они в текст «Фрегата «Паллада». По замечанию одного из исследователей этой книги, Б. М. Энгельгардта, писатель и не ставил перед собой целью изобразить все тяготы путешествия на обветшалом корабле, да еще в условиях надвигающейся войны. Основною, считает Энгельгардт, была цель литературно-полемическая: борьба с романтическим штампом в описании дальних стран, их природы, быта.
Нельзя безоговорочно принять такую оценку «Фрегата «Паллада». Авторская установка в этой книге далеко не исчерпывается задачей «преодоления романтизма». Гончаровское «путешествие» для русской литературы XIX века не только эталон реалистической повествовательной прозы, но и уникальная в своем роде хроника политико-экономических процессов, меняющих облик всей планеты. Обстоятельства гончаровской одиссеи, несмотря на массу опасностей, складывались все же на редкость счастливо. Писателю привелось наблюдать целый ряд выразительнейших эпизодов экспансии лидеров мирового капитализма в африканском и азиатском направлениях. После Англии и Капской колонии, после Сингапура и Гонконга, после «неприступной» Японии впереди будут еще Китай, снова Япония, потом Ликейские острова, испанская Манила, берега Кореи.
Несколько дней, проведенные Гончаровым в Шанхае, решительно дополнили в его сознании картину глобального нашествия «рыжих; варваров» – так называет он агентов английского колониализма.
Бесстыдство их «доходит до какого-то героизма, чуть дело коснется до сбыта товара, какой бы он ни был, хоть яд!» – возмущенно записывает Гончаров в главе «Шанхай». Оказывается, если в начале XIX века европейцы ввозили в Китай товаров на сумму около пятнадцати миллионов серебром и опиум из этой суммы составлял не более четверти, то с тех пор в торговле опиумом достигнут внушительный прогресс. В начале 40-х годов общий импорт увеличился до тридцати миллионов. Причем из них на долю опиума приходилось уже четыре пятых. Теперь же, в 1853 году, сообщает Гончаров, «гораздо больше привозится в один Шанхай».
Опиум поставляют из Индии, где на громадных плантациях специально засевается мак. В дело втянуты тысячи людей, десятки торговых домов, целый флот. Но торговля ведется тайно. Британское правительство – запевала международного гуманизма, – естественно, стоит выше дрязг с наркотиками и обвиняет в попустительство китайскую сторону.
На улицах опиумной столицы англичане ведут себя вызывающе, грубят, рукоприкладствуют. Китайцы не смеют ответить даже словом возмущения. «Не знаю, кто из них кого мог бы цивилизовать: не китайцы ли англичан, своею вежливостью, кротостью», – спрашивает писатель.
…После вторичного посещения Нагасаки «Паллада» по пути к Маниле бросила якорь у Ликейских островов. Гончаров с некоторым предубеждением смотрел на берега, поросшие тенистой тропической растительностью. Накануне он полистал том путешествий англичанина Базиля Галля, сорок лет назад первым из европейцев посетившего эти острова. По Галлю выходило, что тут царит полнейшая идиллия, подобие золотого века. Много насмотревшийся за год плавания Гончаров имел все основания не доверять такого рода характеристикам.
Однако увиденное здесь, в Ликейе, как будто расшатало его скептицизм.
Поразительна была уже первая встреча с местными жителями. «На берегу нас приветствовали какие-то длиннобородые старики, с посохами в руках, с глубокими поклонами, с плодами… вспомнишь не то Феокрита, не то Галлера (швейцарский ученый и поэт XVIII века. – Ю. Л.), не то русскую сказку о стране, где текут реки меда и молока».
Чем дальше в глубь острова проникали путешественники, тем больше удивлялись: чистоте улиц и маленьких домиков, огороженных кусками кораллов; аккуратности нив и полей, похожих издали на разноцветные заплаты; благообразию и красоте здешних обитателей. Там и тут журчат в тени серебристые ручьи и обрываются небольшими звучными каскадами. Лесные заросли напоминают любовно ухоженные сады, а сады, в свою очередь, растут с неприхотливостью диких лесов. Иногда на дороге, в разрывах деревьев открываются панорамы лугов и полей, окруженных, зелеными пышными кущами.
У старцеп, которые стоят возле своих хижин, серьезные, исполненные достоинства лица, просторные, легкие одежды, спокойные жесты. Женщины и дети, как и положено, застенчивы.
Хижины настолько просты по архитектуре, что, кажется, здесь не бывает ни бурь, ни стужи, ни страшных гроз. Но простота жилищ не означает, что жители не умеют строить. Вот одноарочный мост, перекинутый через поток, он сотворен из мощных коралловых плит. Сотворен как бы играючи: смотрите, мол, мы и так умеем.
Говорят, что они питаются только овощами, что и их предки питались всегда только овощами. Петухов и кур держат лишь для забавы (или, может быть, для жертвоприношений?). Величавость поведения ликейцев позволяет догадываться о высоте их религиозных воззрений.
Неужели наконец повезло путешественнику, который уже отчаялся в поисках хоть каких-то следов естественного существования? Да, похоже, что так! «Это единственный уцелевший клочок древнего мира, – записывает Гончаров. – Это не дикари, а народ – пастыри, питающиеся от стад своих… Идите сюда поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни. Вас поразит мысль, что здесь живут, как жили две тысячи лет назад, без перемены. Люди, страсти, дела – все просто, несложно, первобытно. В природе тоже красота и покой: солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые. Книг, пороху и другого подобного разврата нет. Посмотрим, что будет дальше. Ужели новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок?»
Ликейские острова на карте путешествия Гончарова – место знаменательное, почти символ. В каждом путешественнике, будь то древние Одиссей и Эней, средневековые паломники или трезвые литераторы и ученые нового времени, теплится вера в реальность «блаженных островов» – затерянного, забытого всеми, но целого и доныне пристанища, где не сеют, не жнут, не страдают, не старятся… Такое место должно существовать не только в подтверждение легенд и сказок человечества, но и как укор остальному миру, как доказательство того, что человек способен жить свято и безгрешно, даже не прилагая к тому никаких усилий. Цивилизация обещает создание земного блаженства с помощью воздействия на весь природный мир. Она обещает предоставить человеку разнообразнейшие удобства, комфорт телесный и духовный. Но почти каждый практический шаг в этом направлении, как бы ни был впечатляющ, неминуемо приносит новые страдания, болезни. Может быть, цивилизация – не более как хитроумная пародия на древнее предание о блаженной жизни? Но тогда Ликейские острова должны торчать у нее бельмом на глазу. Ибо уголок этот – самая настоящая антицивилизация, полярная противоположность «гуманного» европеизма. Итак, выстоят «блаженные острова» или их ждет участь всего Востока?
Поздно! – чуть ли пе с досадой восклицает путешественник. Поздно.
Оказывается: всего два дня назад – БЫЛИ!.. Правда, на сей раз не англичане, но суть от этого не меняется. Два дня назад здесь был командор Перри с американской эскадрой и взял Ликейские острова под свое покровительство!'..
Но если с военной миссией Ликейю посетили только что, то учитель духовный, как выяснилось, пребывает на острове уже восемь лет. «На другой день, 2-го февраля, мы только собрались было на берег, как явился к нам английский миссионер Беттельгейм, худощавый человек, с еврейской физиономией, не с бледным, а с выцветшим лицом, с руками, похожими немного на птичьи когти; большой говорун. В нем не было ничего привлекательного, да и в разговоре его, в тоне, в рассказах, в приветствиях была какая-то сухость, скрытность, что-то нерасполагающее в его пользу».
О ликейцах, как и следовало ожидать, Беттельгейм отозвался плохо: у них предостаточно пороков – и пьют, и в какие-то игры играют, и недружелюбны, и сплетники, и невежественны, и грубы. Недавно даже одного миссионера поколотили (его самого и поколотили, как выяснилось, – Беттельгейма)…
Кажется, миссионер понимает, что он тут лишний. Но ощущение неудачи еще более распаляет гордого пришельца.
…О Ликейя, Ликейя, скоро и до тебя доберутся черные фраки! Расковыряют твои холмы в поисках каменного угля (по Гончарову, самый драгоценный минерал XIX века) или просто станут за деньги показывать твой рай в качестве аттракциона туристам обоих полушарий.
Какое все же грустное занятие: путешествовать по экзотическим странам!..
Еще в мае прошлого года, на стоянке в Анжере, Гончаров знал: если вместо «Паллады» не пришлют для продолжения экспедиции более прочный корабль, то ему домой «придется ворочаться Сибирью». Но тогда эта перспектива была еще очень неясной. Теперь же с каждым месяцем становилась все реальней. И не потому только, что невозможно возвращаться на расползающейся по швам «Палладе» в обход Американского континента. Следовать домой таким маршрутом (через Тихий и Атлантический океаны) нельзя было и в связи с назревавшей войной. Опасность военной угрозы со стороны англо-французских морских сил помешала Путятину произвести основательный ремонт фрегата в Маниле.
Простояв в бухте Манилы немногим более недели, «Паллада» вышла в открытое море. Медленно, соблюдая меры предосторожности, двигались на север. О том, что Англией и Францией объявлена война России, узнали с большим запозданием. После стоянки у корейского острова Гамильтон и краткого захода в Нагасаки фрегат вновь взял курс к корейским берегам. Теперь опять шли прямо на север, вдоль малоизученного восточного побережья Кореи. Почти сразу выяснилось, что старые, еще прошлого века, карты этих, мест не соответствуют действительности. Решено было произвести подробную береговую съемку. Открывались новые бухты, безымянные острова, мысы. Многим из них были даны названия в честь членов экипажа. Так появился на русской карте и небольшой островок, носящий имя Гончарова.
Громоздкая и кропотливая картографическая работа заняла около месяца. Съемки надо было производить в непосредственной близости от берегов. При туманах, во время волнений в любую минуту можно было наткнуться на подводные камни или прибрежные скалы.
Съемка, к счастью, закончилась благополучно, но дни «Паллады» были уже сочтены.
В первой половине мая фрегат вошел в Татарский пролив, а 22-го числа стал на якорь в Императорской гавани. Началось размонтирование отслужившего свой срок корабля. Большую часть его команды адмирал перевел на только что прибывший фрегат «Диана», который должен был вновь отправиться к берегам Японии.
В это время Гончаров и обратился к адмиралу с просьбой освободить его от должности литературного секретаря, которая при нынешних военных обстоятельствах становится практически ненужной. Как ни хотел Путятин удержать при себе полюбившегося ему Ивана Александровича, но просьбу все же удовлетворил. С двумя другими офицерами Гончаров откомандировывался «сухим путем», или, как говорили моряки, «берегом», в Петербург. В рапорте морскому министру адмирал с самой лучшей стороны охарактеризовал деловые и личные качества своего секретаря – теперь уже бывшего.
Прощаясь со спутниками по морской одиссее, Иван Александрович замешкался было: нечем отдарить тех, кто остается… Разве что табаком? И выложил на стол кают-компании три тысячи сигар, купленных про запас в Маниле. А обитателям одного из новых поселений в Татарском проливе подарил все книги своей походной библиотеки.
Сперва на шхуне «Восток» следовали до Николаевского поста, где взяли на борт генерал-губернатора Восточной Сибири графа H. H. Муравьева, только что успешно завершившего экспедицию по обследованию Амура. Знакомство с этим незаурядным человеком на всю жизнь запечатлелось в памяти писателя. Пройдет тридцать три года после этой встречи, и Гончаров в очерке «По Восточной Сибири» скажет о Муравьеве-Амурском: «Какая энергия! Какая широта горизонтов, быстрота соображений, неугасающий огонь во всей его организации, воля, боровшаяся с препятствиями… Небольшого роста, нервный, подвижной. Ни усталого взгляда, ни вялого движения я ни разу не видал у него. Это и боевой отважный боец, полный внутреннего огня и кипучести в речи, в движениях».
А тогда, на палубе «Востока», пока шхуна шла Охотским морем к поселению Аян, они подолгу беседовали о самом разном. Гончаров попросил рассказать о положении ссыльных декабристов. Муравьев говорил свободно, независимо. Он со многими знаком лично, нередко выезжает в близлежащие к Иркутску поселения, делает все от него зависящее, чтобы хоть как-то облегчить участь невольников. Рассказывал о преобразованиях громадного края, о том, как мешают ему осуществлять задуманное столичные недоброжелатели. Там, «за хребтом», как называл он на сибирский манер Европейскую Россию, то и дело норовят вставить палки в колеса.
В Аяне путешественники разбились на три группы. Генерал-губернатор отбыл первым. От побережья дорога, а верней тропа, вела через Семигорье на Якутск. Говорили, что проложена она недавно (раньше ходили черев Охотск) и не военными людьми проложена, не добытчиками, а… якутским архиереем Иннокентием, который отсюда, из Аяна, добирался даже до Алеутских островов.
Иван Александрович дивился предприимчивости и энергии здешних, людей, но величина расстояний, которые предстоит преодолеть, приводила его иногда почти в ужас. Четыре тысячи верст до одного лишь Иркутска! А оттуда еще шесть тысяч!.. Эти цифры и в сознании с трудом умещались. Теперь, задним числом, морская часть пути казалась ему легкой и приятной прогулкой. Говорят, ехать надо будет верхом, а где и пешком идти. А ведь он к лошади с детства близко не подходил. Можно, говорят, еще на носилках, между двумя лошадьми, но так здесь перевозят лишь инвалидов… Пришлось Ивану Александровичу вскарабкиваться на лошадь. Через несколько дней притерпелся.
«Истинное путешествие в старинном трудном смысле, словом, подвиг, только с этого времени и началось», – писал он с дороги в Петербург. Действительно, обстановка похода напоминала о временах древних, когда лишь отвага и великая страсть побуждали людей покидать жилища и уходить в земли незнаемые. Сопки, тайга, бурные реки с каменистым дном, болота, горные перевалы – тут все еще было безымянным, неочеловеченным, и ум терялся от избытка впечатлений.
Течение в горных речках, оказывалось настолько сильным, что на противоположный берег лошадь с седоком выбиралась гораздо ниже того места, где вошла в воду. В болотах лошади вязли, проваливаясь по брюхо, иногда приходилось поворачивать назад и обходить топкие места, продираясь сквозь буреломы. Обувь все время была мокрой. Иван Александрович порой изнемогал до такой степени, что садился на какой-нибудь пень и решал про себя: дальше никуда уж «не пойдет.
С приближением осени по утрам стали прихватывать морозцы, и Гончаров с тревогой прислушивался к ревматическим болям в ногах.
Иногда ему не верилось: неужели это вот существо, неловко сидящее на лошади, обросшее щетиной, с опухшим лицом, с потрескавшимися от ветра губами, в грязных, одеждах, которые насквозь пропахли дымом, болотной жижей и конским потом, – неужели это он, петербургский известный литератор и боящийся сквозняков чиновник? Ввались он сейчас, в таком виде, к примеру, к тем же Майковым, его и не узнают ни за что, а если узнают, то Евгения Петровна уж наверняка в обморок упадет… Хорошо еще, что он умеет посмотреть иногда на себя иронически – на свою большую и пространную физиономию, на брюхо свое, которое, несмотря на морские и сухопутные испытания, растет себе и растет. На корабле, бывало, по утрам обязательно кто-нибудь из приятелей-офицеров подойдет и молча дотронется пальцем до его живота – появилась ли, мол, прибавка? И сделает красноречивую мину: появилась… На всякий случай, чтобы не очень при встрече поразились, Иван Александрович пишет друзьям с дороги: от недостатка движения на корабле «выросло такое брюхо, что я одним этим мог бы сделаться достопримечательностью какого-нибудь губернского города». Но это он, конечно, сильно преувеличивает. Поглядели бы на него со стороны, как задумчиво едет по таежной тропе верхом на лошадке, как прилежно поднимается в цепочке путников по склону оледенелой Джугджур, как недвижно сидит в лодке, спускаясь вниз по течению Май, как невозмутимо спит в берестяной юрте или ест рябчика, только что поджаренного на костре, – поглядели бы и сказали невольно: до чего ж молодец этот русский писатель, сорок лет просидевший сиднем дома и вдруг смело пустившийся по морским и земным хлябям с замыслом, да еще с каким! – «Путешествие вокруг света, в 12 томах, с планами, чертежами, картой Японских, берегов, с изображением порта Джексона, костюмов и портретов жителей Океании И. Обломова».
Пусть не 12 томов, пусть без карт и изображений костюмов, и автор не «И. Обломов», а сам он, но все-таки сумку, плотно набитую тетрадями (многие очерки уже вчерне готовы), он с собою везет, все время чувствуя ее тяжесть на боку, под рукой. И дай бог ему довезти ее до дому, не разболеться в пути, не поскользнуться на ледяных уклонах перевала, не потеряться среди безымянных сопок и речек, не потерять внутреннего спокойствия.
В Якутске Гончаров задержался более чем на два месяца: пришлось дожидаться зимней дороги, то есть времени, когда Лена замерзнет. Впрочем, о задержке путешественник не жалел. Сколько интересных знакомств ожидало его в маленьком деревянном городке! Здесь открылся ему во всем своем богатстве тип рядового русского сибиряка – пионера дикой, почти еще первобытной природы. Гончаров беседовал с купцами и инженерами, добытчиками пушнины и даже… землепашцами. Да, да, к своему удивлению, еще не доезжая Якутска, увидел он среди примелькавшейся таежной хмури ослепительно золотящиеся нивы. Пшеница?! А на луговой пойме обочь городка мирно паслось стадо не оленей, нет, – коров и баранов.
По установившейся привычке он прежде всего постарался обзавестись книгами, посвященными новому для него краю. Читал, делал выписки, сравнивал с увиденным. Причем с увиденным не только в Сибири, но и во время плавания. Приятно поразился, узнав, что на всем громадном пространстве к востоку от Якутска запрещена продажа вина. Невольно вспомнилась опиумная флотилия у стен Шанхая.
Познакомившись лично с преосвященным Иннокентием Вениаминовым (тем самым, что проложил тракт от Якутска до Аяна), Гончаров открыл для себя, какую, оказывается, громадную работу проделали и сейчас продолжают здесь, в Восточной Сибири, русские просвещенные люди. Составлен алфавит для якутов, подготавливается якутская грамматика. Составлены также грамматика тунгусского языка и тунгусско-русский словарь, включающий несколько тысяч слов. Сам Иннокентий издал алеутский и алеутско-кадьякский буквари.
И при всем том эти люди говорят о своей деятельности как о чем-то само собой разумеющемся, заурядном. Они проникают в самые отдаленные области континента, знакомятся с местными племенами, прокладывают дороги, возводят деревянные мосты над топями, спят на снегу в сорокаградусные морозы. «Американец или англичанин какой-нибудь, – сравнивает Гончаров, – съездит, с толпой слуг, дикарей с ружьями, с палаткой, куда-нибудь в горы, убьет медведя – и весь свет знает и кричит о нем!»
…Лишь в конце ноября выехал Гончаров из Якутска. На дорогу щедро снабдили его провизией, в том числе замороженными в кубиках щами и морожеными пельменями, струганиной. Не без посторонней помощи путешественник обрядился в здоровенный малахай, в торбаса, в заячью шубку, в доху из шерсти горного коала; к тому же на санях закутали его в медвежьи шкуры.
И – еще три тысячи верст пути… Он потерял счет станциям, малым поселкам. Ехали то Леной, то пойменными лугами, изредка углублялись ненадолго в лиственничные леса. Вот и морозы подскочили к четвертому десятку. Запеленатый в полдюжины шкур, Иван Александрович не мерз, только лицо нещадно секло ветром, снежной пылью. До Иркутска оставалось пятьсот верст, когда он обнаружил, что лицо сильно поморожено. На станциях велел гнать что есть мочи, и расстояние это одолели – никогда бы на слух не поверил – всего в двое суток.
«В самую заутреню Рождества Христова я въехал в город. Опухоль в лице была нестерпимая. Вот уж третий день я здесь, а Иркутска не видал. Теперь уже – до свидания».
Такими словами закончит Гончаров «Фрегат «Паллада». От столицы Восточной Сибири до конечного пункта его странствия еще мчать и мчать. Но ему не хочется в эти дни думать ни о предстоящем пути, ни о времени, которое надо будет на него затратить. Как старого знакомого встречает его Николай Николаевич Муравьев. Во время пребывания в Иркутске Гончаров посещает князя Сергея Григорьевича Волконского и его супругу Марию Николаевну. В очерке «По Восточной Сибири» он напишет: «я перебывал у всех декабристов, у Волконских, у Трубецких, у Якушкина и других». С сыном Волконских, двадцатидвухлетним Михаилом, Гончаров познакомился немного раньше, на амурской стоянке. Через много лет они увидятся еще раз, но не в России, а в одном из западноевропейских курортов, где Волконский-сын будет сопровождать своего родителя – разбитого болезнью старца.
Никаких подробностей о встречах, и беседах с декабристами Гончаров не оставил – ни в письмах, ни в воспоминаниях. О том, что беседы были, и, судя по всему, продолжительные, свидетельствует отзыв С. Г. Волконского о писателе как об умном и увлекательном рассказчике. Этот отзыв содержится в письме, которое князь поручил путешественнику доставить в Москву, семейству Молчановых.
…Если от симбирского берега Волги идти все на запад и на запад – вдогон за разматывающимся волшебным клубком, – то когда-нибудь к той же самой родной реке выйдешь с противоположной стороны… Вспомнилась ли Ивану Александровичу эта давняя детская греза, когда увидел наконец осеребренный снегом Венец и столбы дыма над Симбирском? Никогда уже не услышит он голоса Авдотьи Матвеевны в просторном, слишком просторном теперь родительском доме. Отплыла и ее душа к неясной мете, остался лишь чистый сугробик в кладбищенском селенье.
Можно сказать, что, собственно, здесь, в Симбирске, и закончилось его более чем двухлетнее странствие. Оставшийся отрезок пути почти уже и не в счет. Тем более что от Москвы до Петербурга – наконец-то и Россия дождалась! – понесется он по железной колее. По дороге, которая стоила стране многих тысяч человеческих жизней.
Того, в честь кого она названа, уже нет в живых… Но война, которую он проиграл, еще догорает в Крыму… Дико взвывая в морозном мраке, мчит огненный колченогий оборотень. В его утробе за единый лишь миг сгорает целый эдем девственного леса. Но сравнительно с дилижансом, тарантасом каким-нибудь, не говоря уже о телеге, ехать удобно, очень удобно. Что и говорить, прогресс приятен, пока дыму мало. А его пока мало. Иногда лишь попадет в глаз путнику щекочущая угольная соринка – и все. Не плакать же из-за этого – проморгается.
Середина века в России наступила в 1855 году – в год смерти Николая, в год падения Севастополя, в год, когда в тысячах деревень оплакивали убиенных и надеялись на близкое дарование земли и воли… Землицы и волюшки.
…А оборотень-паровоз шипит в сугробистом коридоре лесов, озорно посвистывает, косясь на деревья: ничего, что я такой маленький, скоро я всех вас поем, превращу в черную горячую пыль…
К середине века вдруг «повзрослела» Россия. Капитализм наконец-то пробился к ее бескрайним, волнующе богатым пространствам – силою английских винтовок, жаркою силой пароходов и паровозов, вязкою и сладкою силой доступного (пока лишь избранным) комфорта.








