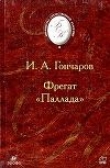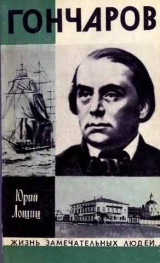
Текст книги "Гончаров"
Автор книги: Юрий Лощиц
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)
Юрий Лошиц
ГОНЧАРОВ
У меня есть (или была) своя нива, свой грунт, как есть своя родина, свой родной воздух, друзья и недруги, свой мир наблюдений, впечатлений и воспоминаний – и я писал только то, что переживая, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел и знал – словом писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало.
И. А. Гончаров. Лучше поздно, чем никогда.
ЛЮДИ «ЛЕТОПИСЦА»
Что город, говорят, то норов. И еще было: всякому городу – по юроду.
Два почти века назад жил в граде Симбирске блаженный по имени Андрей Ильич, по прозвищу же Андреюшка. Дара обличающей речи он не имел. Был косноязычен, всего-то и слышали от него непрестанное «мама Анна», «мама Анна»… Ходил Андреюшка всегда босиком, и в осень и в зиму. Целыми часами любил стоять на одном месте, переминаясь с ноги на ногу, в длинной своей рубахе, с сумой на груди. В трескучие морозы круглосуточно маячил на церковной паперти, а то и на колокольню забирался. Все слезы, до последней, вымерзали у Андреюшки на щеках. А еще – голыми руками мог вытащить горячий горшок из печи. Ротозеи попросят – целовал кипящий самовар.
Если Андреюшка давал кому деньгу – человек разживался. Так что купцы симбирские юрода своего особо чтили.
А если кому щепку сунет в руки или горсть земли – того вскоре отпевать будут.
Александра Ивановича Гончарова Андреюшка, должно быть, пятаками не одаривал – выше третьей гильдии но поднялся купец. А вот супругу его, Елизавету Александровну, блаженный, видать, кольнул острой щепочкой. Скончалась опа совсем ведь еще молодой, сорока двух лет от роду.
Детей от этого брака не было. Александр Иванович недолго проходил во вдовцах. Он хотел передать нажитое наследнику, и возраст его подгонял. В следующем после смерти жены году состоялось его венчание с девицей Авдотьей Матвеевной Шахториной, «лет было Гончарову 50, Авдотье Матвеевне – 19 лет и 6 месяцов».
Шутка ли, тридцать лет разницы, два особых возраста – юное утро и день, уже перезрелый… И все же это не был неравный брак. Авдотья Шахторина сама из купеческой семьи, да и выходила не за мешок с золотом, у жениха не так-то много, не более пяти тысяч капиталу.
Александр Иванович в свои пятьдесят гляделся истинным молодцом. Крупен телом, осанист, румянощек. На старинном семейном портрете (до наших дней не сохранившемся) художник запечатлел мужчину приметной внешности, белокурого, с приятной полуулыбкой голубовато-серых глаз. Это был портрет времен второго брака.
Гончаров владел в Симбирске свечным заводом. У волжского берега располагались его хлебные амбары. Видимо, купец умел ладить с самыми разными людьми, потому что, пренебрегая более маститыми кандидатами, его несколько раз избирали городским головой.
Всего год пожили молодые для себя, а на другой Авдотья Матвеевна понесла плод.
За 1806 год в домашнем гончаровском «Летописце» читаем: «Родилась дочь Елена житья ее было 15 недель».
«1808 года декабря 1-го родился сын Николай тезоименитство ево декабря 6 дня», то есть на Николу Зимнего.
«1812 года июня 6 дня родился сын Иван а именинник – июня 24 дня», то есть на Рождество Иоанна Предтечи.
«1815 года мая 14 дня родилась дочь Александра».
«1818 года генваря 11 дня родилась дочь Анна».
А еще через полтора года Александр Иванович Гончаров, исполнив, хотя и с запозданием, завет библейский «плодитесь, размножайтесь», на семидесятом году жизни отошел в мир иной. В «Летописце» дата его смерти не указана, но она известна по другому документу: 10 сентября 1819 года. Надо думать, очевидцы кончины не могли не обратить внимания на то, что она пришлась на промежуток между двумя большими праздниками – день спустя по Рождеству Богородицы и за три дня до Воздвиженья Креста Господня. Верили – хорошо, если человек умер на большой праздник или вблизи него. А тут – сразу два рядом. Хорошая же кончина, не иначе за хорошую жизнь.
И правда, ничего плохого о Гончарове-отце ни от кого, кажется, не слышно и не записано при жизни его. И позднее никем не присочинено.
…Кем построен Петербург, все знают, но мало кому известно, что Симбирск основан родителем Петра, Алексеем Михайловичем.
Вожделение сына – Запад, а отец и на Восток поглядывал.
Даже имя Симбирску дано азиатское. У чувашей «синбирен» – белая гора. По-мордовски «сююн бир» – зеленая гора. Есть и еще одна версия имени города: у тюрков «сын бир» – одинокая гробница.
Уже Иван Гончаров стал знаменитым петербургским романистом, уже «азиатчина» и «татарщина» сделались бранными словами – не только на страницах прогрессивных журналов, но и в личной переписке либеральных министров, – а в России еще писали по старинке: Синбирск.
В этих краях жили когда-то кочевые буртасы, их считали предками чувашей или мокши. Жили тут и болгары с мордвой.
Степь. Молодые черные овраги весной. Сухой змеиный шелест бессмертника к концу лета. Табуны и отары. Громадные, как деревья, репьи, торчащие из-под снега. Изредка бурые, миллионокопытные сакмы с острым запахом навоза, мочи, конского пота. На Русь ушли или назад возвращались? Опытный взгляд сторожевика-засечника без труда определял направление, время набега и даже примерное число воинов во вражеском отряде. Так было тут веками.
Изначальный Симбирск – дозорная крепостца на горе, именуемой Венцом. Воеводский приказ и стрелецкие избы. Внизу река – выпуклая, светло-голубая, с кишащими птицей островами, с плеском и чмоком рыбных ловищ; дорога в лазоревую Персию, в изумрудную Индию, в синий Китай. Торговлишка, робкая сперва: привозной тканью, коврами, утварью, всяким женским бряцанием, медом и хлебом.
Когда появились в Симбирске Гончаровы? Жил ли здесь прадед писателя, про которого известно лишь, что он занимался торговлей? Или первым «синбирцем» стал Дед Ивана Гончарова, тоже Иван, который воинской службой добыл своему роду дворянские привилегии и обитал в Симбирске с 1759 года, по уходе в отставку? И даже про отца писателя неизвестно точно, родился ли он здесь, на Волге, или где-то в оренбургских степях, где дослуживал последние годы его родитель.
Нужно еще раз, помедленнее перелистать гончаровский фамильный «Летописец»… Темно-коричневый кожаный переплет и голубая бумага осьмнадцатого века, толстая, шероховатая, с выцветшей чернильной ржавью.
Это книга рода, домашний хронограф. Такие или примерно такие книги были некогда в десятках, сотнях русских семей. Хотя первая запись в гончаровской хронике относится к 1733 году, от книги веет временами гораздо более давними. Патриархальная окраска придана ей дедом писателя.
Капитан русской армии Иван сын Иванов Гончаров, судя по всему, был человек основательного склада, со взглядами на жизнь прочными, раз и навсегда выработанными.
Он немногословен в «Летописце». Он не утомляет своих потомков описанием того, какое было у него настроение третьего дня после ужина или сего дня с утра. Его записи касаются только существенного. Рождения, смерти, небесные знамения. Впрочем, последние случаются крайне редко под безмятежным небом степного края. Так же, как собственные настроения, мало занимают его и «настроения» погоды. Исключение он делает разве лишь для первого весеннего грома, и то потому, что прозвучал этот гром из ряда вон рано – в середине апреля, и как знать, не знаменует ли собою чего-то более важного.
Всяким случаям и слухам, происшествиям и сплетням, каждодневной бытовой рухляди, о которой обычно говорят: «Ну, что в мире-то делается?» – он также не дает допуска на страницы «Летописца». Едва ли не единственное внешнее событие, «замеченное» им за целую жизнь, – Пугачевское восстание. Но и этому событию посвящена бывшим офицером лишь краткая запись с укоризной: «Был вор и разбойник Емелька Пугачев и назывался третьим императором Петром Федоровичем и стоял под Оренбурхом».
Историей своей фамилии он тоже, видимо, не очень интересуется. Иное дело, если бы род был знатный. Но зато вносит в «Летописец» краткий перечень событий «от Адама до Потопа». И далее – до рождения и преставления русских великих князей, царей, святителей и чудотворцев. Эти сведения помещены под общим заглавием «Летописец Московский написан от сотворения мира». Рядом с ним – «Пророчество Иеремии», «Книга Страстей Христовых».
Тем самым он как бы дает понять всякому, кто станет перелистывать «Летописец», что род Гончаровых не так уж худ, ибо, как и все человеки, изводится ни много ни мало от самого праотца Адама, а тот, как известно, слеплен был из такой же самой глинки, какую месили потом и мяли во все времена незнатные, но нужные людишки, прозываемые гончарами…
Судя по тому, что в «Летописце» нет никаких особых записей относительно сложения и внешности новорожденного Ванечки Гончарова, надо полагать, что и для его телесного состава глинка была отпущена неплохая. Вышел ли он, как говорят в таких случаях, «весь в мать» или «весь в отца», мы не знаем, поскольку дагерротипов тогда в Симбирске еще не делали. От Авдотьи Матвеевны сохранился всего-навсего один портрет, выполненный неизвестно в каком году местным живописцем. С холста глядит на нас женщина средних лет. Она далеко не красавица, но и не дурнушка. Округло-скуластое, миловидное лицо, скорее крестьянки, чем купеческой дочери, полные плечи и большие руки. И необычайно выразительные глаза: умные, изливающие на зрителя какую-то умиротворенную нежную печаль. «Материнское» мы без труда опознаем потом на портретах и фотографиях взрослого Ивана Гончарова: тот же тронутый печалью взгляд из-под крупных верхних век, высокий взлет бровей, как бы выражающих удивление, та же скуластость…
Крестили новорожденного на шестой день. Нести было недалеко. Наискось от родительского дома, на противоположной стороне улицы стояла церковь Вознесения Господня. Молитвовал и крестил младенца приходской священник Михайло Байдаряковский. Он же за четыре с половиной года до этого совершал таинство и над гончаровским первенцем. Восприемником и на сей раз был добрый знакомый Александра Ивановича и Авдотьи Матвеевны, местный дворянин Николай Трегубов.
По обычаю над мальчиком читали положенные по чину молитвы, потом батюшка опустил кирпичное от натуги тельце в воду. Потом натягивали на крикуна крестильную рубашку, а она никак не натягивалась на мокрого, прилипала к плечам, к нареванному пузу и тощей попке. Потом обносили его вокруг купели, на краю которой горели три свечи. Потом священник окунал кисточку в сосудец с мирром и начертывал крестики – на лбу, на ушках, на ручках и ножках. Мальчик был назван в память Иоанна Крестителя, и в этом присутствующие находили особое значение. Потом с макушки у него ножничками была отчикнута темная пушистая прядка, закатана в восковой шарик и брошена в воду. Все присутствующие, кроме младенца, конечно, много раз видели эти неспешные, справные в привычные действия священника, но следили за каждым действием без скуки, а, наоборот, растроганно, с особым пристрастным вниманием, будто видят впервые. Им не казалось это скучным, потому что они любили все, что повторяется в жизни, что придает ей величавое достоинство, аромат устойчивости и неизменности. Этими повторениями жизнь как бы благословлялась для новой череды крестин и венчаний, отпеваний и поминок и опять крестин.
Их радовало, что так же поступали их отцы, и деды, и деды их дедов, и они были уверены, что так будет повторяться и всегда, до скончания века. Жизнь цвела для них обрядами, и даже в самом грустном из обрядов была доля радости. Обряды были не только внутри церкви, но и за ее оградой, на улице, в любом доме, в том, как здороваются друг с другом и как прощаются, как входят в жилье, как садятся за стол и встают из-за стола, какие кушанья готовят к определенному дню, к большим и малым праздникам… Обряд понимался как образ поведения. В конце концов, вся их жизнь была бесконечным обрядом, от которого они никогда не уставали. В правоте такого существования их убеждал и пример природы, в которой они также видели бесконечное последование обрядов, перемену одежд и нарядов, новых риз на всякое время года. Они воспринимали жизнь как некое важное действо, как длящееся предание, как медленный круговорот подобий и потому редко задумывались о будущем, уверенные в том, что все, чему суждено быть, когда-то уже бывало, не с ними, так до них.
Эти, назовем их условно, люди «Летописца» не представляли собой какую-то замкнутую секту, их пребывание не ограничивалось какой-то определенной территорией. Они простирались так широко, что, куда ни ткни, все попадешь в них. Скажешь ругательное «патриархальщина» – и это будет про них. Скажешь более сдержанное слово «консервативность» – и снова это про них. Уклад, свычай и обычай этих людей действительно были патриархально-консервативно-традиционны. Эти семь-раз-отмериватели никогда не спешили расстаться со старыми привычками и обрядами, побаиваясь брать на себя ответственность в выдумывании новых. Ведь старые-то создавались бессчетными поколениями, и хватит ли у них силенок и прыти все вдруг переиначить на своем лишь веку? А если даже и хватит, то долго ли продержатся их нововведения?
Вон, – рассуждали они с ухмылкой, – был ведь уже пример, и совсем недавно, когда в одном из соседних государств кучка умников разожгла толпу на всяческие перемены, и до того распыхались, что только и думали с утра до ночи, как бы еще что-нибудь старое поменять на новое. И уже преуспели в деле своем, так что даже и названия месяцев поменяли на дикие какие-то словеса. Но до того увлеклись своими переменами, что тут как раз и их всех одного за другим поменяли, а потом и все их выдумки отменили.
Но мало того. Как бы в отместку за своевольства, господь наслал на эту страну еще одну кару – в образе прегордого правителя, чтобы тот смутил их новым безумием. Подобно антихристу, прельстил он их богатствами других земель, и ринулись, пожирая за государством государство, как полчища саранчи пожирают посевы.
И вот теперь люди «Летописца» с тревогой и трепетом следили, как вражья сила докатилась и до русских пределов, как занялись пожарами города, как гарью потянуло и от холмов московских, как двинулись в волжские степи обозы беженцев. Видать, и на Русь пала тень гнева господня. Что ж, настала пора и на войну обряжаться. И к этому суровому обряду было им не привыкать. Ходили крестными ходами, заказывали молебны, вручали воинам в дорогу малые иконки, целованные, материнскими слезами омытые.
Хотя много симбирских ушло против Наполеона, город от притока беженцев сделался еще многолюднее В любом почти большом доме жили семьи из западных губерний. Подолгу обсуждали всякую весть. Осенью, после великого сражения, еще прибавилось беженцев. Куда теперь повернет супостат? В Москве останется либо двинется на восток, к Волге?.. Он наконец повернул на запад. Как напроказивший змий, пополз в свое логово. В ту зиму и симбирские квартиранты по санному следу потянулись к родным гнездовьям.
А в доме Гончаровых покрикивал младенец, ровесник великого испытания, насланного на Россию. И покрикиванием своим напоминал, что шествие жизни выравнивается, что основные ее заботы опять должны вернуться в свое привычное русло в двигаться изо дня в день в неспешном ритме детской зыбки. И что вновь должно восстановиться доверчивое отношение к жизни – такое, как у несмышленыша, который сегодня впервые улыбнулся – в ответ на материнскую ласку или на скольжение солнечного луча по стене.
И люди «Летописца» снова погружались всем существом в благословенное сегодня, навеки связанное с прошлым. А будущее опять надолго исчезало из поля их зрения. Потому что не их это дело – рассуждать о том, что случится через год или даже через день. На то есть прозорливцы и блаженные люди наподобие Андреюшки. А самим нечего воображать.
Но что бы ни произошло в будущем, главное течение жизни всегда пребудет ровным, незаметным, медлительным и неколебимым, как ход большой реки. Вон она, блещет под солнцем или стынет под луной, и кажется, что погружена в вечный самозабвенный сон. Иногда пронесется по ней рябь, а то и поднимется волна. А так все тихо и покойно. Где-нибудь в море, куда наконец довлекутся ее воды, говорят, ходят страшные бури. Но это так же далеко отсюда, как и время Страшного суда. Конечно, по вере, тот суд в свое время грядет и все собою разрешит. Но что ж и поминать его, когда и предчувствий пока нету?
Так бытовали люди «Летописца» и не ведали, что житье их несокрушимое продержится еще двадцать, ну сорок, ну от силы шестьдесят лет.
Конечно, знали и они за собой всякие грехи и грешки. Но все это – по их разумению – было опять же как рябь или волна на реке – глядишь, уже и пропала. Зато ведь и на исповедях каялись, и милостыню щедро раздавали, и с врагами своими прилюдно мирились, с целованием и чистой слезой. Так за что же на них насылать кару грозного суда?
Какой-нибудь петербургский или московский сочинитель мог бы, правда, еще на один грех им указать: много-де среди них водится невежд, недоучек и простофиль. Не читают-де они газет, не выписывают из столицы журналов и книг. И точно, был грех. Они все вместе и за год не прочитывали столько мелкопечатных строчек, сколько за одно лишь утро пробежит острым глазком столичный чиновник, взволнованный землетрясением в Южной Америке или войной в Африке, рождением принцессы датской или еще целой дюжиной будоражащих, а то и леденящих кровь событий и происшествий.
А этих ничто из событий остального мира не волновало, не будоражило, не выводило из равнодушного состояния. Там, может быть, вчера очередная Атлантида с грохотом провалилась на дно океана, а они и бровью не поведут – знай себе обсуждают, сколькими поросятами опоросилась соседова свинья или как лучше заквашивать брюкву, с хреновой ботвой или без оной.
Зато почти каждый из людей «Летописца», даже самый разнеграмотный, знал дословно тропари и кондаки всех праздничных служб, а то еще и целые каноны с акафистами, а то еще и целые кафизмы псалтырные.
Сверх того каждый из них помнил наизусть десятки песен и сказок, сотни прибауток, поговорок и побасенок. В лакейской гончаровского дома маленький Ванечка разглядывал едва ли не первые в своей жизни книжки – про Бову Королевича, про Еруслана Лазаревича… Тут же проживала и женщина, которая знала и пересказывала ему такое великое множество историй и сказок, что их никакая книга, кажется, не могла бы вместить. То была Аннушка – няня маленьких Гончаровых. Широколицая, добрая, похоже, она была старой, когда он только учился говорить. Такой же старой она оставалась и тогда, когда он увидел ее в последний раз – сам уже пятидесятилетний. Может быть, она и не была никогда молодой, а сразу родилась старухой, если только она когда-нибудь родилась, эта ветхая деньми, как мир, древняя женщина?
«Глаза старухи искрились огнем, – будет он ее вспоминать, – голова дрожала от волнения, голос возвышался до непривычных нот».
Нет, это уже не няня, не Аннушка сидит рядом и говорит сказки. Это вещает какая-то вдохновенная пифия, и последние отсветы заката бродят по морщинам ее пергаментного лица.
Няня – это память всего мира, всех веков. Это бездонная прапамять всего человечества. Это живой миф.
«Она с простодушностью и добродушием Гомера, с тою же животрепещущею верностью подробностей и рельефностью картин влагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни…»
Такою опишет он свою Аннушку в «Обломове».
Пусть вам земля будет пухом, добрые старушки, домашние Лары русских классиков! Спасибо вам за певучее родное слово на сон грядущим, за сказки, нашептанные в чуткое ушко, – а вдруг потом аукнутся.
Впрочем, и среди людей «Летописца» изредка попадались фигуры особого склада. Таким был, например, уже упоминавшийся выше крестный Вани Гончарова, ближайший друг всей гончаровской семьи, помещик Николай Николаевич Трегубое. Он когда-то служил артиллеристом на военном корабле, чуть ли не под началом самого Ушакова, и даже получил Владимира за военные действия против французов в Средиземном море. Но, выйдя в отставку, поселился в местах сугубо сухопутных – в степном симбирском своем имении. Жизнь в деревне вскоре наскучила общительному холостяку, и он перебрался в город со всею многочисленной дворней, снял для постоянного жительства большой деревянный флигель при доме Гончаровых.
Трегубов выписывал газеты и журналы, в дому у него бывал весь цвет симбирского дворянства.
Детей холостяк обожал. Его бесконечную доброту и ласковость маленький Ванечка ощутил с первых же лет, а особенно после того, как умер отец. Тут Николай Николаевич Трегубов, бывший к тому времени крестным уже всех четырех гончаровских ребят, полностью принял на себя обязанности духовного отцовства. Посоветовались они с Авдотьей Матвеевной и порешили: раз уж такая вышла судьба, что прирос он всей душой к их семье, то и будут жить теперь одним общим домом. Для Трегубова отвели несколько комнат в каменном особняке.
Николай Николаевич брал на себя попечение о ребятах, Авдотья Матвеевна – все хозяйственные заботы, в том числе и по двум трегубовским деревням.
В комнатах отставного моряка Ванечка любил разглядывать диковинные инструменты и приборы, среди которых были телескоп, секстант и хронометр. Позднее, когда мальчик освоил грамоту и поступил в пансион, Трегубов стал открывать для него книжные шкафы, где у него имелась целая библиотека путешествий, в том числе описания всех кругосветных плаваний. Попутно объяснял, что такое география, вводил крестника в круг математических, астрономических познаний, знакомил с начатками навигационного дела.
Не забывая о насыщении ребячьей любознательности, основную свою задачу Трегубое видел в бережном покровительстве подрастающей безотцовщине, в смягчении материнской строгости. Это началось еще до его переезда из флигеля в большой дом. «Бывало, нашалишь что-нибудь, – вспоминал о тех годах Гончаров, – влезешь на крышу, на дерево, увяжешься за уличными мальчишками в соседний сад, или с братом заберешься на колокольню – она (мать. – Ю. Л.) узнает и пошлет человека привести шалуна к себе. Вот тут-то и спасаешься в благодетельный флигель, к «крестному». Он уж знает, в чем дело. Является человек или горничная, с зовом: «Пожалуйте к маменьке!» «Пошел», или «пошла вон!» – лаконически командует моряк. Гнев матери между тем утихает – и дело ограничивается выговором, вместо дранья ушей и стояния на коленях, что было в наше время весьма распространенным средством смирять и обращать шалунов на путь правый».
Николай Николаевич не только покрывал ребячьи проказы, но и щедро потакал вожделениям детворы. У него был свой кондитер и потому всегда хранился запас всевозможных сластей и лакомств, которые скармливались братцам и сестрицам. Сверх того, Ваню – а его Трегубов выделял из всех детей – он ежедневно брал с собой кататься по городу. Во время прогулок то и дело велел кучеру останавливаться возле магазинов и лавок, где любимчик напихивал в карманы еще всяческих конфектов и где покупались по его выбору игрушки.
А то позовет к себе и тихонько сунет в ладонь мелких монеток, и ребята, ускользнув из дому, покупают у торговок простонародных лакомств – семечек, стручков, моченой груши.
Естественно, мать, когда замечала эти излишества Трегубова, отчитывала и его. А ему что? На словах согласится, а сам продолжает свое.
В первые годы, как помнил его Ванечка, отставной моряк любил устраивать пиры с музыкой, с шампанским. Даже и сердечная симпатия была в те годы у Трегубова – какая-то графиня, вышедшая замуж, однако, не за него, а за его приятеля. Поражение свое, по крайней мере с внешней стороны, принял он без надрыва, с мягкой какой-то грустью. Но, видимо, это наложило отпечаток на всю дальнейшую жизнь холостяка – он стал больше и и больше замыкаться. Впрочем, для такой перемены появилась потом и более значительная причина, но ее Ванечка узнал много позже.
Изредка наведывались к Трегубову два наиболее близких ему приятеля, оба помещики. Один – маленький худенький старичок, ценитель Вольтера и вообще исключительно французских авторов – постоянно жил в своей великолепной загородной усадьбе, украшенной на манер Версаля всевозможными фонтанами, мраморными нимфами и стрижеными деревьями.
Второй был совсем иного толка – тихий, застенчивый, совсем неученый, с вечной пенковой трубкой во рту, предоброй души человек.
В город они наведывались только по случаю выборов и останавливались всегда у Трегубова. «С утра, бывало, они все трое лежат в постелях, куда им подавали чай или кофе. В полдень они завтракали. После завтрака опять забирались в постели. Так их заставали и гости. Редко только, в дни выборов, они натягивали на себя допотопные фраки, или екатерининских времен мундиры и панталоны, спрятанные в высокие сапоги с кисточками, надевали парики, чтоб ехать в дворянское собрание на выборы. Какие смешные были все трое! Они хохотали, оглядывая друг друга, а мы, дети, глядя на них». Так вспоминал впоследствии писатель.
Сперва Ваня учился в одном из городских пансионов. Содержательницей этого крошечного заведения была небогатая дама-чиновница. Дама оказалась презлая, за огрехи в чистописании стегала ребят ремнем по пальцам. Проучился у нее Гончаров недолго.
Как-то в их дом наведался представительный молодой батюшка по имени Федор из богатого заволжского села Репьевка. Отца Федора хорошо знали и в городе, и многие за честь считали водить с ним знакомство. Был он, говорят, искусный проповедник, а вместе с тем не гнушался светскими науками, читал на разных языках, а женат был – непривычно для своего сана – на немке. Вместе с супругой они устроили в Репьевке пансион, и, похоже, дела там велись куда лучше, чем в симбирских школках, потому что многие дворяне здешние посылали своих отпрысков к отцу Федору. Сговорились и насчет Вани Гончарова. Его провожала целая толпа народу – мама, брат с сестрами, крестный и няня, повара и лакеи, горничные, кучера, девки, стар и млад. Он любил этот толстостенный двухэтажный каменный дом, построенный еще дедом, громадный двор с флигелем, со всякими хозяйственными постройками – кладовыми, конюшней, ледником, сараями, сеновалами, амбарами, просторным, взбирающимся на гору садом. У него тут было столько укромных уголков, лазеек в зарослях крапивы и лебеды, любимых деревьев, щелей в заборах, потайных ямок, куда он закапывал свои заветные вещицы, чтобы назавтра откопать и снова играть с ними. Тут, в тени поленниц и амбарушек, росли какие-то сладкие безымянные травки, которые они, дети, любили жевать.
Это было для него первое большое путешествие. Переправа через Волгу, особый, ни на что не похожий запах реки – запах мокрого песка и двустворок, рыбной сырости и тугого полынного ветра… Потом дорога мимо шуршащих камышом стариц и дальше лесом и степью. До Репьевки было двадцать верст, и ехали не спеша, несколько часов. В селе – большой, свежевыкрашенный каменный храм, имение барыни с регулярным садом, а за околицей – старые дубовые рощи. Мальчика эти рощи особо поразили. Сколько потом часов он провел с ребятами в их тени, как там бегалось и как лежалось на шелковистой невлажной траве, как дышалось во всю грудь душистым настоем сухого чистого воздуха! А прогулки осенью по бронзовому настилу листвы, а собирание желудей, твердых, отполированных, будто отлитых из металла… А шелест рыжих неопавших листьев под зимним ветром, а первые светло-зеленые кружева на ветвях по весне… Каждый лист разгибается, выравнивается, темнеет, и вот уже на многих появились бородавчатые шарики, почти белые на цвет, но зато чернила из этих шариков получаются самые черные.
Дубовые рощи и библиотека отца Федора остались двумя главными впечатлениями Вани от Репьевки. Здесь он приохотился помногу читать и полюбил суровую важность стихов Державина, где каждое слово звенело и благоухало, а все вместе они напоминали какую-то священную дубовую сень. Еще из старых русских авторов он узнал Ломоносова, Фонвизина и малопонятного Хераскова. Потом неожиданно напал на прозу Карамзина. Ему объяснили, что это писатель их, симбирский, а дом его стоит на самом Венце, он хорошо ему был виден, когда переправлялись через Волгу, и чем дальше отплывали, тем симбирские горы разрастались все выше и шире, а дом на Венце белел из-за зелени все заметнее.
В пансионе их обучали сразу двум иностранным языкам – французскому и немецкому. Первому, как тогда л полагалось, уделяли особое внимание, и вскоре мальчик стал почитывать и французов, все подряд, без разбору, – разрозненные тома Расина, Вольтера, Руссо. За внеклассным чтением своих подопечных наставники совсем не следили, и Ваня не знал удержу. То вытащит ив груды книг Ратклиф, то Торквато Тассо, то Стерна, а то вдруг и немецкого мистика Эккартсгаувена. Для более слабой натуры подобная пища оказалась бы, пожалуй, губительной, но этот как-то все умудрялся переваривать и притом оставаться все таким же розовощеким, бойким, подвижным мальчишкой, каким и прибыл в пансион. Разбуженная книгами фантазия работала без удержу, воображению грезились дальние страны, их диковинные жители, крушения кораблей, крики жестоких преследователей – но тут ребята ввали его играть, и он мигом все забывал, снова кровь приливала к лицу, и глава сияли радостью…
Здесь он провел два полных учебных года, отсюда ездил домой на вакации, сюда среди зимы сердобольная Авдотья Матвеевна передавала своему меньшенькому коробки и свертки со всякими пирогами и сдобами.
Иногда, жуя пышный пирог с маком, и он взгрустнет по матери и крестному, по брату с сестрицами.
Летом 1822 года десятилетнего Ваню забрали иэ Репьевки. Немного он пожил дома – и снова в дорогу, ив. сей раз куда более дальнюю. Обоих братьев решено было определить в Московское коммерческое училище. Авдотья Матвеевна надеялась, что они пойдут по торговой части и унаследуют отцово предприятие. Вот и конец беззаботному детству, пора определяться в жизни. Мать хотя и ее пожилая еще женщина, но не вечно же ей заниматься хозяйством. Пусть ребята постепенно осваиваются с тем, что скоро они станут главными в этом доме.
…Прошел год, другой, третий. В летние месяцы мальчики приезжали в Симбирск. Сколько затевалось тогда хлопот вокруг них, слезных «ахов» и «охов»! Все бегали будто очумелые, стараясь накормить их повкусней да побольше, а то совсем, бедненькие, отощали на казенных харчах. А крестный по-прежнему завывал к себе, угощал сластями ив заветного шкапчика, а когда закладывали бричку для ежедневного моциона, брал с собой Ваню. Похоже, он совсем не замечал, что ребята уже весьма повзрослели, и, как в былые годы, приказывал кучеру останавливаться у тех же кондитерских лавок.